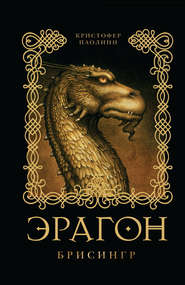скачать книгу бесплатно
У Слоана перехватило дыхание.
– С Рораном! Как же он сюда попал? Это что же, раззаки и его в плен взяли? Или…
– Раззаки и те, на ком они ездили, мертвы.
– Неужели это ты их убил? Но как?.. И кто?.. – Слоан на мгновение застыл, словно споря с собственным телом, которым не в силах был как следует управлять, потом щеки и губы его бессильно обвисли, плечи поникли, и он ухватился за ветку куста, чтобы не упасть. Качая головой, он бормотал: – Нет, нет, нет… Нет! Этого не может быть! Раззаки говорили об этом, они требовали ответов, которых у меня не было, но я ведь думал… Да с другой стороны, кто бы поверил?.. – Грудь его вздымалась с такой силой, что Эрагон даже подумал, как бы она не разорвалась. Задыхающимся шепотом, словно его только что ударили под дых, Слоан прохрипел: – Неужели… Нет, не может быть! Ты ведь, конечно же, не тот самый Эрагон?
Ощущение неизбежности окутало Эрагона. Он чувствовал себя жалким инструментом в руках судьбы, этого безжалостного повелителя, и ответил соответственно, нарочито замедлив свою речь и каждое слово роняя тяжело, точно удар молота, и отчетливо сознавая свой нынешний статус.
– Да, я тот самый Эрагон. Мало того. Я еще и Аргетлам, и Губитель Шейдов, и Огненный Меч. А дракона моего зовут Сапфира; она известна также под именами Бьяртскулар и Огненный Язык. Нашим учителем мы считаем Брома, который тоже когда-то давно был Всадником; а также мы учились у эльфов и гномов. Мы сражались с ургалами, с шейдом и с Муртагом, сыном Морзана. Мы служим варденам и народу Алагейзии. И это я принес тебя сюда, Слоан, сын Алденса, и намерен судить тебя за убийство Бирда, за предательство жителей Карвахолла, которых ты выдал имперским войскам.
– Ты лжешь! Ты не можешь быть…
– Лгу? – взревел Эрагон. – Нет, мясник, я не лгу! – И он мысленно проник в сознание Слоана, заставив мясника вспомнить все то, что подтверждало справедливость его, Эрагона, слов. Ему также хотелось, чтобы Слоан почувствовал его силу, его нынешнее могущество и понял, что он, Эрагон, уже более не просто человек. И хотя даже самому Эрагону эта последняя мысль не очень-то нравилась, он все же наслаждался тем, как легко сейчас ему управлять сознанием этого человека, столько раз обижавшего и оскорблявшего и самого Эрагона, и его семью и доставившего столько горя жителям Карвахолла. Сознание Слоана он покинул довольно быстро, пробыв там примерно с минуту. Мясника била дрожь, однако на землю он не рухнул и не стал пресмыкаться, как ожидал от него Эрагон. Напротив, через какое-то время Слоан взял себя в руки, и поведение его совершенно переменилось; теперь он был крепок, как кремень, и холодно заявил Эрагону:
– Черт возьми, Эрагон Ничейный Сын, я вовсе не обязан раскрывать перед тобой душу! А впрочем, постарайся понять: все это я сделал только ради Катрины.
– Я знаю. И только по этой причине ты до сих пор еще жив.
– Что ж, делай со мной, что хочешь. Мне все равно, раз она в безопасности. Ну же, давай! Что ты еще можешь со мной сделать? Избить до полусмерти? Жечь каленым железом? Глаза мне уже выкололи, так что осталось только руку отнять. Или, может, ты оставишь меня умирать здесь от голода? Если, конечно, меня снова не возьмут в плен слуги Империи…
– Я еще не решил.
Слоан кивнул, резким движением запахнул свои изорванные лохмотья, пытаясь хоть как-то защититься от ночного холода, и гордо выпрямился, точно взятый в плен воин. Он смотрел безжизненными пустыми глазницами во тьму, окутавшую их лагерь, и ни о чем не молил, не просил его помиловать, не отрицал своих преступлений, не делал попытки подкупить Эрагона. Он просто сидел и ждал, точно в доспехи закованный в абсолютное стоическое молчание.
На Эрагона его мужественное поведение, надо сказать, произвело сильное впечатление.
Темное пространство вокруг них казалось бескрайним, но Эрагону отчего-то представлялось, что оно потихоньку смыкается, точно пытаясь поймать их в невидимые сети, и от этого ощущения необъяснимая тревога, которую он испытывал из-за необходимости делать столь непростой выбор, становилась только сильнее. «Ведь от моего приговора зависит вся его дальнейшая жизнь», – думал он.
На время отодвинув вопрос о наказании Слоана, Эрагон прикинул: а что он, собственно, о нем знает? Этот человек самозабвенно любит свою дочь – собственнической, эгоистичной, какой-то нездоровой любовью, имеющей, впрочем, определенную связь с той ненавистью и страхом, которые он испытывает к Спайну, месту гибели его жены Измиры и вечному источнику его тоски. Он сторонится своих родственников, но очень гордится своей работой и любит ее. А еще Эрагон вспомнил кое-какие истории о трудном детстве Слоана. Впрочем, он и сам очень неплохо знал, каково это – жить в Карвахолле, не имея родителей.
Эрагон так и сяк крутил эти разрозненные сведения и воспоминания, размышляя над их сутью и смыслом и пытаясь пригнать их друг к другу, точно разрозненные детали головоломки. Это плохо ему удавалось, однако он был упорен и вскоре выследил немало связей между событиями и чувствами, наполнявшими жизнь Слоана, и у него получился не совсем ясный, но все же вполне правдоподобный портрет того, кем был этот непростой человек. Вплетя в свой мысленный гобелен последнюю нить, Эрагон почувствовал, что вроде бы стал понимать даже причины предательства Слоана. В общем, теперь он до некоторой степени чувствовал этого человека.
И не только чувствовал; ему казалось, что он его понимает, что ему удалось вычленить те основы, что составляют личность Слоана, те элементы, без которых он оказался бы совершенно иным человеком. И тут ему на ум пришли три слова древнего языка, которые, казалось, полностью вмещали в себя сущность Слоана, и, ни секунды не думая, Эрагон неслышно прошептал эти три слова.
Слоан не мог этого слышать, однако же вздрогнул, впился пальцами в ляжки, и на лице его возникло тревожное выражение.
Холодные мурашки поползли по телу Эрагона, по его рукам и ногам, когда он увидел, как мясник реагирует на его, Эрагона, раздумья. Он даже попытался найти какое-то объяснение подобной реакции, и каждое из этих объяснений оказывалось более невероятным и запутанным, чем предыдущее. Лишь одно из них в итоге показалось ему более-менее приемлемым, но даже и с ним он никак не мог полностью согласиться. Он снова прошептал три заветных слова, и, как и в предыдущий раз, Слоан беспокойно заерзал и почти неслышно пробормотал: «Кто там топчет мою могилу?..»
Эрагон медленно выдохнул, не в силах поверить собственной догадке. Однако проделанный опыт не оставлял места сомнениям: он совершенно случайно угадал истинное имя Слоана! Это открытие даже слегка ошеломило его. Знать чье-то истинное имя – тяжкая ответственность, ибо это дает полное право властвовать над тем, кому это имя принадлежит. Подобные знания таят в себе множество тайных опасностей, а потому эльфы, например, крайне редко открывают кому-то свои истинные имена, а уж если открывают, то только тем, кому доверяют без оглядки.
Прежде Эрагону никогда еще не доводилось узнать чье-то истинное имя. И он всегда думал, что если это случится, то только как некий дар от того, кого он очень любит, ради кого готов даже жизнью своей пожертвовать. То, что он сам и без согласия Слоана узнал его истинное имя, было просто стечением обстоятельств, и Эрагон оказался совершенно к этому не готов, а потому пребывал в неуверенности, не зная, что с этим знанием делать. Особенно его угнетало то, что истинное имя Слоана он мог узнать только в том случае, если понимал этого человека лучше, чем самого себя, тогда как своего собственного имени Эрагон так и не знал, и у него не было на этот счет ни малейших догадок.
Вот что совершенно выбило его из колеи. Он подозревал, зная природу своих врагов, что о себе самом ему известно далеко не все и это вполне может оказаться для него смертельно опасным. И вот сейчас, в эту самую минуту, Эрагон поклялся себе, что непременно уделит значительно больше времени изучению собственного «я» и попытается все же узнать, каково его истинное имя. Он очень надеялся, что в этом ему смогут помочь Оромис и Глаэдр.
Какие бы сомнения, какую бы бурю чувств ни вызвало в его душе случайное обнаружение истинного имени Слоана, это все оказалось для него полезным, ибо дало ему некую подсказку относительно того, как ему поступить с мясником. Однако, хотя общий план действий был ему теперь ясен, он все же некоторое время еще прикидывал, удастся ли ему воплотить этот план в жизнь именно так, как хотелось бы.
Слоан слегка качнул головой и повернулся к Эрагону, когда тот встал и сделал несколько шагов за пределы круга, освещенного слабеньким светом костерка.
– Куда ты идешь? – спросил Слоан.
Эрагон не ответил и ушел во тьму.
Он бродил по этой дикой местности довольно долго, пока не отыскал низкий широкий камень, покрытый пятнами лишайников с чашеобразным углублением посредине.
– Адурна рийза! – сказал он, и вокруг этой естественной каменной чаши возникло множество изящных изогнутых серебристых трубочек, по которым в нее стали по капельке стекать те запасы влаги, что таились в почве. Когда углубление в камне наполнилось водой и эта вода, вызванная силой магического заклятья, стала возвращаться обратно в землю, Эрагон остановил чары.
Он выждал, когда поверхность воды станет абсолютно спокойной и застывшей, как зеркало, и опустился перед камнем на колени. В тихой воде плавали отражения звезд.
– Драумр копа! – сказал Эрагон и прибавил еще несколько древних слов, составлявших заклинание, позволяющее видеть других на расстоянии и говорить с ними. Оромис научил его пользоваться этим «магическим зеркалом» за два дня до того, как они с Сапфирой улетели из Эллесмеры в Сурду.
Вода казалась совершенно черной, а отражавшиеся в ней звезды были похожи на горящие свечи. Вскоре в центре водяного зеркала появилось светлое пятно овальной формы, затем изображение стало более четким, и Эрагон узнал внутреннее убранство большого белого шатра, в котором горел лишенный пламени красный эльфийский светильник эрисдар.
Обычно Эрагону не удавалось даже в «магическом кристалле» увидеть человека или место, которых он никогда прежде не видел, однако эльфийское «говорящее зеркало» обладало возможностью передать нужное изображение любому, кто в него заглянет. Но и «по ту сторону» собеседник Эрагона видел и его самого, и то, что его окружало. Таким образом могли общаться друг с другом даже совершенные незнакомцы, находясь при этом в любом уголке света, что было особенно важно, скажем, во время войны.
В поле зрения Эрагона попал высокий эльф с серебристыми волосами и в доспехах, явно поврежденных в бою. В нем Эрагон узнал лорда Даэтхедра, советника королевы Имиладрис и друга Арьи. Если Даэтхедр и был удивлен, увидев Эрагона, то никак этого не проявил; он лишь поклонился, привычным жестом коснулся двумя пальцами губ и сказал своим певучим голосом:
– Атра эстерни оно тхельдуин, Эрагон Шуртугал.
Эрагон в точности повторил жест эльфа и ответил тоже на древнем языке:
– Атра дю эваринья оно варда, Даэтхедр-водхр.
– Рад узнать, что у тебя все хорошо, Губитель Шейдов, – продолжил на языке эльфов Даэтхедр. – Арья-дрётнингу несколько дней назад сообщила нам о твоей миссии, и мы весьма тревожились о тебе и Сапфире. Я надеюсь, тебе все удалось?
– Да, но у меня возникла некая непредвиденная проблема, и я, если можно, хотел бы получить мудрый совет королевы Имиладрис, ибо не знаю, как мне поступить.
Даэтхедр прикрыл веками свои кошачьи глаза, отчего они превратились в две изогнутые щелки, а на лице его появилось непроницаемое и довольно свирепое выражение.
– Я знаю, ты не попросил бы об этом без крайней нужды, Эрагон-водхр, но имей в виду: снятый с плеча лук может столь же легко и ранить самого лучника, и его врага… А теперь, если угодно, подожди: я справлюсь, согласится ли королева побеседовать с тобой.
– Конечно, я подожду. От всей души благодарю тебя за содействие, Даэтхедр-водхр.
Когда эльф отвернулся от волшебного зеркала, Эрагон невольно поморщился. Ему не нравилась чрезмерная светскость эльфов, но больше всего он ненавидел то, что никогда нельзя сразу разобраться в их витиеватых заявлениях. «Неужели нельзя ответить прямо? О чем он предупреждал меня? То ли о том, что плести заговоры вокруг королевы – дело опасное и напрасное, или же о том, что Имиладрис и есть тот самый снятый с плеча лук, готовый выстрелить? А может, он имел в виду нечто совсем иное?»
Однако же он решил, что все не так уж плохо, раз ему удалось связаться с эльфами. Они окружили свое убежище такими невероятно мощными магическими средствами защиты, что проникнуть в волшебный лес Дю Вельденварден было почти невозможно ни мысленно, ни физически. Пока эльфы находились в своих лесных городах, с ними можно было общаться только посредством посланников. Но теперь, когда они вышли в поход и покинули свои тенистые сосновые леса, их великая магия более уже не являлась столь непреодолимой защитой, вот почему и Эрагону удалось установить с ними связь с помощью волшебного зеркала.
Однако прошла минута, вторая, но Даэтхедр не появлялся. И Эрагон начинал тревожиться.
– Ну же! – шептал он и тут же оглядывался, чтобы убедиться, что никто, ни зверь, ни человек, не подкрался к нему и не подслушивает, пока он смотрит в эту каменную чашу с водой.
Наконец со звуком, напоминающим звук рвущейся материи, распахнулся полог шатра; оттуда стремительно вышла королева Имиладрис и направилась прямо к волшебному зеркалу. На ней были блестящие доспехи, напоминавшие золотистую чешую, кольчуга, поножи и изящный шлем, украшенный драгоценными каменьями, из-под которого водопадом падали на плечи ее роскошные черные кудри. Отделанный белым мехом капюшон красного плаща был отброшен, и вся она вообще напоминала Эрагону грозовую тучу, в которой сверкают молнии. В левой руке Имиладрис сжимала обнаженный меч, а правая была как будто в алой перчатке, и лишь через несколько секунд Эрагон понял, что эта рука у нее окровавлена.
Разлетающиеся брови Имиладрис чуть сдвинулись, когда она глянула на Эрагона. Этим жестом она невероятно походила на Арью, хотя ее стать и повадка были куда более царственными, чем у дочери. Имиладрис была одновременно прекрасна и ужасна, точно устрашающая богиня войны.
Эрагон коснулся двумя пальцами губ, затем совершил весьма сложное движение правой рукой, выражая королеве эльфов свою верность и почтение, затем первым, как и полагалось, произнес первую строку их длинного традиционного приветствия, ибо Имиладрис была, безусловно, значительно выше его по положению. Она ответила соответствующим образом, и Эрагон, пытаясь доставить ей удовольствие и продемонстрировать свое знание эльфийских обычаев, завершил этот обмен приветствиями третьей строкой официальной формулы:
– И да пребудет мир в сердце твоем!
Яростное выражение лица Имиладрис несколько смягчилось, слабая улыбка тронула ее губы; она как бы признавала, что разгадала его маневр и благодарна ему за соблюдение всех эльфийских обычаев.
– И в твоем сердце да пребудет мир, Губитель Шейдов. – В низком грудном голосе королевы слышались, казалось, и шелест сосновых игл, и журчание ручьев, и нежная музыка эльфийских тростниковых свирелей. Сунув меч в ножны, она вошла в шатер и остановилась у раскладного походного столика, смывая кровь с руки водой из кувшина. – Боюсь, правда, мир в наши дни трудно достижим.
– Идут тяжелые бои, ваше величество?
– Они грядут вскоре. Мой народ собирается у западных границ Дю Вельденвардена; мы готовимся убивать и умирать, находясь как можно ближе к столь любимым нами деревьям. Эльфы рассеяны по всему свету и не привыкли маршировать рядами и колоннами, как другие народы – чем они, кстати, причиняют земле огромный ущерб, – так что нам требуется время, чтобы собраться вместе, ибо еще далеко не все прибыли из наиболее отдаленных концов Алагейзии.
– Я понимаю. Только… – Эрагон пытался как-то так задать свой вопрос, чтобы не показаться грубым. – Только если сражение еще не началось, то отчего же вся твоя рука в крови?
Стряхивая с пальцев капли воды, Имиладрис показала ему свою идеальной формы золотисто-смуглую руку, и Эрагон понял, что именно ее руки служили моделью для той скульптуры – двух переплетенных рук, – что стояла в Эллесмере у входа в его дом-дерево.
– Видишь? Она уже чиста. Кровь оставляет пятна на душе, а не на теле. Я сказала тебе, что нам предстоят тяжелые бои в будущем, а не то, что мы их до сих пор еще не начали. – Она поправила рукав нижней сорочки, натянув его до запястья, а из-под украшенного самоцветами пояса извлекла латную перчатку, расшитую серебряной нитью, и спрятала в нее раненую руку. – Мы рассматривали в качестве первого объекта для атаки город Кевнон. Два дня назад наши разведчики выследили караваны людей и мулов, которые тянутся от Кевнона к лесу Дю Вельденварден. Сперва мы думали, что они просто хотят собрать на опушке срубленные деревья, как делают довольно часто. Мы это терпим, поскольку людям необходим лес, а деревья на опушке молоды и почти не подчиняются нам, да и мы сами не имеем особого желания раньше времени обнаруживать себя. Однако же те караваны на опушке не остановились, а углубились в чащу по тем звериным тропам, которые, очевидно, хорошо знакомы их проводникам. Для порубки они выискивали самые высокие и мощные деревья – деревья, столь же древние, как и сама Алагейзия, деревья, которые уже были взрослыми, когда гномы основали свой город в горе Фартхен Дур. – Голос Имиладрис задрожал от гнева. – По отдельным репликам этих людей мы поняли, зачем они проникли в наш лес и валят эти деревья. Гальбаториксу нужны были самые мощные древесные стволы для изготовления новых осадных и стенобитных орудий, многие из которых он утратил или сильно повредил во время сражения на Пылающих Равнинах. Если бы намерения этих людей были чисты и честны, мы, возможно, и простили бы им потерю одного из патриархов нашего леса. Может быть, даже двух. Но не двадцати восьми!
У Эрагона по спине пополз холодок.
– И что же вы сделали? – спросил он, хотя и так уже знал ответ на свой вопрос.
Имиладрис гордо вскинула голову; лицо ее словно окаменело.
– Я была там вместе с двумя нашими разведчиками. Вместе мы исправили ошибку, совершенную этими людьми. В былые годы жители Кевнона гораздо лучше знали, что не стоит вторгаться в наши владения. Сегодня мы им напомнили, почему это так. – Она то и дело невольно потирала правую руку – видимо, та все-таки еще сильно болела. Словно погруженная в собственные мысли, она долго смотрела куда-то в сторону, потом задумчиво промолвила: – Ты уже понял, Эрагон-финиарель, что значит иметь возможность соприкасаться с жизненной силой тех растений и животных, которые тебя окружают. Представь себе, как, с какой любовью и нежностью ты относился бы к ним, если бы владел этой способностью в течение многих веков. Мы, эльфы, отдаем часть своей энергии, поддерживая жизнь Дю Вельденвардена; этот лес является истинным продолжением нашего тела, нашей души. И если ему наносят ущерб, его наносят и нам… Эльфов трудно вывести из себя и заставить воевать, но если уж это произошло, то мы ведем себя, как драконы, ибо гнев наш поистине не знает пределов. Прошло уже более ста лет с тех пор, как мы, я и большая часть моего народа, проливали кровь в бою. И этот мир забыл, на что мы способны. Наши силы, возможно, несколько ослабели после падения Всадников, но мы по-прежнему вполне способны до конца отомстить за себя; и нашим врагам будет казаться при этом, что против них восстали даже сами силы природы. Мы – Старейший Народ; наши умения и знания намного превосходят умения и знания смертных. И я бы советовала Гальбаториксу и его союзникам быть осторожнее, ибо если эльфы и покинут свой лес – а они вот-вот это сделают, – то вернутся они туда с победой или не вернутся никогда.
Эрагон вздрогнул. Даже во время своего сражения с Дурзой он не чувствовал в своем противнике столь непреклонной решимости и безжалостности. «Да, это, конечно, совсем не люди, – подумал он и сам же над собой посмеялся. – Ну, естественно, нет! И мне надо хорошенько это запомнить! Как бы сильно мы не походили друг на друга внешне – а уж я-то теперь и вовсе выгляжу почти как эльф – мы далеко не одно и то же».
– Но если вы возьмете Кевнон, – сказал он, – то как поступите с тамошними жителями? Они, может, и ненавидят Империю лютой ненавистью, но я все же сомневаюсь, что они так уж сразу захотят подчиниться и довериться вам. Хотя бы потому, что привыкли не слишком доверять эльфам.
Имиладрис только отмахнулась:
– Это совершенно не важно. Как только мы окажемся за городской стеной, то сумеем найти такой способ, чтобы никто даже не вздумал пойти против нас. Мы ведь не впервые будем сражаться с вашим народом. – Она сняла свой шлем, и ее черные, как вороново крыло, кудри рассыпались по плечам и по спине, точно в раму заключив ее тонкое лицо. – Да, между прочим, мне не доставило ни малейшей радости известие о твоем налете на Хелгринд. Насколько я знаю, все завершилось довольно успешно?
– Да, ваше величество.
– Тогда мои возражения лишены смысла. Однако же предупреждаю тебя, Эрагон Шуртугал, не подвергай себя опасности понапрасну, ввязываясь в бессмысленные авантюры. Вынуждена сказать тебе – хоть это и звучит довольно жестоко, но является вполне справедливым, – что твоя жизнь сейчас для всех нас куда важнее, чем личное счастье твоего двоюродного брата.
– Но я дал Рорану клятву, что непременно помогу ему.
– В таком случае ты проявил непростительную беспечность, ибо не учел возможных последствий.
– Неужели ты хотела бы, чтобы я бросил в беде тех, кого люблю? Если бы я это сделал, то поистине был бы достоин презрения и недоверия. Разве после такого поступка мне стали бы верить люди, которые надеются, что я смогу каким-то образом непременно свергнуть Гальбаторикса? А кроме того, пока Катрина была заложницей Гальбаторикса, Роран был весьма уязвимой мишенью для его всевозможных манипуляций. Он ведь мой брат.
Королева приподняла заостренную, как кинжал, бровь.
– Кстати, ты мог бы существенно уменьшить уязвимость Рорана, обучив его кое-каким заклинаниям, языку магии… Это во-первых. А во-вторых, я вовсе не требую, чтобы ты отрекся от своих друзей или родных. Это было бы полным безумием с моей стороны. Но ты должен очень четко сознавать, что именно сейчас стоит на кону: целостность Алагейзии и единство всех ее сил. Если мы сейчас проиграем, то тирания Гальбаторикса распространится на все народы, и тогда его правлению не будет конца. Ты сейчас – как бы наконечник копья, а его древко – это наши совместные усилия; но если наконечник сломается, то и копье отскочит от доспехов противника, а значит, все мы можем погибнуть.
Сухие лишайники заскрипели под пальцами Эрагона, с такой силой он стиснул края каменной чаши, пытаясь подавить желание немедленно возразить Имиладрис и сообщить ей, что у всякого хорошо экипированного воина помимо копья должен быть еще меч и другое оружие. Он был страшно огорчен тем, какое направление приняла их беседа, и хотел как можно скорее переменить тему. Он не устанавливал с королевой эльфов мысленной связи, и теперь она могла отчитывать его, как ребенка. Это его злило, однако он понимал, что если позволит своему нетерпению взять над ним верх, то ровным счетом ничего не добьется и никакого совета от нее не получит, а потому, стараясь держаться спокойно, он ответил:
– Прошу вас, ваше величество, верьте мне. Я всем сердцем разделяю ваши заботы и устремления, ибо они являются и моими. В свое оправдание я могу лишь сказать, что если бы я не помог Рорану, то до конца жизни презирал бы себя, особенно если бы он погиб, пытаясь самостоятельно освободить Катрину. И в таком случае я все равно уже не смог бы никому принести пользу. Не могли бы мы остаться каждый при своем мнении и переменить тему разговора? Ведь ни один из нас другого, похоже, не убедит.
– Хорошо, – кивнула Имиладрис. – Оставим пока эту тему… Но только пока. И не думай, что мы еще не вернемся к этому разговору, Эрагон-Всадник. На мой взгляд, ты слишком вольно относишься к своим, куда более важным, обязанностям, и это очень серьезный вопрос. Я непременно поговорю об этом с Оромисом; пусть он решит, что нам с тобой делать. А теперь рассказывай, зачем тебе понадобился мой совет?
Эрагон даже зубами скрипнул, но все же заставил себя говорить с властной эльфийской королевой в высшей степени почтительно и любезно. Он быстро рассказал ей о событиях минувшего дня, о причинах того, почему он спас Слоана, и о том наказании, которое для него предполагает.
Когда он умолк, Имиладрис ответила не сразу. Она отвернулась от него и принялась мерить шагами свой шатер; движения у нее были гибкие и точные, как у кошки. Затем, резко остановившись, она сказала:
– Ты предпочел остаться один в самом сердце Империи, спасая жизнь убийце и предателю. У тебя не было ни коня, ни припасов, ни оружия; ты был вооружен одной лишь магией, а твои враги преследовали тебя почти по пятам. Насколько я вижу, мои предшествующие упреки в твой адрес оказались более чем справедливыми, ты…
– Ваше величество, я вижу, вы гневаетесь на меня, но прошу вас: обрушьте на меня всю силу вашего гнева чуть позже. Мне необходимо как можно быстрее решить, как поступить со Слоаном, а потом хоть немного отдохнуть до рассвета; ведь завтра мне предстоит пробежать еще немало миль.
Королева кивнула.
– Да, ты прав. Единственное, что сейчас имеет значение, – это твоя жизнь. Я согласна продолжить наш разговор позже, но предупреждаю: тебе не поздоровится! Что же касается твоей просьбы, то подобного в нашей истории я не помню. На твоем месте я наверняка попросту убила бы этого Слоана и навсегда освободилась от всех связанных с этим проблем.
– Я знаю, что именно так ты бы и поступила. Я однажды видел, как Арья убила раненого ястреба, объяснив мне, что смерть его неизбежна и она лишь избавляет птицу от нескольких часов ненужных страданий. Возможно, мне следовало бы точно так же поступить и со Слоаном, но я не смог. Наверное, я совершил поступок, о котором я стану сожалеть до конца своей жизни. Но если бы я все же убил его, это было бы еще хуже, ибо впоследствии я научился бы убивать не задумываясь.
Имиладрис вздохнула. Она вдруг показалась Эрагону очень усталой, и он напомнил себе, что королева целый день провела в сражении.
– Оромис, возможно, и был твоим учителем, но ты только что доказал, что в действительности ты – истинный ученик и последователь Брома. Бром, и только Бром был способен, как и ты, опутывать себя всевозможными сложностями. Как и он, ты, похоже, приговорен выискивать самое глубокое место в зыбучих песках, а потом без оглядки бросаться туда.
Эрагон подавил невольную улыбку; он был страшно польщен тем, что Имиладрис сравнивает его с Бромом.
– Ну, так как же мне быть со Слоаном? – спросил он. – Его судьба теперь от тебя зависит, госпожа моя.
Имиладрис медленно присела на стул возле складного столика и, положив руки на колени, стала смотреть куда-то в угол волшебного зеркала с выражением глубокой и загадочной задумчивости. Эрагон понимал, что это лишь прекрасная маска, скрывающая ее истинные мысли и чувства, но проникнуть под эту маску он не мог и даже не пытался. Наконец она снова заговорила:
– Раз ты оказался способен, почти не задумываясь, спасти этому человеку жизнь, то и я не могу отказать тебе в твоей просьбе, дабы не сделать бессмысленной принесенную тобой жертву. Если Слоан переживет уготованные тобой испытания, тогда Гилдерин Мудрый позволит ему пройти и получить у нас и кров, и мягкую постель, и вдоволь пищи. Больше я ничего не могу тебе обещать, ибо то, что может случиться в дальнейшем, полностью зависит от самого Слоана; но если все те условия, которые ты перечислил, будут им соблюдены, тогда мы постараемся впустить луч света в окружившую его тьму.
– Спасибо, ваше величество. Вы чрезвычайно великодушны.
– Нет, это отнюдь не великодушие, Эрагон. Война не дает мне права быть великодушной; я всего лишь проявляю здравый смысл. Так что ступай своей дорогой и делай то, что должен, но прошу тебя, будь осторожен, Губитель Шейдов.
– Ваше величество… – Эрагон поклонился. – Могу ли я попросить о последнем одолжении? Не стоит пока сообщать Арье, Насуаде или кому-либо из варденов о моем нынешнем положении. Очень вас прошу не делать этого. Я не хочу, чтобы они тревожились обо мне дольше и больше, чем нужно. Да и все равно они скоро обо всем узнают от Сапфиры.
– Я подумаю над твоей просьбой.
Эрагон еще немного выждал, но Имиладрис молчала, и ему стало ясно, что о своем решении она ему не скажет больше ни слова. Он снова поклонился и поблагодарил ее.
Светящееся изображение на поверхности воды мигнуло и растаяло во мраке, стоило отзвучать завершающим словам произнесенного Эрагоном заклинания. Слегка откинув голову назад, он посмотрел в небо, где слабо мерцали мириады звезд. Затем, когда глаза немного привыкли к темноте, пошел прочь от этой импровизированной каменной чаши и вскоре сквозь заросли высокой сухой травы и кустов вышел к их костру. Слоан по-прежнему сидел там, выпрямившись и застыв, точно чугунная статуя. Казалось, шагов Эрагона он не слышит.
Эрагон поддел ногой камешек, желая подсказать мяснику, что тот уже не один, и Слоан, резко повернув в его сторону голову, спросил:
– Ну что, ты решил?
– Решил, – сказал Эрагон и присел перед мясником на корточки, слегка опираясь на одну руку. – Слушай меня внимательно, ибо повторять я не намерен. Итак, все свои преступления ты совершил, по твоим словам, из любви к Катрине. Но я считаю – вне зависимости от того, согласен ты с этим или нет, – что у тебя имелись и другие, не менее важные для тебя, причины, чтобы разлучить ее с Рораном: гнев, ненависть, жажда мести, уязвленное самолюбие, физические страдания и так далее.
Слоан так поджал губы, что они стали похожи на две белые ниточки:
– Ты неправильно обо мне думаешь.
– Да нет, вряд ли. Поскольку совесть не позволяет мне просто убить тебя, то я придумал тебе иное наказание, тоже, по-моему, достаточно страшное. Я убежден в одном: Катрина для тебя действительно важнее всего на свете. А потому наказание твое будет следующим: до конца дней своих ты не должен видеться со своей дочерью, разговаривать с нею и касаться ее; ты будешь жить, зная, что они с Рораном счастливы вместе. И без тебя.