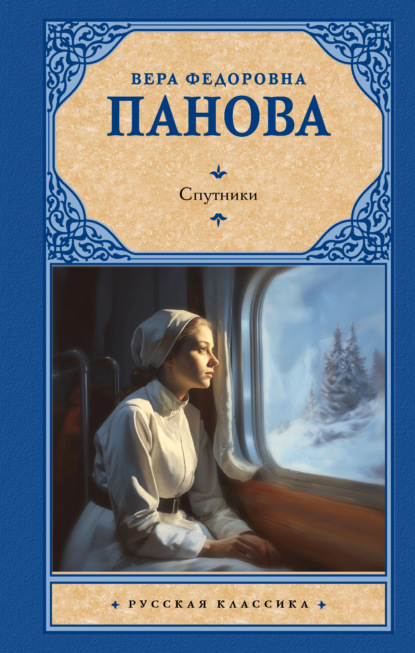
Полная версия:
Спутники
Из треста Данилов пошел к Потапенке. Около Потапенки стоял старичок лет шестидесяти, что-то, жестикулируя, рассказывал. Увидев Данилова, Потапенко сказал:
– Вот, знакомьтесь с вашим начальником поезда. Доктор Белов.
Данилов взглянул на начальника: плохонький! Росту невидного, личико худое. Начальник еще не успел переодеться в военное: брючки, ботиночки, ай-ай-ай! Что с ним, таким, делать?
Вслух Данилов сказал, ободряя старичка:
– Ничего, товарищ начальник, сработаемся!
У начальника с собой был маленький чемоданчик, к чемоданчику привязаны валенки и чайник. Начальник приехал из Ленинграда.
Неожиданно он сказал бодрым, воинственным даже голосом:
– Ну что ж, знаете, ничего не поделаешь – будем воевать!
– Вместе, – сказал Потапенко и с наслаждением посмотрел на Данилова.
– Вот именно, вместе, – сказал старичок.
Данилов позвал его к себе ночевать. Начальник бежал резво, размахивая резиновым плащом, который он нес на молодецки выгнутой руке. Чемодан его, со всеми приложениями, нес Данилов.
– Зачем вы валенки привезли? – спросил он. – Что же вы думаете, нам в армии не выдадут валенок?
– А я, видите ли, никогда не служил, – отвечал начальник, – а показания, знаете, очень противоречивы. Кто говорит – выдадут, кто – не выдадут. А одна дама, знаете, сказала, что валенок не хватит на такую армию; и кому же тогда в первую очередь дадут? Не санитарам, ясное дело. И жена уложила… На всякий случай, а? Будут, знаете, стоять где-нибудь под лавкой, не помешают, а?
– Это конечно, – улыбнулся Данилов.
За ужином начальник с аппетитом кушал, пил и щебетал об архитектуре Ленинграда, а Данилов смотрел на него и думал: «Что мы будем делать с тобой?»
На другой день с утра он пошел договариваться с электромашинистом – остальные работники были уже набраны, а начальник отправился на вагоноремонтный завод принимать состав. Предварительно звонили по телефону на завод, в эвакопункт и на вокзал, и начальник самодовольно сказал Данилову:
– Вы меня найдете на вокзале вместе с поездом.
Данилов пошел на машиностроительный. Накануне он уговорился с директором, что тот отпустит машиниста Кравцова, если сам Кравцов выразит желание служить в санитарном поезде.
Данилов понимал, почему директор так расщедрился. Просто он не прочь освободиться от Кравцова под благовидным предлогом, без скандала. Очевидно, с Кравцовым не все в порядке. Данилов наводил справку в профсоюзе. Там отвечали уклончиво: машинист высокой квалификации, достоин всяких похвал, а так – какой же человек без греха?..
– Он что, выпивает? – спросил Данилов.
– С кем не бывает! – ответили ему.
У дизеля находился помощник; Кравцов завтракал. Он сидел на опрокинутом ящике с бутылкой молока в руке. У него было сухое, изможденное и строгое лицо угодника. Горячий ветер, поднятый дизелем, развевал седой хохолок над его лбом.
– Ну как? – спросил Данилов. – Согласны в санитарный поезд?
Кравцов поставил бутылку на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. Неподкупно-суровым взглядом он рассматривал Данилова.
– В поезд? – переспросил Кравцов. – Я – хоть под поезд! Выручайте меня отсюда, я тут ни одного дня не желаю быть.
– Что так? – спросил Данилов ласково. – Не поладили?
– Знаете что, товарищ комиссар, – сказал Кравцов, – давайте играть в светлую. Я не мальчик. Это понятно?
– Вполне, – сказал Данилов.
– Я обучил всех дизельщиков, сколько их ни есть в городе. Мне этого не надо, чтобы комсомольцы делали мне замечания.
Он встал и вложил маленькие замасленные руки в карманы широких замасленных штанов.
– В стенгазете – Кравцов. На собраниях – Кравцов. Выговор в приказе – Кравцову. Мне самокритики этой не надо. Я вам заявляю откровенно. Орут, что я в пьяном виде попаду под колесо. Я – под колесо! – Кравцов усмехнулся, как Мефистофель. – А спросите у них: была у нас хоть одна, хоть пустяковая авария с энергией?.. Вот сейчас как, по-вашему: я выпивши?
– Немножко, – осторожно сказал Данилов.
Кравцов покачал головой.
– Нет, не немножко, а в самую меру, по утреннему времени. И вот – будет перерыв, и они придут меня нюхать и делать свои замечания. Забирайте меня, товарищ комиссар, к чертовой матери, если, конечно, вас устраивают мои условия.
Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кравцова был холодно-самоуверенный, и взгляд Данилова был холодно-самоуверенный.
– Я вас забираю, – сказал Данилов.
Закончив дело с Кравцовым, он поехал на вокзал. На дальних путях, около какого-то длинного серого забора, стоял новенький блестящий состав: пятнадцать темно-зеленых вагонов с красными крестами, один товарный и маленький желтый вагон-ледник. Стояла охрана – красноармеец с винтовкой.
Начальник был в штабном вагоне. Он ходил по коридору и гремел ключами. Полупудовая связка ключей висела на его согнутом локте. Солнце било во все окна; пахло нагретой краской. Лицо у начальника было сморщенное, потное и счастливое.
– Вот! – сказал он, показывая Данилову связку. – От всех дверей, от всех сердец.
– Все в порядке? – спросил Данилов.
– Ну, а как вы думаете! – сказал начальник. – Там, знаете, целая комиссия была при сдаче.
– И вы все осмотрели?
– Я?.. Да.
Данилов пристально поглядел на него. Начальник опустил голову.
Он не осматривал ничего. Ему дали связку ключей, он расписался в акте, влез в штабной вагон, прицепили паровоз, и начальник поехал, забавляясь мыслью, что он один едет в семнадцати вагонах. Поезд остановился перед серым забором. Паровоз свистнул и ушел, а начальник стал прогуливаться по коридору, нетерпеливо поджидая Данилова. К Данилову он уже чувствовал привязанность.
Данилов сам прошел по составу. В самом деле, все, по-видимому, было в порядке. Так ему казалось по крайней мере. Кое-что было непонятно. Например, цинковый ящик с двумя отделениями и откидной крышкой в вагоне-кухне. Над ящиком находились краны, полочки и крюки. Данилов долго стоял и размышлял, для чего этот ящик. Позвал на консультацию Соболя, начальника АХЧ. Вдвоем сообразили: конечно, ящик – для мытья посуды.
В поезд начали сходиться люди. Поезд заселялся. Подъезжали грузовики с тюфяками, бельем, медикаментами. Данилов вместе с Соболем считал, осматривал, распоряжался – куда что поместить. Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, с алчным видом уносила в вагон-аптеку свертки с бинтами и ватой. Аптекарша залила йодом столик. И аптекарша, и Юлия Дмитриевна сразу надели белые халаты и повязали голову белым – и стало казаться, что в вагон-аптеку невозможно войти без халата. Кочегары пробовали отопительные котлы кухни и воровали на станции уголь. Девушки стелили постели, запевали песни и посматривали на Богейчука, красавца-старшину. Начальник АХЧ Соболь с Богейчуком и другими людьми сходил на продовольственный пункт и принял продукты. Лена Огородникова шла впереди всех, маленькая, легкая и прямая, с трехпудовым мешком риса на плече.
Рис, сгущенное молоко, шоколад и масло Данилов велел запереть отдельно. На ужин он приказал сварить для всего личного состава пшенную кашу.
Санитарный поезд вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции; по полдня простаивал на глухих разъездах. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними, неторопливо и неотвратимо.
На станциях ставили его на дальних путях, в стороне от вокзальной суеты. На платформах бегали, прощались, ругались, целовались, плакали, махали платками… И в угрюмом молчании смотрели на него люди, когда он проходил мимо них, нарядный и чистый, со своими красными крестами и белыми занавесками.
В ночь, описанную в начале этой главы, санитарный поезд приближался к Пскову.
Данилов шел через вагон команды, возвращаясь с обхода. Вдруг сильный толчок швырнул его в сторону. Он ударился плечом об угол верхней полки. Заскрежетали колеса. Поезд остановился.
– Что такое? – громко спросил впотьмах женский голос.
– Что такое? – спросил в темноту Данилов, высунувшись с площадки.
Покачивая фонарем, вдоль поезда шел кондуктор.
– Красный огонь, – объяснил он, проходя. – Путь закрыт.
Опять вырвался луч прожектора. Теперь, на фоне настоящей ночи, он был слепяще ярок. Беззвучный, перечеркнул он черное небо и медленно шатался вправо и влево, ища и не находя.
Глава вторая
Лена
За десять месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж.
В пригородном поселке был смотр художественной самодеятельности. Среди певцов, танцоров и декламаторов должны были показать свои успехи и поселковые акробаты. Районный совет физкультуры командировал на смотр Лену.
Коммунхоз снарядил грузовик. Лена села в неуютный пыльный кузов на заднюю скамейку. На боковых скамьях сели незнакомые товарищи из каких-то учреждений.
Незнакомые товарищи были в кожаных пальто и резиновых плащах, с портфелями. А Лена была в голубой майке, которую она ушила в талии, чтобы лучше обрисовывалась фигура. Рукава майки она засучила выше локтя. Теперь ей хотелось опустить их до самых пальцев, но она стеснялась. Она сидела одна, вдали от всех, и ее подбрасывало на каждом ухабе. Стриженые волосы секли ее по лицу.
Мужчины громко разговаривали и смеялись чему-то. На Лену они не обращали внимания.
День был знойный. Из-за горизонта лезла лиловая туча. Она поднялась, прикрыла полнеба и, не удосужившись даже закрыть солнце, разразилась ливнем. Водяная стена упала перед глазами. Голубая майка, юбчонка, стриженые волосы – все промокло вмиг. Ручьи заструились по лицу и по спине Лены. Мужчины укрылись с головою своими пальто и плащами и что-то кричали оттуда. Шофер был невозмутим в своей закрытой кабине. Лена мокла и думала: «Какие они все хамы».
Вдруг один из мужчин встал. Не снимая пальто с головы, пригнувшись, он перешел к Лене и сел рядом.
– Давайте-ка вот так! – сказал он и накрыл ее с головой краем своего кожаного пальто.
Она очутилась с ним вдвоем в тесной палатке. Ей пришлось сжаться, чтобы можно было укрыться хорошенько. Ливень барабанил по пальто.
Ей было так холодно и мокро, что она не чувствовала ни малейшего стеснения. Только сердилась, что помощь пришла так поздно. Когда догадался, дурак.
Ее голова была около его груди. Она смотрела вниз и видела только свои стиснутые мокрые колени под натянутой, тяжелой, как брезент, мокрой юбкой да кусок клетчатой подкладки пальто.
И вдруг она услышала у самого уха медленные громкие удары. Это билось сердце. Его сердце.
Она удивилась, прислушалась. Ей-богу, оно сначала не билось. То есть билось, конечно, но обыкновенно, без стука. А теперь оно билось необыкновенно.
Почему оно так бьется?
Ей страшно захотелось увидеть его лицо. Ведь неизвестно, какой он. Может быть, такой, что пусть лучше сердце не бьется? Нет, какой ни есть, а оно все равно пускай бьется.
Оно билось.
Двумя пальцами, не пошевельнувшись, она проделала в палатке спереди маленькую щелочку, чтобы было светлее, и, осторожно повернув голову, снизу заглянула ему в лицо.
Лицо было затененное, нахмуренное, встревоженное. Черные глаза смотрели вниз, на Лену.
Она поскорее нагнула опять голову и больше не поднимала ее. Теперь в кожаной палатке стучали уже два сердца.
Закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разряды – в себе и в нем.
Горячий вихрь поднимался в ней – стыд, и радость стыда, и гордость, и удивление, и восторг.
Дождь кончился, и он встал.
– Ну вот, – сказал он, улыбаясь как-то растерянно. – Кажется, подъезжаем… А вы сидите, сидите пока так! – добавил он поспешно и натянул пальто ей на плечо. – Простудитесь…
Но ей было грустно сидеть так одной. Она сбросила пальто и стала отжимать подол юбки. Солнце опять жгло. В грузовике по щиколотку стояла вода. Пахло щедро орошенной землей, мокрой гречихой, мокрой полынью, – чудесный был воздух. И лицо у него чудесное. А чудеснее всего был дождь, только зачем он так скоро перестал: шел бы себе и шел.
Приехали. И, ничего не видя, кроме того, что было в ней, забыв о смотре, об акробатах, о том, что она вся мокрая, она сошла с грузовика.
До сих пор Лена не любила никого на свете.
Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у нее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валей. В детском доме было шесть Валентин; для отличия ее стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену.
Она не любила вспоминать. Когда ей было лет шесть, ей удаляли аппендикс. Она лежала в городской больнице, в детской палате. После наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной, некому было стереть эту слюну с ее губ, а позвать она не могла. Около других детей сидели матери, пришедшие их проведать. Лену положили за ширму. «Не ори, никакой тут боли нет!» – сказала толстая нянька, когда Лена застонала. Лена перестала стонать. Кто-то за ширмой спросил:
– Это чей тут у вас ребенок?
Сиделка отвечала:
– Ничей, это детдомовский.
У матери было плохо. Мать любила выпить: чуть заводились деньги – появлялись водка и огурцы, и какие-то женщины пили, пели, хохотали и давали матери советы:
– А ты на него в центр подай, на подлеца. Ежели он такой подлец, надо в центр подавать, и только.
Подлеца Лена раза два видела. Мать умывала ее, одевала почище и вела на базар к какой-то нэпманской лавочке. Около лавочки, прямо на улице, стояла большая жаровня; в ней, вкусно скворча, жарилась баранина, нанизанная кусочками на деревянные палочки. В лавочке был стол, на нем – солонка, перечница в виде бочонка и тарелка с нарезанным зеленым луком. Подлец был хозяин всего этого. Он сам резал мясо, жарил его и подметал пол. Лена и мать садились к столу и ели баранину, снимая пальцами кусочки с палочки. Жир тек по Лениным рукам до локтей, оставляя кривые дорожки. Хозяин подсаживался, утирал пот с лица грязным фартуком.
– Ешь, – говорил он Лене, вздыхая. – Ешь, вот эта помягче будет, – и, выбрав на ощупь, подкладывал ей новую палочку. Он был немолод, с желто-серыми усами, одна нога у него была деревянная.
Мать, вся в жире, как в слезах, говорила:
– Живо-жаль смотреть, одни дети чистые ходят, а другая – осень и зиму без башмаков, а чем она хуже?
– Вы ешьте, вот эта помягче будет, – бормотал хозяин, подкладывая ей в тарелку. – А что я сделаю, если у меня полон дом народу? Еще падчерица с детями приехала гостить, и налог прислали такой, что прямо удивительно, из чего платить, из каких доходов… Баранина подорожала, клиентура плохая, иди в чистильщики, и только.
– Тогда не надо обольщать, не надо заманивать! – говорила мать.
Хозяин глубоко вздыхал и говорил как бы про себя:
– Если б вы могли дать мне доказательства, совсем другой был бы разговор.
– Господи! – говорила мать, прижимая к груди палочку с бараниной.
Лена слушала их и смотрела на перечницу. Даже уходя, она все оглядывалась на перечницу, но попросить боялась.
Перед прощанием хозяин давал матери денег. Лена шла с матерью в рыбные ряды, мать покупала закуску, потом заходила за водкой, дома опять собирались женщины, пили и пели, и мать, вся красная, кричала:
– Я ему дам, подлецу, доказательства, он у меня узнает, как завлекать, сукин сын, дегенерал собачий!
– В центр, в центр на него подавай! – советовал хор. – Им, брат, потачку давать – они еще не то будут делать!
Мать служила сборщицей утильсырья. Иногда она исчезала на два, на три дня. Однажды она вернулась с каким-то мужчиной. Они поужинали и легли спать на кровати, а Лену мать положила на стульях, сдвинутых вместе. Утром Лена проснулась, подошла к кровати и стала рассматривать гостя. Он спал с краю, свесив почти до полу толстую руку. На руке налились синие жилы. Пальцы до половины были покрыты густыми черными волосами. Лене стало противно. Она взяла щепку и ударила гадкую руку по синим жилам. Рука продолжала спать.
К обеду мать встала, сбегала в лавку, и они с гостем сели за стол. Лене дали полстакана пива и кусок заливного. Из разговора она поняла, что мать собирается куда-то уезжать. Она обрадовалась. От пива она сначала стала смеяться, а потом заснула там, где сидела. На другой день мать повела ее на какую-то улицу и показала ей двухэтажный белый дом с облупившейся штукатуркой.
– Сюда придешь, – сказала она. – Заходи себе прямо, без никаких. Скажешь – сирота, мол, ни отца, ни матери, никого нет.
Мать испекла пироги, товарки принесли посуду, был большой пир. Мать то плясала, растрепанная, в новой шелковой кофте, то садилась к столу и подпирала щеки кулаками.
– Судьба моя, любовь моя, – говорила она. – И кто его осудит? Тот от своего отказывается, а этот, что ли, подбирать должен? Ежели б он, подлец, платил мне элименты какие следует, а то бараниной, сволочь, норовит отделаться, а я что за дура. У меня еще дети будут.
– Будут, будут, Паша, надейся! – кричал гость, и опять она шла плясать в своей голубой кофте, которая становилась на ней дыбом, как древесная кора.
Лена устала от гвалта и топота. Она надела свою рваную вязаную шапку, единственную, которую она носила зимой и летом. Взяла баночку от мази и рукоятку от шила – свои игрушки. Потихоньку – никто не заметил – она вышла на улицу и прямо пошла к двухэтажному белому дому с облупившейся штукатуркой.
– Я сирота, – сказала она двум большим стриженым девочкам, которые стояли у ворот, – у меня ни отца, ни матери, никого нет.
Девочки молча, серьезно смотрели на нее сверху вниз. Подняв к ним лицо, она повторила заученные слова. Одна девочка спросила:
– А тебе сколько лет?
Другая спросила у первой:
– Позвать Анну Яковлевну, да?
Лена заглянула в ворота. Там была площадка и качели, и зеленая травка кругом.
– Я сирота, – весело повторила Лена.
Пришла Анна Яковлевна, взяла Лену за руку и повела в дом.
Там Лену окружили взрослые и стали спрашивать: кто ее научил прийти сюда и где она живет. Они были большие; чтобы разговаривать с нею, они посадили ее на стол, а она их все-таки перехитрила.
– Меня никто не научил, – отвечала она, болтая ногами. – Я нигде не живу.
Она понимала, что они хотят отправить ее домой. А ей хотелось остаться в этом доме с качелями и зеленой травкой.
– Я хочу жить тут, – сказала она откровенно.
Взрослые засмеялись, и мужчина в золотых очках сказал:
– Надо заявить в милицию.
Все-таки она ночевала в этом доме, на кухаркиной кровати. Кухарка выкупала ее в корыте и остригла ей волосы. Весь вечер и все утро большие дети качали ее на качелях. Маленьких детей в доме не было.
Кухарка, купая Лену, сказала с негодованием:
– Я бы такую мать мордой об стол… Что она делала с ребенком, что он обовшивел весь?
Пришел милиционер. Мужчина в золотых очках отозвал Лену в сторону и по секрету сказал ей, что милиционеру надо говорить всю правду, иначе будет плохо: милиционер заберет в милицию.
– Ну и пусть! – ответила Лена. – Ну и пусть, а я не боюсь милицию.
И она сказала милиционеру, что она сирота и нигде не живет.
– А что твоя мама делает? – спросил милиционер.
– Собирает тряпки, – ответила Лена.
Все стали смеяться. Так или иначе, маму, собиравшую тряпки и имевшую маленькую дочь по имени Валентина, найти не удалось: она уже уехала, и Лену отдали в детский дом для маленьких детей.
Там она жила год. Она была неприхотлива и снисходительно относилась к людям. Ни к кому не привязываясь и ни от кого ничего не требуя, она прощала всем. То, что ей давали, она принимала с удовольствием, но без благодарности.
Она быстро привыкла к людской заботе и не видела ничего удивительного в том, что ее кормят, одевают, учат читать, что какие-то женщины стирают ее платья и готовят ей пищу, а другие женщины хлопают перед нею в ладоши и поют:
Мы своими ножкамиТоп, топ, топ,А потом ладошкамиХлоп, хлоп, хлоп…Кроме того, они пели: «Вихри враждебные веют над нами» и «Вставай, проклятьем заклейменный». К пению Лена относилась как к неизбежной повинности.
Через год дом расформировали, и Лену перевели в другой детский дом, в другой город. Тут зима была длиннее и холоднее, и печки топили не углем, а дровами; а остальное было все так же.
Она росла. Девочка Валя – та была раньше, давно, та была другая. Теперешнюю звали Тиной. У нее было жилье и не было дома. Были подруги и не было семьи. О ней заботились, но без нежности. Ее не обижали и не ласкали.
Она аккуратно исполняла все, что от нее требовали: она не любила, чтобы ее бранили. Когда ей было лет семь, к ним назначили нового заведующего, комсомольца.
– Отставить, – сказал он, прослушав песню «Мы своими ножками». – Вы мне из детей кретинов вырастите. Они у вас уже почти кретины. Им нужна физкультура.
Физкультурные занятия Лене понравились. Она была самой ловкой и сильной. Ее стали хвалить, это было приятно. С тех пор она старалась все делать так, чтобы ее похвалили.
В седьмом классе преподавали Конституцию.
Учитель прочитывал статью из Конституции и потом долго объяснял, что эта статья – хорошая и справедливая. Лена смотрела на учителя и думала: зачем он так старается объяснять то, что всем понятно?
Она жила уже в пятом детском доме, была комсомолкой, училась на курсах физкультуры, ее звали Еленой. – Опять он о том же, только с другого конца взялся… Он доказывал, что Советское государство – самое правильное в мире… Для Лены не существовало никаких других государств, кроме Советского. Она была ребенком этого государства. Оно было ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать: товарищ. От любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она входила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой – она держалась уверенно, была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел – она начинала дичиться и замыкалась в себе: она не привыкла к таким разговорам.
Два раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно.
Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии.
Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные глупые и добрые глаза и щеки – как окорока. К физкультуре она отношения не имела; от сидения в канцелярии оплыла жиром. Леной она восхищалась.
– Как ты живешь в общежитии! – говорила она. – Ни подать, ни принять некому…
Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы – домик в три комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. На Катиной кровати лежало штук пятнадцать подушечек, вышитых мамиными руками. Лена смотрела на эти подушечки, как в детстве на перечницу.
– Да, хорошо ты живешь, – сказала она с невольным вздохом.
– Переходи к нам жить, – сказала ей Катя. – Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься. А то ты – как скелет.
– Переходите, Леночка, к нам, – сказала и Катина мама. – Катечка очень вас полюбила. Нехорошо барышне в общежитиях этих. Не дай бог чего.
Катина мама была тихая, с лицом в лучистых морщинках, с глазами такими же добрыми, как у Кати.
Лена перешла к ним. Ей поставили кровать в комнате Кати. Катя собственными руками переложила на эту кровать половину своих подушечек. Лену поили парным молоком. Жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец.
К Кате ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемухой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза.
Как-то, придя вечером домой, она застала Катю в слезах.
– Что ты? – спросила она с искренним участием.
– Ничего, – ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену.
Из соседней комнаты послышалось бормотанье Катиной мамы:
– Это уж я не знаю, что такое, – за добро так отплатить людям.
– Что у вас случилось? – спросила Лена.
– Коли со мной по-хорошему, – продолжала Катина мама, входя в комнату, – то и я обязана поступать по-хорошему, а не так.
– О чем вы? – спросила Лена, не подозревая, что все это относится к ней.
– Мы с вами, Леночка, поступили как с родной, – сказала Катина мама. – А вы вон чего делаете, это разве мыслимо, это только в нынешнее время стали барышни себе позволять.
– Я не понимаю, – сказала Лена, – о чем вы говорите. Я ничего плохого вам не сделала.
– Не надо оправдываться, милая, не надо оправдываться. В таких делах всегда женщина виновата. Парень – что малый телок: его куда потянут, туда он и идет.
– Вы что думаете, – спросила Лена, удивившись, – что я влюблена в Катиного жениха? – Она засмеялась. – Я не влюблена в него!



