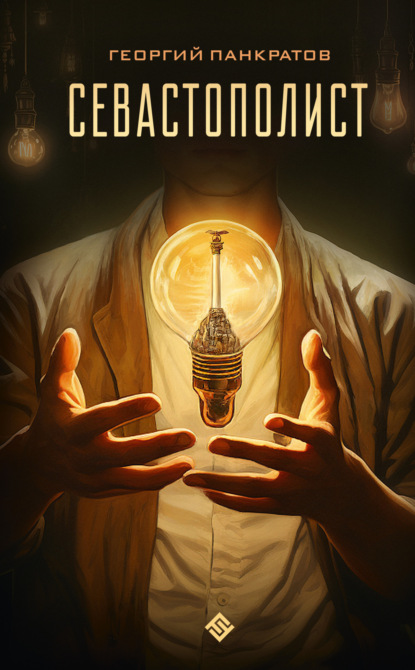
Полная версия:
Севастополист
– Не от вас, а от нас всех, – возмутился Инкерман. – Или ты тоже знала, что здесь надо где-то заселяться?
– А как ты думал? Ляжешь спать прямо на проспекте?
– Не знаю, – пожал плечами мой друг. – Но, может быть, здесь не спят вовсе?
– Да и не думают, – добавила Евпатория. – Что-то я не вижу, чтобы все эти люди вокруг ходили и о чем-то думали!
Но Феодосия будто не слышала, продолжала:
– Электроморе – это просто слово. Оно означает то место, где мы должны получить лампы. Представьте себе, что оно настоящее. Вряд ли проводница Башни отправила бы нас на верную погибель?
– Интересно, – вставил Инкерман. – Оно было бы электро-Левое? Или электро-Правое?
Мы все беззаботно рассмеялись, но Фе оставалась серьезной; она лишь смотрела на нас как на несмышленышей.
– Я думаю, мы на месте, – наконец сказала она. – И наше плавание начинается здесь.
Сказав это, она развернулась и твердым шагом направилась к зеркальной стене. Мы не успели опомниться от услышанного, как она скрылась в ближайшем проеме. Там, где только что была Фе, я видел лишь черную ткань и маленький зеленый огонек. В обе стороны ходили люди, говорили о чем-то своем, и мне вдруг стало не по себе. Ведь это я должен был принимать решение! Уверена ли она в том, что делает? И почему? Фе поступила странно, загадочно, хотя и, если вдуматься, логично. Но уверена ли она в том, что сделала? Не случится ли с ней чего? Я тревожно взглянул на Инкермана, и он прочел мои мысли.
– Надо идти, – сказал он и протянул руку Евпатории: – Пойдем в Зазеркалье, детка.
Но она лишь презрительно скривилась и фыркнула. Керчь, не обращая на нас внимания, пошла к проему, и тогда уже все мы поняли: тянуть больше некуда. В конце концов, мы уже в Башне. Что могло случиться в наших жизнях удивительней, чем это?
Осмотревшись по сторонам, не мчит ли кто на странном колесе, мы друг за другом ныряли в неизвестность – за черную ткань.
– Уважаемые, любезные, – услышал я, как только шум проспекта стих, и я сделал первые, еще неосознанные шаги на новой территории, – добро пожаловать, мы вас уже заждались. Меня зовут Луч, рад знакомству!
– Луч? – переспросили мы пораженно.
– Луч, – подтвердил он и улыбнулся, мол, о чем тут говорить – Луч как Луч.
«Может, здесь дают имена, как-то связанные с занятием? – подумал я. – Стоило подобрать себе что-нибудь благородное».
Я увидел перед собой низкого, но коренастого человека в белом пиджаке с длинными черными полосами. Его огромные усы были закручены с обеих сторон, благодаря чему он напомнил мне таракана, и, не в силах сдержать себя, я рассмеялся. Дополняли образ вьющиеся густые волосы, разделенные пробором ровно посередине головы, и круглые очки. Одна из линз была, похоже, треснувшей, но человека это нисколько не смущало.
– Кроме вас здесь есть еще кто-то? – до меня донеслась недовольная реплика Керчи. О, она не упускала возможности кого-то уколоть. Но человек в полосатом пиджаке не растерялся.
– Кроме меня здесь вся огромная Башня, которой я имею честь быть представителем, – с достоинством сказал он. – Вам должно быть известно, как ждут здесь новых избранных.
– Что-то я не заметил, – вступил в разговор Инкерман. Он вращал в руках маленький предмет, я не мог понять, что это такое. Наконец он подбросил его в воздух и ловко поймал, и только тогда меня осенило: лампа! Да это же лампа! Самая настоящая, правда, удивительная, каких я не встречал: идеально круглая, без патрона, просто шар из стекла – однако с нитью накаливания внутри. Перед Инкером стояла странная конструкция – прямоугольная полка, расположенная на вырастающей из самого пола тонкой металлической ножке. На полке лежало нечто, похожее на белую подушку, но от нее почему-то поднимался пар. Инкерман положил лампу прямо в центр этой конструкции. И только после того, как он это сделал, я сумел перевести взгляд и увидел, насколько огромным был зал, где мы находились. И вокруг нас были сотни, если не тысячи ламп! Они свисали с потолка, лежали на полу, окруженные символическим ограждением или спрятанные в стеклянных кубах, лежали на длинных продолговатых рядах, торчали из стен и колонн, а некоторые буквально висели в воздухе, подвешенные на невидимых нитях. В первый миг я потерял дар речи. Но Инкерман быстро освоился. Он продолжал донимать человека с усами:
– Так что же, – говорил он, – я пропустил чью-то радость по поводу нашего прибытия?
Луч подошел к тому месту, куда Инкерман только что положил лампу, взял ее в руки и бережно протер белой тканью, а затем несколько раз подул на шар.
– Будьте осторожней с будущим, – сказал он назидательно. – Да и вообще, будьте осторожны. Видите ли, не стоит ждать чего-то от тех, кого вы встретили на этом уровне. Кто живет здесь. Ждите от самой Башни, как и она сама вас ждала.
– Они вообще настоящие? – прервал я их разговор, в котором не видел никакого смысла. Зато кое-что другое показалось мне чрезвычайно важным, заслуживающим немедленного объяснения.
– Любезнейший вы наш, признайтесь, что побудило вас задать этот вопрос? – Усатый расплылся в улыбке.
– Электроморе, – ответила за меня Фе, и я наконец заметил ее, хотя девушка была рядом, в каких-то двух шагах.
– Она права. – Я тут же уцепился за ее слова. – Электроморе. Это ведь вы? Вы называетесь Электроморе, хотя никакого моря здесь нет, да и насчет электро- есть кое-какие сомнения. Вход к вам, которого тоже как такового нет, потому что нельзя считать входом проем, завешенный черной тряпкой, расположен напротив моря, которое, в отличие от всего остального, якобы есть. Но это совсем не море – потому что я знаю море, помню его запах, чувствую кожей и слышу его. Я пришел из Севастополя – и море во мне, а я – в море. Я вообще не увидел здесь ничего настоящего! Но корабль, корабль, который там, – это просто что-то ужасное.
Луч кивал и внимательно слушал.
– Он там стоит, – продолжал я в запале, – словно вопреки самому себе, вопреки морю, да и вообще… вопреки самому устройству жизни!
Поняв, что я закончил, человек в пиджаке учтиво поклонился – настолько нелепо, что я усмехнулся, и это не скрылось от его взгляда. Наконец он заговорил:
– Корабль – это объект скорее декоративный. Пожалуй, так.
– Он стоит здесь в память о чем-то? – поинтересовалась Керчь.
– Нет, – покачал головой Луч. – Он не несет функциональной нагрузки. Корабль – лишь часть экспозиции, в которой он даже не является смысловым ядром. Если вы пройдете…
– Нет, подождите, – прервал его я. Услышанное поразило меня до глубины души, хотя нам и объясняли пожившие, что никакой души нет. – То есть гигантский корабль в несколько этажей поставили здесь просто так, чтобы был?
– Ну да. – Усатый обрадовался моей догадливости. – Обыкновенный декор. Любезные, я вам больше скажу – здесь не один такой корабль, и он даже не самый крупный. В центре нашего уровня больше развлечений, чем вы можете представить. И это если не считать Майнд Дамна, правда, этот проект не совсем наш…
– Что вы сказали? Дауна?
– А, не забивайте голову ерундой, – махнул рукой Луч. – Придет пора, и вам объяснят. Возможно.
– У вас в магазине тысячи ламп, – прервал я. – Но ни одна из них не горит. Почему?
Мои друзья отвлеклись от разглядывания магазина и повернулись к нам – похоже, этот вопрос заботил их тоже.
– Видите ли, – начал человек в пиджаке, – эти лампы нельзя назвать искусственными в прямом смысле этого слова. Как искусственен корабль или тот же непонятный для вас Дамн. Искусственность – это имитация, подделка, словно воспроизведение чего-то по картинке, чертежу. Ведь вам знакомо это чувство?
Его слова вызывали во мне раздражение.
– Не делайте вид, что раскусили меня, – скривился я. – Ваше Электроморе специально находится напротив корабля, чтобы каждый заходил к вам уже готовенький, с этим знакомым чувством.
Человек в пиджаке внимательно посмотрел на меня, но не выдал эмоций. А может, и не испытал их. Тем лучше, подумал я.
– Не думайте и вы, что первым оценили этот замысел, – обратился он ко мне. – Это дань традиции, ее задача – не удивлять, а настраивать на нужный лад. Я слышал эти слова не единожды, что говорит лишь об одном: у нас с вами нормальный рабочий контакт. Так что позвольте продолжить?
– Мы и не собирались вам мешать, – зачем-то встряла Фе.
– Но и настоящими в прямом смысле слова лампы, конечно, не являются, – сказал усатый, взяв в руки одну из них – с виду обыкновенную продолговатую лампу, каких я множество видел в Севастополе. – Настоящей лампу делает тот, кто ее выбирает.
– Надо найти свою лампу, – предположил Инкерман, заметно повеселев: игры увлекали его. Однако друг не знал, что его ждало маленькое, но все же разочарование.
– И тогда нужная лампа загорится прямо в руках, как глаза Инкермана? – спросил я усатого. Но хранитель ламп рассмеялся:
– Склонность все романтизировать свойственна людям, в чьих жизнях мало романтики. Вы разве видели, чтобы обычная лампочка – и вдруг зажглась в руке?
– Нет, – разочарованно пробурчал Инкерман. – Но ведь это Башня! Это же не совсем обычно? – Он не терял надежды.
– Лампа зажжется тогда, когда получит питание.
– Когда мы выполним миссию? – спросил я.
– Верно, уважаемый. – Луч снова изобразил что-то вроде поклона. – Вы увидите свет лампы, когда донесете ее наверх. – Он поднял палец и недолго помолчал, застыв в комичной позе. – Прошу приступить к выбору.
Едва я открыл рот, чтобы спросить еще что-то про лампы, как в тишине большого зала раздался радостный визг:
– А я уже все, уже все! Такая красивая, замечательная, никогда такой не видела! Беру, беру, беру! Заверните.
Мы все увидели Тори, о которой совсем забыли, разговаривая с хранителем ламп. На ее лице было счастье – так счастливы бывают только девушки, заполучившие красивую игрушку.
– Прекрасная леди, продемонстрируйте нам, что вы выбрали из всего многообразия.
Евпатория протянула руки – и мы увидели то, что лежало на ее ладонях. Это была небольшая лампочка, похожая на самую обыкновенную, какие вкручивают, чтобы освещать, например, письменный стол. У нее был патрон – тоже, как показалось, вполне обычный. Но вот стеклянная часть лампы раздваивалась, изображая подобие сердца, каким его рисуют влюбленные и просто мечтательные девушки. Лампа казалась красной, но, присмотревшись, я понял, что она не то чтобы выкрашена в этот цвет, а словно присыпана крошкой – и не сказать чтобы щедро.
– Неплохо, – присвистнул Инкерман. – Настоящее сердце! Смотри-ка, нашла! А знаешь, я готов подарить тебе еще…
– Смотрится и вправду мило. – Я решил высказаться, чтобы прервать нелепые подкаты Инкермана. Мне было неловко слушать их, но еще большую неловкость я почему-то испытал от выбора, который сделала Тори. И не потому, что красивое сердце казалось мне глупостью, нет, лампа смотрелась действительно мило. Но было и другое чувство, которое мешало мне порадоваться за подругу и о котором я решил умолчать.
Наверное, эта лампочка способна удивить – ей просто не хватало света, в котором сердце засияло бы, воспрянуло, как после длительного и беспамятного сна, в котором обрело бы жизнь. Но я не питал иллюзий. Я знал: в руках Евпатории этой лампе не загореться.
Но Тори была и вправду прекрасна в своем простом и неподдельном счастье.
– Давайте же поаплодируем, – предложил хранитель ламп и первым ударил в ладоши.
Мне было странно аплодировать и видеть, как натужно это делает Керчь, не понимая, зачем это все, да и Фе не особо старалась, лишь хлопнула пару раз. Но Луч не унимался:
– Дорогие мои, бесценные! Выбор лампы – это празднество, это событие. Поверьте, вас ждет множество эмоций в нашей Башне, но то, что происходит здесь, вы будете вспоминать всю жизнь. Это и станет вами. Аплодируйте же! Аплодируйте себе и своему выбору! Как вас зовут, девушка?
– Евпатория, – воскликнула наша счастливица.
– Я поздравляю вас, Евпатория! – Усатый подался вперед и поцеловал девушке руку. – А пока я запакую лампу Евпатории в эту белую ткань, прошу и вас, драгоценные мои, определиться с выбором!
Я был счастлив уединиться – пока усатый занялся работой, мы, остальные, разбрелись по аллейкам зала. Как-то само собой получилось, что мы не захотели советоваться, сравнивать лампы – в общем, помогать друг другу с выбором. Напротив, едва я остался один, как тут же забыл о друзьях и впал в странный транс, пытаясь выбрать… даже не так – увидеть свою лампу. Но меня не поражали ни диковинные формы, ни огромные или, напротив, миниатюрные размеры, ни цвета, ни материалы, из которых лампа выполнена, – а я встретил здесь и дерево, и пластик, и бумагу, и даже тряпичные лампы; совершенно непонятно, как такие могли зажечься! Но даже не по этому критерию я выбирал. Новая ли? Не сломанная? Отчего-то мне казалось это неважным, а что было важным – я не знал.
Здесь было полно просто лампочек – самых обычных, как в городе, что я видел в простой жизни, за которыми порой ходил в соседнюю комнату для мамы и папы. Но разве они мне были нужны? Нет, я совсем не сторонился простоты, мне не хотелось глупой вычурности, баловства, иными словами, самоутверждаться через лампу в мои планы вовсе не входило. Но, проходя мимо длинных рядов этих самых обычных домашних лампочек, я понимал, что мой путь вполне мог оказаться дольше, чем они способны выдержать: не сломаться, не потеряться, не треснуть и разбиться, наконец… Мне хотелось дойти на вершину с лампой, а иначе зачем я здесь?
Помню, подумал: «Вот бы мне такую, как на маяке. Как у смотрителя». Возле такой лампы можно быть тем, кто не прерываясь смотрит на Мир через линию возврата. И видит его как на ладони, все потаенное, все скрытое, все спрятанное. Кто знает о Мире все, но хранит это знание в тайне и тем самым хранит сам Мир.
И тогда я принялся рыскать глазами вокруг, нет ли здесь чего похожего, но вскоре осадил себя: ну, лампа смотрителя – подумаешь, блажь. Такая же романтическая глупость, как стеклянное сердечко Евпатории, припорошенное красной крошкой. Что я знал о смотрителе? Ничего. О его лампе? Был ли свет маяка вообще лампой? Был ли смотритель реальным человеком? Был ли он вообще?
Голос Инкермана помог мне забыть о смотрителе насовсем.
– Фиолент? – Он позвал меня, возникнув словно из небытия. Я вздрогнул. В руках друга был белый сверток, и он разворачивал его, чтобы показать мне.
– Мы все уже выбрали, – сказала Керчь со свойственной ей прямотой. – Конечно, понимаю, лампа – дело личное. Но лично мне здесь надоело.
Я понял, что потерялся: погрузившись в свои мысли, бродил между рядов, но даже не разглядывал лампы. Ничего не удалось подобрать, я просто не знал, что мне нужно.
– Ну как? – довольно спросил Инкерман.
В его руках была длинная витиеватая лампа густого белого цвета, похожая на застывшую пасту, которую выдавили из тюбика. Или мороженое в рожке. Лишь кверху лампа почему-то изгибалась, делая странный оборот и «вливаясь» в саму себя. Странный выбор Инкермана удивил меня, но не вызвал восторга.
Зато, увидев то, что держала в руке Керчь, я даже поперхнулся от изумления. Ее лампа была тонкая, как ручка или указка, и длинная, размером с половину роста девушки. Но окончательно меня добил цвет: фиолетовый, притом настолько яркий, что казалось, будто лампа уже горит.
– И к чему тебе фиолетовая палка? – не выдержал я.
– Ага, и как ты собираешься таскаться с ней? – вставил Инкерман. – За что-нибудь зацепишь, и каюк.
Но Керчь не стала объяснять. Она лишь приложила указку-лампу сначала к моей шее, затем к инкерманской. Ну, или инкермановской – я никогда не понимал, как правильно.
– Вопросы есть? – подытожила она.
– А у тебя что? – поинтересовался я у Фе, но только девушка принялась разворачивать сверток, как передо мной возник Луч. Его лицо расплылось в доброжелательной, но все же слишком приторной улыбке.
– Пора и вам определяться, золотой вы наш, – пропел хранитель.
Я растерялся: из этого места нельзя было уходить ни с чем, а друзья, да и усатый, не горели желанием ждать. Но больше всего меня пугала мысль, что возьму не ту, ненужную, неправильную лампу. И я громко сказал, обращаясь ко всем:
– Вы знаете, я, кажется, понял.
Все смотрели выжидающе, а я взглянул на Фе и увидел ее уверенный теплый взгляд. Мне стало спокойно.
– Я понял, что хочу лишь одного: донести лампу. Чтобы мне не хотелось расставаться. Чтобы я не посмел ее потерять или израсходовать на глупость. Чтобы она напоминала мне, зачем я здесь. Да и вообще: зачем я.
Того, что скажет усатый, я ждал, но все же мне стало легче после его слов.
– Поаплодируем же нашему… как вас зовут?
– Фиолент, – отчетливо сказал я. – Меня зовут Фиолент.
– Поаплодируем же Фиоленту! А для того, кто так ответственно подходит к выбору, у нас, помимо безмерного уважения, предусмотрен сюрприз. Пойдемте же со мной! – Он протянул мне руку. – Ну, пойдемте же! Друзья вас заждались и ваша лампа. А Башня, Башня заждалась.
– Смешно он говорит, – услышал я слова Инкермана.
– Но дельно, – добавила Феодосия.
Передо мной оказалось устройство, похожее на металлический контейнер с человеческий рост, с небольшим экраном по центру. На его верхней поверхности красовались лампы – но, по всей видимости, игрушечные. Изображения разных ламп украшали и стенки этой конструкции.
– Что это? – спросил я человека в пиджаке.
– Это? Лампомат! – торжественно произнес Луч. – Устройство, которое помогает совершить выбор тем, кто не делает его самостоятельно.
Я был в замешательстве. Но друзья махали мне руками, кивали: действуй, мол. И я решился.
– Просто смотрите в экран, и все, – сказал усатый. – А я отвернусь, чтоб не смущать вас.
Всматриваясь в экран, я долго видел лишь свое отражение на гладкой поверхности. Но затем все изменилось: экран вдруг приобрел черный цвет, в котором стали прорезаться линии – как яркие лучи. Сначала прямые, затем они стали закругляться, петлять, спутываться и наконец приобрели понятные и знакомые очертания: я увидел контур лампы. Самой обычной, простой лампочки, вроде тех, мимо которых прошел. Я старался не делать движений, чтобы не влиять на то, что вижу. Контуры ламп на экране становились все изящнее – и я увидел даже нечто похожее на лампу Инкермана, а потом… потом произошло что-то невообразимое. На экране возникла картинка, совсем не напоминавшая лампу. Скорее это было похоже на перевернутую куриную ножку, только она была не округлой, а оканчивалась плоской линией, да и сама была испещрена линиями тоньше, которые словно делили эту часть изображения на кирпичики. Сама «косточка» этой условной ножки имела прямую, правильную форму и была чуть длиннее. Но венчалась перевернутая кость совсем странной конструкцией. Она напоминала приоткрытый клапан, из которого вот-вот пойдет то ли огонь, то ли газ. А то и вовсе хлынет вода; кто его знает, чем можно наполнить такой сосуд, существуй он в реальности.
Разглядывая удивительный рисунок, я совсем забыл, зачем здесь находился, – а ведь, вообще-то, мне была нужна лампа. И едва я об этом вспомнил, как картинка, будто наваждение, исчезла с экрана, и он тут же поплыл наверх, скрываясь в недрах лампомата и открывая потаенную нишу. Я готовился увидеть в ней всякое, но если б успел хоть чуть-чуть поразмыслить, то догадался бы: там и была моя лампа. В точности такая, как на удивительном рисунке, но только настоящая. Это я понял о ней сразу.
Рисунок не мог передать и толики красоты этой дивной лампы. Она была из обыкновенного, правда, толстого и крепкого стекла, но сверкала и блестела, словно хрустальная.
– Тяжелая, – оценил я, когда вытащил лампу из ячейки. Потом я часто вспоминал свою простую, совсем непродуманную реакцию, и казалось странным, почему мое первое слово о лампе было таким. Я изучал ее, сживался с ней, видел в ней целый мир – новый, загадочный, но почему-то тесно связанный со мной и моей жизнью. И моим городом. Как это могло быть? Я не знал. Быть может, только слабо ощущал не только тяжесть самой лампы, но и тяжесть судьбы, тяжесть странной надежды, тяжесть предстоявшего пути… Теперь я чувствовал все это не только душою – я чувствовал эту тяжесть в руке. Но все-таки была не только тяжесть. Была надежность – то, чего я до тех пор не мог отыскать во всем этом зале, среди тысяч других ламп.
– Поздравляю вас с выбором, – услышал я голос, звучавший словно не из этого зала, а откуда-то издалека, из неведомого мне края. Но это был все тот же голос Луча, и он нарастал, становился все громче и отчетливей: – Поаплодируем же, уважаемые! Не правда ли, такая лампа восхищает? Но вы еще не знаете самого удивительного…
Я видел периферийным зрением, как вытянулись лица друзей. Но мне казалось, что само пространство изменило форму, стало плоским, как огромная картинка, готовая свернуться в трубочку. Я привыкал к реальности вокруг, как будто впервые с ней столкнулся, и только лампа оказалась реальнее всего – четкая, осязаемая, она была моим якорем в море бытия, которое вдруг заштормило. Помню, самым странным и сложным мне казалось примириться с тем, что это всего лишь лампа. Да и вообще – что это лампа, а не какой-то другой предмет. Ни одна из воображаемых мною ламп, а я считал свою фантазию хорошей, не могла иметь такую форму. Эта форма противоестественна для ламп, казалось мне. Да и чему в ней гореть, зажигаться? Голубая крошка на дне, у широкого ее основания – такой же порошок, как и у Тори в ее «сердце». Но в «сердце» было накаливание, а у моей лампы – нет.
Конечно, у моей лампы было мало общего с куриной косточкой. То, что казалось ею на рисунке, выглядело скорее как благородная колонна, выраставшая, словно мощное дерево, из скалы. Венчала колонну маленькая фигурка неведомой мне птицы, расправившей крылья. Я никогда не видел таких в Севастополе, но понимал, что это не почтовая сорока: птица выглядела красивой и сильной, настолько сильной, что могла удержать в зубах якорь. По крайней мере, такая странная фигура венчала мою лампу. Я осторожно перевернул ее, и голубая крошка посыпалась вниз, наполняя собой орла. И только потом, как шум далекого моря, до меня донеслись слова:
– Феодосия, – торжественно вещал хранитель ламп, – продемонстрируйте свой выбор всем присутствующим.
Я подошел к Феодосии и ахнул, а вместе со мной это сделали все, кто увидел, как упала белая ткань на пол, открывая лампу, которую выбрала девушка. Она была точно такой же, как моя – один в один. Но только меньше, может, в половину моей лампы.
– Вот так и в отношениях женщин и мужчин, – возбужденно продолжал Луч, чуть ли не прыгая вокруг нас. – Совет вам да любовь, глубокоуважаемые! Свет вашим лампам, счастье всей нашей Башне!
Мы с Фе стушевались, не зная, как все это понимать, что говорить и надо ли говорить вообще. Но тут вступила Керчь:
– По-вашему, женщина – лишь уменьшенная копия мужчины, лишенная к тому же наполнения? – с вызовом сказала она. – Пустой сосуд?
Я взглянул на лампу Феодосии и понял, что Керчь права: стеклянная оболочка у Фе была тоньше, лампа не сверкала, как моя, и в ней совсем не было крошки – сосуд и вправду оказался полым изнутри. Усатый улыбался и лишь пожимал плечами в ответ на нападки Керчи:
– Я, сколько помню себя, занимаюсь лампами для избранных, для вновь пришедших, даже севастополистов. Традиция предписывает мне так говорить. Хотя, признаюсь вам, прекрасная суровая красавица, такая сцена здесь происходит впервые! Я даже и не сразу вспомнил, что в этом случае в Электроморе говорят.
– Она парится, что тоже не нашла такую, – предположил Инкерман.
– Идите вы, – насупилась Керчь. Я рассмеялся, почувствовав прилив прекрасного настроения, и лишь крепче сжал свою лампу. Наверное, кто больше всех парился, так это сам Инкерман. Из-за того, что сам не нашел такого же сердца, как у Тори, – только больше и красивей. Да он и не искал.
Мы шли к выходу. Завершив свое дело, Луч умело выпроваживал гостей. Я, например, даже не заметил, как оказался возле черной ткани выхода.
– Не забудьте пройти в сопутку, – хранитель ламп снова начал говорить загадками. – Это несколько углов отсюда.
– У вас тут все считают углами? – удивилась Евпатория. – А если я не люблю углы? В моем сердечке их нет, не зря ведь!
– Да и вообще, зачем нам идти туда? Там тоже говорят про полых женщин? – все так же хмуро спросила Керчь.
– О нет. – Усатый делано закатил глаза. – Там говорят только по делу. Это у нас здесь празднество, а там обыкновенная житуха.
И Луч смешно изобразил, как смахивает со щеки слезу. Я так и не понял, о чем была его последняя фраза, но не захотел спрашивать. Фе улыбнулась мне, а я – ей.
– Как вы мне, ребята, нравитесь! – воскликнул хранитель, но тут же стал серьезным. – Да, и будьте осторожны. Наверняка вы видели возле проходов датчики?
– Что? – переспросили мы.
– Зеленые огоньки, – пояснил усатый. – Они горят, когда проход к тому залу, куда вы решите зайти, свободен. Но ни в коем случае не пытайтесь перейти мелодорожку, если заметите красный свет.



