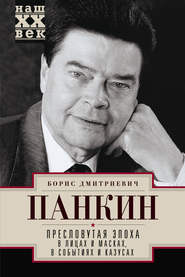скачать книгу бесплатно
В «Открытом письме» меня упрекали, или обвиняли, если хотите, в том, что вместо того, чтобы отдаться без остатка комсомольской работе и согласиться на избрание комсоргом курса, я, мало мне показалось многотиражки, устроился на полставки в «Комсомольскую правду». Не иначе, чтобы избежать распределения… К тому же еще и жениться собрался – на красивой однокурснице с «папашей и квартирой».
Очевидная для меня абсурдность претензий не подавляла, а, наоборот, воодушевляла. Я с нетерпением ждал собрания, на котором нас с Володькой должны были разбирать. Предвкушал, как лихо мы разрушим неуклюжую пирамиду обвинений.
Будь то в романе или повести, написанной годами десятью позже, мне и тем более Понизовскому пришлось бы, скорее всего, горько разочароваться. Чем очевиднее становилась бы наша невинность, тем неотвратимее и жестче ожидало бы нас наказание. И уж во всяком случае, исключением из комсомола и даже университета дело бы не ограничилось.
В жизни, да, в той страшной жизни ранних пятидесятых, где, как мы узнали задним числом, арестовывали ни за грош, с нами двумя, обличенными публично, не важно за что и поделом ли, и тем самым уже как бы списанными в тираж, ничего не случилось.
Вторая аудитория на филфаковском этаже старого здания на Моховой, где нас обсуждали, была набита битком. На защиту Понизовского, не успел он еще рта раскрыть, стали… сокурсницы. Те самые якобы обиженные им. Разалевшиеся лица. Разметавшиеся от волнения волосы, светящиеся девичьи глаза… Какими пошляками, сальными мужиками надо быть, звучало, чтобы в бережном, уважительном, полном трогательной заботы отношении бывшего «сына полка» к своим товарищам в юбках (брюки тогда еще не носили) увидеть что-то скабрезное…
– Да если бы что-то такое было, мы бы тут сейчас глаза ему повыцарапывали, – заявила одна. – А с кем там у него роман, никому нет дела.
Пиня переводил поочередно с одной на другую, с другой на третью свои огромные карие с длинными ресницами глаза и, кажется, готов был общупать или ущипнуть сам себя – о нем ли говорят, не спит ли он? Я, опережая возможных адвокатов да и прокуроров, вступился за себя сам. Просто никому не мог уступить такого удовольствия. Говорят, я пропадаю в университетской многотиражке. Но разве на семинарах по «теории и практике большевистской печати» наш декан Тимофей Иванович Антропов не говорит, что прежде всего для газетчика – именно практика? Теория приложится. Впрочем, у меня и по теории – всегда пятерка. И разве мы не сочинили частушку об одном из таких «теоретиков»? Я не мог отказать себе в некотором хамстве:
Иваньков у нас в почете
И на курсе, и в бюро;
Но в журнале и в газете
Он не смыслит ничего…
И никакой будущий тесть мой не шишка. Завканцелярии в министерстве. Да если бы и шишка… Я же не на нем женюсь… И квартира… Конечно, если сравнить с той шестнадцатиметровой комнатой в новоостанкинском бараке, где я живу с родителями и младшим братом, – это дворец. Но этот дворец – две смежные комнаты в квартире с соседями. Да и какое это имеет значение. Мы ведь все равно с ее родителями жить не собираемся. Подыскиваем комнату. А чтобы платить за нее, я начал подрабатывать. Вопрос:
– Где подрабатываешь-то?
– В обществе по распространению знаний…
– Лекции, что ли, читаешь?
– Нет, редактирую тексты.
– Ну и как?
– Что – как?
Я скорчил гримасу, воодушевляющую зал.
– А как ты туда попал?
– Иван Александрович (преподаватель по истории все той же большевистской печати) меня порекомендовал… На полставки. Полный оклад 1800. Мне платят половину.
– А «Комсомолка»?
– Пригласили на фикс после нашей с Понизовским корреспонденции о новой станции московского метро «Краснопресненская». Кто же откажется, если намерен стать профессиональным журналистом. Но и бросить из-за этого «Московский университет» было бы просто подлостью… Вот и приходится поспевать.
Собравшиеся, видно не ведавшие о зловредных замыслах организаторов этой кампании травли, с недоумением смотрят друг на друга. Такого вроде бы не осуждать, а в пример ставить надо.
– Почему не явился, когда тебя хотели избрать комсоргом?
– Родительский совет шел дома у нее. Да неожиданно затянулся: мои были против. Говорили, что против. Мне несколько раз звонили с курса, я им объяснил… Не мог же я всех там бросить…
Зал снова отозвался сдержанным шумком, в котором явно улавливалось сочувствие пополам с улыбкой.
– Ну ладно, – вдруг как-то стремительно, словно из-под воды вынырнул, поднялся Лешка Масягин. Мягкие светлые волосы. Правильный овал лица. Серые с теплой радиацией глаза.
Если Понизовский проходил на курсе как эталон внешней красоты, Масягин был первым в области внутренней, духовной. Что он скажет, то правильно. Ему доверяли и в коридоре, и в деканате. И ему же старшие, партийные товарищи первому, собственно единственному из нас, еще на третьем курсе предложили заполнить анкету. Другими словами, вступить в партию. С тех пор он уже успел стать парторгом курса.
– По-моему, все ясно, – сказал Масягин, нимало не смущаясь тем, что не он председательствовал на собрании. – Как насчет выговора, будем объявлять?
Зал охнул от неожиданности.
– Кому? За что? – выделился из общего шума девичий голос.
– Как кому? Как за что? – удивился Масягин. – За грубые ошибки, допущенные в обсуждаемых статьях. За предвзятое отношение к своим товарищам. За время, которое мы тут потратили на эту…
Он затруднился подобрать походящее слово. Тут уж пришлось нам с Пиней вставать и выгораживать подписантов.
– Ну, какие выговоры? Они же не со зла…
Тем и закончилось это странное собрание, первая в моей жизни проработка, которая не только не лишила меня моей телячьей наивности, а, наоборот, укрепила в ней.
Много-много лет спустя, уже после того, как возникло и прогремело так называемое «дело Синявского и Даниэля», после того, как их осудили на разные сроки, и они отсидели свое, и Синявский эмигрировал, я прочитал в его воспоминаниях, как в том же университете, на том же филфаке и чуть ли не в той же «Комсомолии» примерно в ту же пору появилась статья о нем под заголовком «На кого работает Андрей Синявский».
Я встрепенулся – тот же почерк: «Правда о…», «Открытое письмо…», «На кого работает…».
Повод для разбирательства был, кажется, такой же пустяковый, как и в нашем случае… Но кончилось уже и в тот раз для Андрея Донатовича тяжелее…
Я и до сих пор не могу вспомнить, случилось все это с нами до или после того, как в печати было заявлено, что «дело врачей» липовое, другими словами – после смерти Сталина или накануне ее. И соответственно – возникло ли и лопнуло, как воздушный шарик, наше с Володькой дело, скорее дельце, спонтанно, как непроизвольный выброс бурных комсомольских будней, в которые все мы самозабвенно погружались, или это была многоходовая акция, к которой потеряли интерес вместе с кончиной и разоблачением аферы с врачами-евреями.
Спросить об этом наших обличителей ни тогда, ни после как-то не пришло в голову. Хотя один из них, ныне доктор филологии, член-корреспондент от литературы, совсем вскоре отличился еще раз. Шло очередное комсомольское собрание, и на нем то ли задуманно, то ли стихийно возникло так называемое дело Нонны Лубянской, которую обвиняли примерно в тех же грехах, что и Понизовского. Завязалась, однако, вполне натуральная полемика, плюс нашему времени, в который сейчас мало кто соглашается верить, и, как в случае с Володькой, наветы отпадали один за другим. И в тот момент, когда дело совсем, казалось бы, развеялось, над рядами голов (все происходило в расположенной амфитеатром Комаудитории), встал наш будущий литературовед-академик.
– Нонна, – сказал он, терпеливо дождавшись тишины и окинув однокашников многообещающим взором, – Нонна сделала, – снова пауза… – аборт.
Слово «аборт» он произнес с ударением на «а». И зал, который, ожидалось, взорвется возмущением, грохнул хохотом. Нонну отпустили с миром, а за ним так и утвердилась кличка – Аборт, с ударением, разумеется, на первом звуке.
Лес рубят – щепки летят
Да, пришлось и мне услышать эту фразу обращенной к себе. От человека, которого тогда я почти не знал, но который с годами, вплоть до его смерти от сердечного приступа, становился мне все ближе и ближе.
Речь идет о тогдашнем главном редакторе «Комсомольской правды», куда Аджубей «устроил» меня, как это формулировалось в «Открытом письме», за полгода до получения мною университетского диплома со значком.
Дмитрия Петровича Горюнова не было тогда на «этаже» – то ли находился в отпуске, то ли в командировке.
И первый раз я увидел его на летучке – еженедельном собрании сотрудников газеты в ее Голубом зале для обсуждения вышедших номеров. И он не произвел на меня впечатления.
Маленького роста, коротко стриженный, на коротких с кривизной ногах, со вздернутым, как у Павла Первого, носом и толстыми губами.
А главное, какой-то, как мне показалось, несолидный. Мне больше импонировал другой главный, с которым я имел дело два года подряд в областной саратовской газете «Коммунист», где в качестве литсотрудника проходил производственную практику. Вот это был редактор. Никто не осмеливался возразить ему. Все, что он говорил, вернее, приказывал, воспринималось как закон и исполнялось беспрекословно. У Горюнова же на летучке был какой-то базар. Так что ему то и дело приходилось призывать к тишине. Его и самого прерывали. И даже, к вящему моему разочарованию, да, да, разочарованию, находились такие, кто позволял себе не соглашаться с ним, на что он реагировал чем-то средним между фырканьем и хрюканьем, что тоже в моих глазах не придавало ему особого веса. Я не понимал тогда, что саратовский редактор просто следовал общепринятому партийному стилю а la Сталин, а Горюнов позволял себе оставаться самим собой.
Приняв это за слабость или нерешительность, я вскоре чуть было не пал жертвой этого заблуждения. Как-то поздно вечером на моем ободранном рабочем столе – я в гулком одиночестве дежурил по отделу – зазвонил телефон. Я приложил трубку к уху.
– Горюнов, – сказала трубка.
Дезориентированный тем, что мы теперь называем демократизмом босса, я в непринужденной манере спросил трубку, что, собственно, ей надо от меня.
– Гор-р-рюнов, – рявкнула она, прежде чем в редакторском кабинете, где мне еще не доводилось бывать, ее бросили на рычаг. Минут через пять, в течение которых я пребывал в некотором недоумении, дверь приоткрылась и показалась голова секретарши редакции Любы.
– Панкин, – сказала она звонко – командным тоном. – Вызывают!
И тут уж я, позабыв мигом все рефлексии, опрометью бросился за ней.
Не помню, о чем мы тогда говорили с Дмитрием Петровичем, вернее, за что он мне выговаривал, но думаю, что я ему в тот вечер не понравился. А возможно, он был недоволен тем, что меня приняли на работу в его отсутствие. Может быть, он подумал, что Аджубей, тогда всего-навсего член редколлегии по отделу спорта, слишком многое себе позволяет.
Так или иначе, в следующий раз он вызвал меня, чтобы объявить… о сокращении.
Стол в редакторском кабинете со стенами, обшитыми деревянными поблескивающими панелями, был такой же необозримый, как сам кабинет, а кресла по обе его стороны были почему-то низкими. Так что, когда мы уселись в них после ритуального рукопожатия, ради которого Д. П., как его звали в редакции, вышел мне навстречу, над лакированной столешницей возвышались только две наших головы. Его уже пересыпанная сединой, моя – всклокоченная, с постылым завихрением на затылке. «Как в кукольном театре», – успел подумать я, прежде чем услышал то, что меня оглушило.
– Вы знаете, что есть указание сократить численность редакции на двенадцать человек, – сказал редактор и издал горлом уже привычный для меня хрюкающий звук.
Я кивнул.
– Мы подумали, перебирали – кого. Нелегкая, доложу я вам, работа. У нас, к счастью, было несколько вакансий. А дальше пришлось резать по живому.
Я невольно поежился, словно нож уже коснулся моей бренной плоти, и он заметил это. Кажется, смутился.
– Да, выбор пал и на вас. Не будешь же увольнять людей, которые проработали в редакции по десять – пятнадцать лет. А то и больше. А вы человек молодой. – Он сделал паузу. – Способный. У вас все еще впереди.
Я, еще не отдавая себе отчета в том, что подо мною разверзлась пропасть, встал и пошел к двери, до которой от редакторского стола было не близко.
Дело было в конце июня 1953 года. И еще полчаса назад казалось, что все определилось на этом этапе моей жизни. Закончив университет с дипломом с отличием, я был переведен в «Комсомолке» из стажеров в сотрудники. Мне казалось, что это не было формальным, автоматическим актом, потому что за это время я умудрился несколько раз напечататься, заслужить похвалы в сообщениях «дежурных критиков», словом, окорениться…
И вот все это пошло прахом. Ощущение было такое, словно между мною и окружающим меня миром – редакторской приемной с сочувственно взирающей на меня Любой, шестым этажом, как издавна уже называли «Комсомолку», комнатой нашего отдела сельской молодежи, где я как потерянный собирал свои книги и бумаги, опустился невидимый, прозрачный, но плотный занавес… И голоса утешавших меня приятелей доносились откуда-то издалека.
Не помню, что я делал и где я был следующие два дня. Благо жена с тещей успели уже уехать на юг, в приморский колхоз под Адлером, где их семья проводила летние месяцы уже несколько лет подряд. Тесть был в командировке.
Я пытался объяснить самому себе, что, собственно говоря, меня больше всего удручает в создавшейся ситуации: перспектива огорчить жену, которая, ничего не ведая, ждет меня у моря, или необходимость искать работу через полтора месяца после окончания университета, где второй раз моим распределением заниматься не будут.
Уверив себя, что двери саратовского «Коммуниста» для меня всегда открыты, я решил, что и жене ничего пока говорить не буду. Совру, что не могу сняться с места из-за важного редакционного задания. А там видно будет.
Утром третьего дня раздался телефонный звонок, и я услышал в трубке:
– Слышь, папа…
Детей у меня тогда еще не было, и я понял, что это обращение к моему коллеге в отделе сельской молодежи Юрке Фалатову. В редакции было принято называть друг друга «старик». Фалатов отличался тем, что адресовался ко всем, даже к особам женского пола, например к моей жене, – папа.
– Папа, – говорил он ей, когда она звонила в редакцию, что случалось частенько, – ты старика не занимай. Папа у главного.
Послушать Юру, я дневал и ночевал в кабинете Горюнова, в который меня как раз не очень-то приглашали.
– Слышь, папа, – повторил теперь Фалатыч, словно обрадованный тем, что я откликнулся. – Ты где гуляешь? Мы тебя второй день с Илюхой ищем. Дуй в редакцию. Тебя Горюнов вызывает.
Через полчаса я уже сидел снова в знакомом кабинете. Одна голова по ту, другая по эту сторону стола.
– Вот что, – с тем же прихрюкиванием сказал Д. П., не вдаваясь в объяснения. – Как говорится, лес рубят, щепки летят. Меня тут третий день ходоки осаждают. – Тут он пристально посмотрел мне в глаза, словно пытаясь угадать, не я ли организовал их наплыв. – Короче, – словно бы рассердившись на самого себя за многословие, закруглил он свою отнюдь не продолжительную речь, – идите и работайте. И уже вслед моей спине добавил: – Только не в сельский, а в комсомольский отдел…
Я спорить не стал. Я уже понял, в чью пользу говорит разница между тем, саратовским редактором, и этим, в «Комсомолке».
Илюхой, которого назвал по телефону Фалатов, был Илья Шатуновский, в то время фельетонист «Комсомолки», унаследовавший должность, а там и славу перешедшего в «Правду» Семена Нариньяни, который эту перемену в своей жизни объяснил здоровьем, вернее нездоровьем:
– Какое здоровье? Половину мочи врачам отдаю.
Это Шатуновский с Фалатовым да еще Володя Чачин, Морячок… как его звали на этаже, инициировали петицию Горюнову и тем надолго предопределили мою судьбу.
Догадывались ли они тогда, что им еще придется послужить под моим началом? И если бы догадывались, не отказались ли от своей затеи?
Двое из «комсомолки»
Прозвище у Фалатова было Самородок. Молва утверждала, что нашел его Шелепин, в ту пору первый секретарь ЦК комсомола, в недалеком будущем – член президиума и политбюро ЦК КПСС, последовательно – секретарь ЦК, заместитель председателя правительства, председатель КПК, то есть Комитета партийного контроля, председатель всесоюзных профсоюзов, кандидат в Бонапарты, вошедший в историю как Железный Шурик. Вот он-то, Железный Шурик, и был крестным отцом нашего Юры. Он наткнулся на него в одном из колхозов Владимирской области, где двадцатилетний Фалатов, «освобожденный» секретарь колхозного комсомола, поделился с ним своей мечтой стать писателем и показал несколько опусов, опубликованных в областной молодежке.
Недолго думая, Шурик посадил его в машину и привез в Москву, прямо на улицу «Правды», к Горюнову.
Тогда в моде были такие жесты. Как в одну, так и в другую сторону. То же вольное или неосознанное подражание эффектным жестам Сталина. Несколькими годами позже, уже после смерти вождя, Шелепин так же привез Горюнову заместителя – Юру Воронова из Ленинграда, где тот работал редактором «Смены». В Юре примечательным было, во-первых, то, что он был блокадником – подростком прошел всю блокаду. Похоронил родных. Получил медаль «За оборону Ленинграда», о которой позднее сказал в стихах: «Нам в сорок третьем выдали медали, и только в сорок пятом паспорта». Во-вторых, он оказался самым молодым замом в «Комсомолке» за многие годы. За что и подвергся поначалу остракизму со стороны ветеранов. То, что Юра, в-третьих, еще и поэт, выяснилось, только когда он уходил из «Комсомолки» в «Правду». Но это уже особая статья.
Фалатов вошел или, если хотите, взошел на шестой, тогда еще неведомый мне этаж, как домой. Талант его был не в том, что он писал милые зарисовки, которые он назвал, окая по-владимирски, «отчерками» – обязательно с диалогами, с прямой речью, о хороших колхозных ребятах и девчатах, – а в его способности сходиться с человеком с полуслова.
Кто бы ни заглядывал в нашу комнату отдела сельской молодежи, оказывался лучшим другом Фалатова.
Алексей Колосов, очеркист «Правды», чье имя мы, салажата, произносили со священным трепетом, приносил ему с пятого этажа сырые правдинские полосы, сверить что-то из деревенского обихода. Помню, как он читал ему, а заодно и мне, вложенные в уста одного из героев вирши:
Клавикордой ударяя,
Распрекрасную прельщу;
Маргаритка молодая, ах,
Со всею страстию люблю.
Исполнитель этой песни представлялся мне похожим на самого Алексея Ивановича: коротышка в замшелой непонятного цвета куртке, в мятых бесформенных штанах, похожий на доброго лешего.
Совсем не то, что можно было бы представить, читая его очерки в «Правде». Габаритного Фатьянова, владимирца, земляка Фалатова, автора моей любимой «Хороши весной в саду цветочки», Юра в третьем лице звал Фатьянычем и никогда не упускал случая стрельнуть у него трешку: на той неделе зарплата…
Да бог ты мой, с кем только не познакомился я в этой комнате благодаря Юре за те месяцы, пока кантовался в сельском отделе. Да и позже. «Папой» немедленно оказался у него Тендряков, когда встретили его в толпе гостей, приваливших по указанию Хрущева в село Мальцево Курганской области, к Терентию Семеновичу Мальцеву.
Там же был тогда и Овечкин, который оказался единственным, к кому Юра обратился по имени и отчеству:
– Валентин Васильевич…
– Во-первых, не Васильевич, – немедленно отбрил его Овечкин.
– А как же? – разинул рот от неожиданности Юра.
– Знать надо… как Овечкина зовут, – завершил беседу Валентин Петрович.
Мансарду, в которой Юра жил во время подаренной ему начальством командировки в Ханой, Юра называл Массандрой, а ближайший к редакции Савеловский вокзал – «Савелием». Строго говоря, это относилось даже не к вокзалу, а к его ресторану, где обитатели шестого этажа ритуально встречались, чтобы дать отвальную или обмыть гонорар.