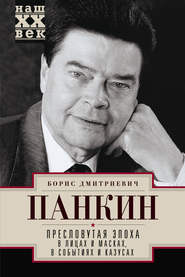скачать книгу бесплатно
Вот он сам, но какой!.. Прилизанные, на пробор волосы, выпученные глаза, круглые щечки, бравая щетинка усов, бабочка под увесистым подбородком… Под стать ему жена, пухлая ухоженная фрау с шестимесячной завивкой, и такие же, в бантах и локонах, детки, не помню уж, сколько их там было.
В свои шестнадцать лет я был достаточно начитанным «вьюношей», и персонажи романов Лиона Фейхтвангера, Генриха Манна, филистеры-бюргеры моего любимого Генриха Гейне сразу встали перед глазами. Сомкнулись жизнь и литература.
Оказалось, что не я один видел Фрица (как ни странно, именно так его звали) в описанной выше ситуации.
За вечерним чаепитием пошли разговоры о Фрице и Вилли: он бы себе такого никогда не позволил как человек из рабочих, которого нуждой да голодом не удивишь.
– Гросс-капиталист, – передразнил отец. – Между прочим, хлеба в день он получает больше, чем вы, – кивнул он в нашу, матери и мою, сторону. – Да и похлебку им в зоне дают – пальчики оближешь.
Супчика мне этого довелось вскоре попробовать, когда всех нас, членов семей сотрудников ЦРБ, пригласили на праздничный вечер и концерт самодеятельности, который давали военнопленные. Суп оказался действительно очень вкусным и даже тогда отдавал сразу полюбившимися мне ароматами кухни, которую я впоследствии определил для себя как восточноевропейскую.
Что же до концерта, то в памяти сохранились лишь какие-то лошади с жирафами с армейскими бутсами на ногах, которые прыгали по сцене, издавали неприличные звуки и роняли из-под матерчатых хвостов коричневые кругляши, катившиеся под ноги взвизгивающих от восторга зрителей в поношенных кителях и френчах со срезанными погонами.
Дома, несмотря на высокое положение отца в масштабах ЦРБ, было хоть шаром покати. К хлебной ковриге, которую мать получала по отцовской и трем нашим иждивенческим карточкам, тянуло нас как магнитом. Оладьи пекли из картофельных очистков, таких же, какие Фриц надеялся выловить в помойном ведре. Картошку, почему-то почти всегда подмороженную, ели с каким-то бурым жидким маслом, которое называлось знакомым словом – постное, но ничего не имело общего ни с подсолнечным, известным мне по Сердобску, ни с кукурузным.
Суп варили из костей, которые отец выменивал на бойне на какие-то списанные детали. Вот тут-то нас и поджидала беда. На отца донесли, что он, мол, разбазаривает вместе со своими заместителями производственное оборудование. Приехала комиссия. Дело попало в суд. Тянулось оно долго. О развитии событий я мог догадываться лишь по нервному ночному перешептыванию отца и матери за стеной.
С наступлением летних каникул меня отправили к бабушке в Сердобск, первый раз после окончания войны. И там, на берегах милой моему сердцу Сердобы, заготавливая для бабушкиного козьего поголовья сено и веточный корм, я совсем было забыл о нависшей над семьей опасности. А вернулся как раз под заседание суда. Накануне отец рассказал мне, в чем было дело, и сказал, что виноватым себя не чувствует, но готовым надо быть ко всему. Я все молча, наклонив голову и роняя слезы, выслушал, но сморозил в ответ такое, отчего и сейчас, при воспоминании, кожа становится гусиной от стыда:
– Если виноват, надо отвечать…
Совсем в том же книжном духе, как тогда дяде Васе… Отец так же странно, как и младший брат его, словно на чужого, посмотрел на меня… Мать запричитала:
– Что ты такое, Боря, говоришь. Папа ж ничего такого не… Да мы бы все с голоду, если бы не…
Суд состоялся и приговорили отца к году условно, то есть с выплатой 25 процентов ежемесячного жалованья. Отец словно с того света вернулся. Приговор воспринял как награду. Родители чуть ли не до утра шептались опять за стеной, но уже совсем в иной тональности. Поминали добрым словом то секретаря райкома партии, который «поверил», не исключил до суда, как обычно делалось, из членов партии; судью, который «во все вникнул, разобрался по совести», свидетелей, которые «не побоялись всю правду сказать»…
Утром Вилли повез меня в школу и ни разу не пожаловался на то, что «глава болит».
Снова и снова «кавалер»
Золотая медаль в те годы давала право поступления в любой вуз без экзаменов. Достаточно было подать заявление. Серебряная медаль предполагала собеседование по двум предметам. На филфаке МГУ это были литература и иностранный язык.
По литературе со мной беседовали два аспиранта. Одного звали Борис Стахеев, другого – Анатолий Бочаров. Следы первого я потерял вскоре после окончания университета. Со вторым мы еще много лет соприкасались на общей для нас литературно-критической ниве. При первой нашей встрече мне было не до того, чтобы разглядывать моих экзаменаторов. Но, как мне довелось убедиться позднее, это были два совершенно разных человека.
Стахеев, который поначалу запомнился острее, был, видимо, из тех, кто, подобно Борису Когану, «с детства угол рисовал», да и сам состоял из одних углов. Невысокий, худой. Ворот рубахи расстегнут, пиджак с разворотом плеч под сто восемьдесят градусов распахнут, голос не по росту зычный, правая рука либо поднята в трибунном жесте, либо рубит воздух короткими сильными движениями. Словом, комсомольский вождь, какие мне тогда, признаюсь, нравились. Бочаров – сама мягкость. В движениях, в позе, в звуках голоса, который не услышишь, если не напряжешься. Но именно он спросил меня относительно Бабаевского.
Спросил и, видимо, сам пожалел об этом, когда я понес, только в более развернутом виде, все то, чем еще недавно озадачил Геннадия Исааковича: зачем так громко и утомительно клясться в любви к Родине, к партии, к товарищу Сталину…
При упоминании имени вождя Бочаров словно бы посуровел и не без опаски бросил взгляд на Стахеева, у которого обветренная кожа на лице еще более обтянула острые скулы.
– И все ему сразу удается. Главным образом потому, что на груди у него «Звезда» Героя Советского Союза. Но ведь не у каждого такая «Звезда».
Стахеев слушал молча и угрюмо, Бочаров мягко и настойчиво возражал, что, мол, дело не в «Звезде», а в характере героя, в его настойчивости, самоотверженности, боевом опыте, который ему давала война…
Много позднее он объяснял мне, что, бросая эти дежурные фразы, пытался направить мои рассуждения в требуемое для достижения цели русло. Я же, воодушевленный шаблонностью его аргументов, гнул свое. Мол, все-таки, если бы он добился того же, но как обычный фронтовик, читатель больше бы верил в его достижения.
– А вы разве не верите? – впившись в меня взглядом, быстро спросил Стахеев.
– Да нет, я верю, – заблажил я, вдруг припомнив предостережения Геннадия Исааковича, – но…
– Ну вот и хорошо, что верите, – прервал меня Бочаров, который, видимо, был за старшего в этой связке.
– У меня больше вопросов нет.
И посмотрел на Стахеева. Потом на меня. «Заткнись, дубинушка», – прочитал я в его взгляде.
Стахеев молчал. Бочаров взял мой «обходной лист», или как там его называли, и, что-то начертав в нем, протянул Стахееву. Тот сидел в задумчивости. Я замер, осознав уже совершенно отчетливо, что сейчас в один миг могут рухнуть все мои планы и надежды.
Стахеев, не торопясь, обмакнул перо 86 в чернила. Подержал ручку на весу и, наконец, обведя нас с Бочаровым взглядом, словно заговорщиков, расписался, обрызгав лист чернилами. Только выйдя из аудитории и заглянув в бумажку, понял, что собеседование прошел.
А потом не раз еще, слушая разгромные речи Стахеева на различных комсомольских митингах, удивлялся своей удаче. Через четыре с половиной года, начиная готовиться к дипломной работе, я снова взялся за свое. Моей темой было: «Люди колхозного села в современной советской литературе». В результате того, что мне всерьез казалось анализом, я пришел к выводу: в повести Ивана Лаптева «Заря» краски сгущены; в романе Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» колхозная жизнь, наоборот, приукрашена. Синтезом является роман Галины Николаевой «Жатва», герои которого, прежде чем добиться успехов, преодолевают огромные трудности, вызванные послевоенной разрухой…
Наивная эта диалектика не вызвала особых возражений у руководителя моей дипломной доцента Нины Петровны Белкиной, которая была супругой другого литературоведа, звезды филфака Абрама Александровича Белкина. Еще один литературно-педагогический тандем на моем пути.
Обратив мое внимание на известную схематичность анализа, вполне объяснимую, по ее мнению, у начинающего исследователя, она поставила пятерку и, как положено, отправила работу в дипломную комиссию.
Через несколько дней ее председатель, старший преподаватель Петр Федорович Юшин, который одновременно был парторгом факультета, вызвал меня для беседы.
Смоляные, простроченные первой сединой волосы, черные брови, смуглое лицо с темнотой под глубоко сидящими и как бы фосфоресцирующими глазами. Сочный баритон.
Черт его знает почему, но мне тогда нравились внешне такие люди, как Юшин или Стахеев. Казалось, даже фамилии их испускают какой-то магнетизм. Мужественностью веяло и от их титулов: парторг, комсорг…
Беседа приняла, однако, неприятный оборот. Перелистывая у меня на глазах мою рукопись и заглядывая в какие-то еще бумаги, Юшин стал расспрашивать меня о моих предках, о том, почему я выбрал именно эту тему, бывал ли сам в колхозах и давно ли. Еще два-три вопроса – и быка за рога: какие у меня есть основания утверждать, что в романе «Кавалер Золотой Звезды» колхозная жизнь приукрашена? Разве мне не известно, что книга пользуется огромным успехом у читателя и удостоена Сталинской премии первой степени? А это значит…
На этот раз я чувствовал себя увереннее, чем пять лет назад. Как ни говори, кроме сердобских впечатлений, у меня за плечами четыре месяца производственной практики в сельхозотделе саратовской областной газеты «Коммунист». Исколесил и плодородный правый берег Волги, и засушливое Заволжье… Да и на Кубани, откуда родом Тугаринов Бабаевского, побывал по командировочному удостоверению журнала «Молодой большевик».
Вблизи Юшин уже не выглядел тем воплощением справедливой строгости или жесткой справедливости, каким он мне казался раньше. Особенно на трибуне. Набрякшее лицо, потерявшие свое свечение глаза, мешковатость возвышающегося над столом торса. Как-то вяло, словно по обязанности выслушав меня, он спросил, не желаю ли я взять работу обратно и еще потрудиться над ней. В свете высказываемых замечаний…
Кем высказываемых? Никто, кроме него, мне замечаний не делал. Нина Петровна, наоборот, упоминала, что давала почитать Абраму Александровичу, и ему понравилось.
Перспектива возиться снова с изрядно надоевшим уже опусом, когда впереди еще столько «госов», меня не привлекала. Так что это были не идеологические мотивы и не дух противоречия, когда я, как с головой в омут, – парторг все-таки, – сказал:
– Нет, не желаю вроде…
– Ну, смотрите…
Прямо от Юшина я проследовал к Нине Петровне, как она мне и велела, узнав о вызове к парторгу.
Слушала и понимающе кивала. Да-да, он и мне это говорил. Нет, вы правильно ответили. Я посоветуюсь с Абрамом Александровичем. Кстати, Юшин сам должен скоро защищаться у него.
На мою защиту Юшин благоразумно не явился. Да и не обязательно было такой важной персоне присутствовать на всех защитах. Я получил уверенную пятерку, а вместе с нею и диплом с отличием.
Хохловка – это где?
Школьников (так, в отличие от бывших фронтовиков, называли тогда абитуриентов, пришедших из десятилетки) на отделение журналистики принимали только с золотой медалью. У меня была серебряная, и, несмотря на успешное завершение собеседований, мне предложили… классическое отделение или отделение логики.
Классика была далека и непонятна. Но все же это была литература. Логика – только логика. Пометавшись и потосковав, я выбрал классику.
Сима Соловейчик, с которым я познакомился накануне, выбрал логику. Тоже из школьников и тоже с серебряной медалью. И тоже хотел на журналистику.
Когда в конце августа я пришел на Моховую, 9, чтобы узнать расписание занятий, я обнаружил себя, не веря глазам своим, в списках немецкой группы отделения русского языка и литературы. Сима по-прежнему фигурировал среди «логиков».
После первого курса я, к великому огорчению моих сокурсников по второй немецкой, где большинство составляли девчонки, перевелся-таки на отделение журналистики и чувствовал себя человеком, которому просто не о чем больше мечтать.
Сима, который, как показало время, журналистике был привержен так же фанатично, как я, если не больше, продолжал учиться на логике, хотя попытку сигануть на журналистику сделал. Не помню, думал ли я тогда, что это потому, что он еврей, или нет. Кажется, нет.
А может быть, его еврейство было тут ни при чем? Просто я уже на третий день своей студенческой жизни двинул на улицу Герцена, 3, левый фланг того же казаковского здания на Моховой, где в двух комнатах-клетушках находились редакция многотиражки «Московский университет» и ее ответственный секретарь Сима Гуревич.
Невысоконького роста, идеально выглаженные костюм и галстук, очки-«велосипеды», под которыми необыкновенно внимательный и добрый взгляд. Иногда мне кажется, что такого взгляда я больше ни у кого никогда уже не встречал.
Сентябрь 1948 года. Несколько дней назад умер Жданов. Наш, первокурсников, первый учебный день на Моховой, напротив Манежа и Кремлевской стены, пришелся на его похороны. Уже год бушевали бури по поводу постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», на всех перекрестках кляли Зощенко и Анну Ахматову, о которой я знал из доклада Жданова только то, что в своем «будуаре» она «грешит и кается. Кается и снова грешит».
Как вспомнишь, задним числом мурашки по спине бегают. А на моем пути, сколько ни напрягаю теперь свою память, еще не встретился ни один человек, который отнесся бы зло ко мне, позавчерашнему выпускнику средней школы, вчерашнему абитуриенту, сегодняшнему первокурснику филфака МГУ. Наоборот, все только и делают, что вызволяют меня из разных нелепых ситуаций, в которые я то и дело попадаю по собственному растяпству.
Вот и Сима Гуревич, недолго думая, зачислил меня внештатным сотрудником отдела культуры и быта, выдал, о чем я даже и помыслить не смел, переступая порог редакции, удостоверение в виде красивой бумажки со штампом МГУ и печатью… Заодно и сообщил имя заведующего отделом, куда я был зачислен корреспондентом на общественных началах, – Алексей Аджубей. И внимательно посмотрел на меня. А может быть, это мне так теперь кажется?
Убей меня бог, не помню, был ли Аджубей тогда уже зятем Хрущева. Но помню, что в тот момент я понятия не имел об этом примечательном обстоятельстве…
Мой первый в жизни зав мне понравился с первого взгляда. Быть может, тем, что не стал вводить меня в курс забот отдела. Не стал выяснять, что я могу и не могу.
Просто залез в карман своих твидовых штанищ, достал бумажку и сунул мне в руку:
– Это письмо из общежития строителей МГУ. Дуй туда и проверь. И напиши, как у них там. Жалуются, что плохо.
Поехал я проверять, хотя понятия не имел, что, собственно, сие слово означает.
Адрес был – Хохловка, тоже название для меня неизвестное. Когда я написал о том, что там увидел, а было еще хуже, чем у нас в Останкине, двухэтажном бараке на сорок квартир с двумя кухнями и двумя уборными, и протянул написанное Аджубею, он первым делом взглянул на заголовок. Увидел: «Хохловка – это где?» – и просиял. Так и началась наша дружба.
История с заголовком повторилась несколько лет позднее. Журналист «Комсомолки», я вернулся из своей первой заграничной поездки – из Болгарии, где провел месяц. По приглашению, или, как тогда говорили, по обмену, с болгарской молодежной газетой, их «Комсомолкой» – «Народна младеж». Так наградили меня за мои критические заметки с алтайской целины.
Хотя работал я в комсомольском отделе, свой первый болгарский опус отнес, как положено, заведующему иностранным отделом Борису Стрельникову.
– Как назвал? – спросил он с усмешкой. – Небось, хороша страна Болгария?
Я кивнул не без злорадства. Поскучнев ликом, он нехотя взял у меня из рук рукопись. Взглянул на первую страницу и расцвел: «За границей – но дома».
Я действительно так себя тогда чувствовал в Софии и в Болгарии. В августе – сентябре 1956 года. За два месяца до венгерских событий. И не было в этом ощущении ничего имперского, никакого гегемонизма.
Просто ощущал себя желанным гостем. Хотите верьте, хотите нет. И все мои хозяева из «Народна младеж» именно так ко мне и относились. И никогда уже больше, ни до и ни после, ни в Болгарии, ни где-нибудь еще, мне не посчастливилось встретиться с таким приливом любви ко всему русскому. Которое, как не сразу, но заметил, никто не называл советским. Но пока я в МГУ на Моховой. Студент первого курса филфака, рвущийся на отделение журналистики. И до смерти Сталина еще почти пять лет.
«Наши женщины должны одеваться как княгини…»
В старом «новом» здании МГУ на Моховой, там, где с выходом на улицу Герцена теснилась и многотиражка «Московский университет», главная аудитория называлась Коммунистической. В старом здании, Моховая, 9, где на четвертом этаже находились сразу и филфак, и факультет журналистики, самой большой была угловая аудитория № 2, с окнами на Моховую и Манежную площадь. Здесь читались лекции для всего курса и совершались все общественные события. Общественная жизнь била ключом, и, как тогда любили выражаться, все по голове.
Мы как раз начинали наш второй курс, когда жертвой такой привычки «кипеть и пениться» стал наш однокашник, туркмен Мурат Непесов.
Дело было в Комаудитории, на обсуждении пьесы Анатолия Софронова «Московский характер», о которой буквально на днях стало известно, что она получила Сталинскую премию первой степени. Мурат, рослый детина, с копной черных жестких волос, обрамлявших смуглое, скуластое, с крупным носом и губами бантиком лицо, вдруг поднялся на сцену и сказал, что спектакля он не видел, денег нет в театры ходить, а пьесу читал и она ему не понравилась. Аудитория, то есть все присутствующие в ней, сначала охнули, а потом словно онемели.
Воцарившуюся тишину прервал заполошным голосом председательствующий, аспирант филфака, который предложил Мурату, верзиле с ликом кочевника, объяснить собравшимся, чем именно не понравилась ему пьеса выдающегося драматурга современности, одного из руководителей Союза писателей СССР, которая только что была так высоко оценена партией и правительством.
Развернутых аргументов у Мурата не нашлось. Он просто буркнул, что с трудом дочитал пьесу до конца, и спрыгнул со сцены поближе к выходу.
Громы и молнии по его адресу раздавались, судя по всему, в его отсутствие. Но через пару дней в старом корпусе собралась, не по своей инициативе, комсомольская группа отделения тюркологии и дружно, без долгих прений, вкатила ему, при молчаливом его согласии, выговор «за незрелое поведение при обсуждении общественно важных вопросов». Мурат не каялся, но и не трепыхался. Стороны разошлись довольные друг другом.
Примерно в те же дни, заскочив по ошибке в полукруглую Вторую аудиторию, я попал на обсуждение другого премированного шедевра той поры – спектакля по пьесе Анатолия Сурова «Рассвет над Москвой». В гости к аспирантам филфака приехали артисты Театра имени Моссовета во главе со своим художественным руководителем Юрием Александровичем Завадским.
Пьеса, как я слышал раньше, была о текстильщицах московской Трехгорки. Выступавшие соревновались в комплиментах автору и труппе. И только один аспирант позволил себе усомниться в полном совершенстве текста.
– Почему, – вопрошал он, – автор пьесы считает, что высшей похвалой нашей женщине служит сравнение ее с аристократками прошлого?
И хотя оратор идеологически выдержанно апеллировал к пролетарскому достоинству героинь пьесы, Юрий Александрович, статью и величавыми манерами которого я любовался уже целый час, вскочил как ужаленный.
– Эти слова, – произнес он своим неповторимым баритоном, льющимся словно ртуть – тяжело и блестяще, – эти слова, дорогой товарищ, – а слышалось: «Милостивый государь», – в которых вы изволили обнаружить подобострастие перед дореволюционным прошлым, принадлежат, да будет вам известно, – тут он взял и обескураживающе долго держал классическую паузу, – принадлежат товарищу Сталину, – не помню, назвал ли он его при этом великим вождем, корифеем всех наук и лучшим другом всех трудящихся. – «Наши женщины достойны того, чтобы одеваться как княгини…» – сказал товарищ Сталин.
Я много раз еще видел и даже встречался с Юрием Александровичем – в театре, на каких-то заседаниях, дома у Галины Сергеевны Улановой, мужем которой он когда-то был.
Либерал, вольнодумец, новатор сцены, чей талант обрел второе дыхание в годы хрущевской «оттепели». Но каждый раз в памяти всплывала злополучная Вторая аудитория, наполненная блестящей декламацией великого лицедея и растерянностью аспиранта с не запомнившимся мне именем.
Это как с траурным маршем Шопена. Стоит его услышать, как правило, в соответствующей обстановке, как начинают, словно в насмешку, звучать кем-то однажды напетые слова: «Умер наш дядя…»
Десятилетия спустя прочитал в книге Алексея Щеглова о Фаине Раневской, что она назвала этот спектакль о производстве тканей, в котором вместе с ней были заняты Николай Мордвинов, Вера Марецкая, Борис Оленин, голгофой для актеров, «соплями в сахаре»…
«Открытое письмо Борису Панкину» и «правда о понизовском»
Как сейчас понимаю – внешне он был похож на Константина Симонова. Чернявый. Улыбчивый. С такой же, только не обеспеченной еще творчеством манерой подбадривать и одушевлять окружающих. Не потому ли мы выбрали его комсоргом нашего первого, в зимние каникулы, похода «от Мурома до Рязани»? И такой же писучий, как Симонов. Только пока без его оглушительной славы.
Популярность Володьки Понизовского не распространилась дальше нашего курса. Но на нашем, где ребят было раз, два и обчелся, все девчонки поголовно были влюблены в него. Как бы по определению. Так что мы даже и не пытались ревновать. Находили это бессмысленным. А может, это мне просто так казалось?
И вот на четвертом курсе в стенной газете филфака появилась статья с огромным жирным заголовком: «Правда о Понизовском». Признаться, уткнувшись в нее, я не скоро сообразил, в чем, по мнению авторов, состояла эта правда. Прежде всего меня поразило то, что под статьей стояли две подписи – двух наших закадычных друзей. Оба, как нарочно, участники того самого похода зимой, на лыжах, из Мурома в Рязань.
Но и это открытие я не успел толком переварить, потому что рядом обнаружил другой опус такого же примерно размера, который назывался: «Открытое письмо Борису Панкину». И под ним – четыре подписи, тоже моих да и Пини Гопского (прозвище Понизовского) лучших друзей.
Если посмотреть на это сегодняшними глазами, все совершенно ясно. Особенно насчет Понизовского. Конец 1952 года. Он – еврей. Сын репрессированных. О судьбе отца ничего не знал, а мать, врач по профессии, недавно вернулась из мест не столь отдаленных, не могу теперь сказать, каким чудом, и работала в клинике профессора Вовси. Да, того самого, что был одним из главных обвиняемых по пресловутому делу врачей.
Вспоминаю, каким подавленным стал Володька, когда в газетах появилось сообщение об этой «преступной группе», как он, словно заведенный, все повторял, что мать как раз у Вовси работает.
– Ну и что же, – с чистым сердцем успокаивал я его и все никак не мог взять в толк причину его томлений, – ну и что же, что она у Вовси работает. Она-то ведь не вредила, никого не травила. При чем тут, что у него работает…
И вот теперь «Правда о Понизовском». Ясно, с каким прицелом это сделано. И на что рассчитано. Ведь совсем недавно исчез из коридоров филфака Костя Богатырев, и Симы Маркиша нет… О первом шептались – арестован. Второй, вместе с сокурсницей-женой, Инной Бернштейн, отчислен из университета…
А из ареста профессора Пинского, который читал курс о западной литературе, даже секрета не делали. Нам на курсе он запомнился одной фразой из лекции об эротике Средних веков: «Сладострастна не обнаженная женщина, а обнажаемая женщина».
И то, что друзья подписались, – тоже понятно. Их припугнули, они и подписали как наиболее осведомленные свидетели Володькиных похождений. А может, даже это и не потребовалось. Они же все комсомольцами были. Понимали, что к чему. Раз надо, значит, надо. Тем более все это знали – Дон Жуан…
А Панкина пристегнули для отвода глаз. Чтобы не говорили, что одних евреев…
Сам до сих пор удивляюсь, что ни тогда, ни после не пришло мне в голову поинтересоваться подоплекой. Даже мысли о возможности ее не появилось. Просто были боль и обида, что лучшие друзья не захотели тебя понять.