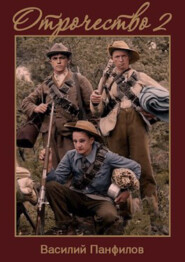
Полная версия:
Отрочество 2
– Значит… так, – повторился я, собираясь с мыслями, – всё Сенцово тянуть – тянулка порвётся. А вот, к примеру…
Как нарошно, пример не подворачивался.
… – санитаром в больницу могу помочь устроиться, – родил наконец мозг, – и не только в Москве!
Соображалка заработала на полную, и судя по выдоху Агафона, такие карьерные возможности весьма впечатлили пастуха.
– Как вам Одесса?
– Хто? – осторожно поинтересовался Агафон, уставившись на меня незамутнённым взглядом.
– Не кто, а где! Город такой, у самого Чорново моря! Портовый, тёплый. Вот в порт ещё могу помочь.
– Агась! – закивал старик, – Ето значит, одним работка в городе, а другим – землица оставшаяся? Так оно и ладно!
– А ето, – спохватился он, – с обедами при школе? Ну… и школа тож, штоб ребятишек питать, и грамоте, опять же, не лишнее…
Вытянув шею, он с тревогой вглядывался в моё лицо.
– Останется.
– Благодетель! – прослезился старый пастух, норовя припасть к руке.
– Санитаром, ишь ты! – со вкусом проговорил Агафон, выйдя со двора и щупая разбухший узелок, в который сердобольная горнишная насовала всяково. Даже и хлеб ситный есть, а?! Не сильно даже и заветренный! Небось и староста таким не побрезгует, а токмо спасибочки скажет, тока дай!
– Это ж кому такой карьер светит? – задумался он, – При больничке, да небось – доедать за болезными можно? Да-а… Одново киселя небось хучь объешься! И каши досыта. А всево-то – говна за болезными выгребать.
Рассуждая этак, он брёл потихонечку в сторону ночлежки. Переночует севодня, а завтрева и восвояси, а уж дома он обскажет всё как есть! Да… и сверх тово чутка!
«– Небось теперя не будут попрекать куском хлеба, да приживалом звать, хе-хе… Вспомнили о старике, ну да он теперь важнющий будет, а не как раньше. Как же, пробился к Егору Кузьмичу, и тово – добился! В город, да на такие работы уговорил, штоб помог устроиться, а?! А всё почему? Потому шта подход и уважение к каждому нужон!
Поехал бы старостёнок, так небось шишь ему, потому как забижал Егора по малолетству! А ён, Агафон, всёй-таки первый учитель, и уши зазря не драл! Ишь, в люди как высоко выбился…
Это ж теперя я сторожем при школе, – размечался он, – шти кажный день хлебать буду. Так вот кулаком по столу стукну, и скажу, што Егор Кузьмич велел миня как первово учителя свово особливо кормить! А?! При школе-то! При ребятишках-то веселей будет. И жалованье, ети ево!
Три рубля в месяц, да при казённом жилье и харчах, это же, это… деньжищи!»
Агафон снял картуз, утерев мигом вспотевшее лицо, и пошёл по городу Москве важно и чинно, как полагается чилавеку состоятельному и с положением в обчестве.
Пятая глава
– … Егор Панкратов, четырнадцати лет, приговаривается… – губы судьи, зачитывающие приговор, шевелятся подобно двум жирным червям, но я не слышу, разом оглохнув и будто даже ослепнув. Перед глазами всё расплывается – слёзы…
Ловлю взглядом опекуна, кусающего губы и придерживающего обморочную Марию Ивановну, обвисшую на руках. Взгляд его виноватый и отчаянный, но я киваю ему решительно – всё будет хорошо, дядя Гиляй! Всё будет…
… коридор подземного хода, тянущего сыростью и холодом. Железо на ногах вытягивает остатки тепла, и ступни уже ледяные. Толчок в спину, и я касаюсь плечом обшарпанной краски, прикрывающей красный кирпич.
Камера. Сон, прерываемый по три раза в час, а днём – допросы по двенадцать-пятнадцать часов подряд, без возможности присесть или хотя бы прислониться к стене. Ни отдыха, ни глотка воды, и только лица сменяющих друг друга дознавателей – то спокойные, монотонно спрашивающие одно и тоже раз за разом, то надрывающиеся в крике.
Напрягшиеся жилы на шее, слюна в лицо, бешенство в глазах жандармов. Когда наигранное, верноподданническое, а когда и настоящее – от того, что я упорствую, усложняю им работу. Всё равно сломаем! Отвечай!
Отвечай, отвечай, отвечай… Ловят на противоречиях, пытаются сломать психику самыми разными способами. Задают интимные вопросы о горячечных подростковых снах, да думаю ли я в таком контексте о Марии Ивановне? Наденьке? Фире? Сами же за меня и отвечают, смакуя грязные фантазии.
Я уже осуждён, но им нужен показательный процесс, нужны сообщники…
… либеральная интеллигенция, жиды, инородцы, подозрительные иностранцы. Владимир Алексеевич, тётя Песя, Фира и всё, все, все.
Слышу разговоры жандармов, что будет громкий процесс. Большой. От меня не скрываются, и разговоры эти – часть ломки.
– Самодержавие не ограничивается правом, – интеллигентнейшего вида ротмистр расхаживает по кабинету с видом лектора, – наоборот – оно само его регулирует. Источник права в России – личная воля монарха!
Белые перчатки хлещут меня по щеке. Еле-еле, но я уже на взводе, и…
… сваливаюсь с кровати.
– А? Што?! – заполошился Санька, сев на постели и сонно лупая глазами, – Опять сны?
– Угу, – заваливаюсь на кровать, подтянув зазябшие ноги под одеяло. Но сердце колотится так, што ну не до сна!
Сажусь, нашаривая босыми ногами тапочки и стягивая с тумбочки часы. Щелчок… полпятого утра, можно уже и не ложиться. Пока оклемаюсь, пока то да сё, уже и вставать пора.
Потянувшись сонно, брат встаёт вместе со мной. Умываемся, просмаркиваемся и чистим зубы, не будя никого из домашних.
Чижик сонно плюхается на табурет возле кухонной печи, а я развожу примус и ставлю чайник.
– Што ж вы меня-то не разбудили, – укоряет выплывшая из своей каморки Татьяна, свято уверенная в том, што мужчины на кухне – сильно не к добру. Ишшо не рождение двухголового телёнка, но где-то рядышком со срывающим кровлю ураганом.
Несколько минут спустя мы едим яишенку на сале, да с грибочками и чем-то шибко секретным, но несомненно вкусным. Горнишная на скорую руку наводит какие-то блинцы, уже смазывая сковороду маслом.
Сон отпускает помаленьку, истаивая в наступающем утре, в запахах яишенки, в деловитой возне Татьяны, в сопении брата, сидящево по левую руку. Всего-то – страхи, разговоры многочисленных гостей Гиляровских о политике, да читанные мемуары о «деле пятидесяти[10]», и…
… дежурящие у дома жандармы.
Третью ночь так вот – с кошмарами, неотличимыми от реальности, и жандармами под окнами. Не скрываются – напротив, давят на психику мне, адвокату, свидетелям и всем-всем-всем. Молох. Личная воля если и не самого монарха, то Великого Князя. Самодержавие.
Знаю, што стоит мне подойти к окну, отдёрнув занавеску, как увижу дежурящего внизу низшего чина от жандармерии. Чёрный вход, парадный… всё едино. Не прячутся под дождём, маячат так, штобы их всегда было видно из окон квартиры Гиляровских.
Давление. На меня, на семью, на свидетелей и общественность. Я – особо опасный преступник, и все эти действия подчёркивают, што в верхах уже всё решили. Такие вот дела.
Выглянув в окно, вижу моросящий дождь и унылую фигуру жандарма, стоящую у дровяного сарая во внутреннем дворике – так, штобы видно было из кухонного окошка. Жалко служивого? Прислушиваюсь к себе… а пожалуй, што и нет. Но нет и злорадства.
* * *– … за создание и распространение письменных или печатных изображений с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам Государя, или к управлению Его государством.
Прокурор торжественно зачитывал текст обвинения, играя голосом как заправский актёр. Раздвоенная ево, тщательно расчёсанная на стороны борода подрагивает в такт.
– Кхе! Так же инкриминируется надругательство над изображениями императора и членов их семьи, в том числе умышленное повреждение или истребление выставленных в публичном месте портретов, бюстов.
– Кхе! Кхм! – бумага подрагивает в руке, – В распространении ругательных писем, бумаг или изображений, оскорбляющих правительство и чиновников.
Зачитав обвинительный приговор, обвинитель сел.
– Редкая гнида, – чуть повернувшись ко мне на деревянной скамье, шепчет Иосиф Филиппович, – большой поклонник Фукса и Дейера[11], как собственно и сам судья.
Киваю, и начинаю нервно напрягать и ослаблять пальцы ног в тесноватых прошлогодних полуботинках. Стараюсь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, што даётся мне ой как нелегко!
Опрос свидетелей, каких-то невнятных, и в большинстве своём незнакомых мне личностей. Конкретики нет, лишь поток грязи и домыслов ради создания нужного обо мне настроя у присяжных.
– … так ето, – оглядываясь на судейских и старательно не глядя в мою сторону, рассказывал очередной свидетель, прижав картуз к груди, – ето Конёк, ево на Хитровке все знають! Опасный, стал быть, чилавек, господин… етот… барин ево правильно назвал. Сициялист как есть! Они так все сициялисты, до единого! Сициялисты и мазурики, так вот.
– Протестую! – встал адвокат, – Мы не услышали ничего по предъявленным обвинениям!
– Протест отклонён! – и свидетель продолжил своё путанный рассказ, кося глазами в сторону одобрительно кивающего представителя обвинения.
– Мажут, – сев, коротко сказал Иосиф Филиппович, настроенный весьма боевито и ничуточки не разочарованный.
– Ложечки нашлись, а осадок остался?
– Вроде тово, – усмехнулся старик, откинувшись назад с видом человека, сидящего в кабинете ресторана после хорошево обеда.
– Адвокату есть что сказать? – пожевав дряблыми губами, поинтересовался судья, выслушав свидетельские бредни с самым благосклонным видом, и подавшись вперёд так, будто говоря «– Ну-ка попробуй! Скажи!»
Иосиф Филиппович, нимало не смущённый столь открытым давлением, встал.
– Фарс!
… и сел назад.
«– Лучше тысячи слов!»
Судья застучал молотком, напоминая о неуважении к суду, апоплексически ярясь и тряся отвислыми щеками.
– Если бы Герард Давид[12] присутствовал на этом суде, – громко сказал Иосиф Филиппович, – он бы написал не диптих, а триптих.
Судья побагровел ещё больше, застучав молотком. Присяжные зашептались, послышались нервные смешки на галерке.
Обвинитель дёрнул щекой, и…
– … своими глазами видел, вот те крест! – новый свидетель, пожилой мещанин, истово перекрестился, а потом с ненавистью глянул в мою сторону, сощурившись близоруко, – На дерево облизьяной, а потом раз! И патрет! На шибенице! Я тогда не понял, а потом мне пояснили, што сие не демон на трупах пляшет, а сам Государь в таковом обличьи. У, злыдень!
Он погрозил в мою сторону сухоньким кулачком.
– Свидетель несколько горячится, – перехватил инициативу прокурор, – но я могу легко понять верноподданного, столкнувшегося с чудовищным… не побоюсь этого слова – вопиющим случаем! Случаем, от которого любой нормальный человек, не думая долго, закатает рукава, и возьмёт подвернувшуюся под руку сучковатую дубину, дабы гвоздить супостата без всяких дуэльных правил!
– И Отечественную войну сюда приплёл? – сощурился адвокат, с самым благодушным видом взирающий на Демосфена от прокуратуры.
– Он, кажется, близорук, – прошептал я адвокату.
– Да?! Ещё интересней…
– Благодарю уважаемого обвинителя за прекрасное знание отечественной истории, – с нотками снисходительности сказал Иосиф Филиппович, получив слово, – приятно, право же, знать, што современная молодёжь получила хорошее образование.
Пятидесятилетний представитель «молодёжи» усмехнулся кривовато, но смолчал, не вступая в полемику.
– Скажите пожалуйста, – ничуть не смущённый, Иосиф Филиппович обратился к свидетелю, – значит, вы сначала думали, што на сей картине изображён демон? Замечательно… могу я попросить внести наконец вещественное… хм, доказательство в зал суда?
Небольшая заминка, и продукт моево творчества внесли в зал на всеобщее обозрение. Присяжные зашушукались, среди публики послышались смешки.
– Художественная ценность… – присяжный поверенный пожевал губами, – не могу судить, но если пришлось растолковывать свидетелю, што на ней именно Государь… Я к слову, не вижу никакого Государя на этом… хм, холсте.
– Обезьяна, – с наслаждением проговорил он, – коронованная обезьяна, танцующая на трупах. Впрочем…
Иосиф Филиппович с сомнением оглядел сторону обвинения, и пожал плечами красноречивым видом.
– Проявите уважение к суду! – весьма не к месту застучал молотком судья. Адвокат, не оспаривая эти слова, ещё раз осмотрел парсуну Николая Второго… по утверждению обвинения…
Кошусь в сторону опекуна, тут же закивавшево мне, и киваю ответно. Держусь, дядя Гиляй! Держусь!
– Н-да… Представьте, – продолжил Иосиф Филиппович, – что я нарисую… допустим, осла[13]. Или обезьяну. И кто здесь оскорбляет Государя? Я? Или может быть, прокурор, ухитрившись увидеть царственные черты на этом… хм, полотне.
– Вы считаете Государя ослом или обезьяной?! – тон адвоката резко переменился, и такой в нём был яростный напор, што прокурор отшатнулся и…
– Обезьяной?! – смена ролей резко ударила по чиновнику, и пока он, задыхаясь, подбирал слова, Иосиф Филиппович продолжил с экспрессией.
– Как можно продолжать этот судебный фарс, если прокурор считает Государя обезьяной?!
– Я, я…
– Неуважение к суду!
Казалось, судья сейчас выпрыгнет и вгрызётся оставшимися у нево гнилыми зубами в морщинистую шею моего адвоката, такая в нём плескалась ненависть. В потухших глаза прокурора – понимание закатившейся напрочь карьеры и возможной отставки. Если повезёт – с пенсией.
– … и наконец, – Иосиф Филиппович, снова вальяжный, вызвал основного свидетеля обвинения, – милейший Иван Сергеевич, вас не затруднит сказать, на каком расстоянии вы видели якобы моево подзащитного?
– Саженей двадцать, – опасливо отозвался мещанин, заробевший после увиденново.
– Замечательно! – восхитился адвокат, – Я рад, што вы смогли сохранить остроту зрения в достаточно преклонном возрасте.
– Господа, – обратился он к залу, – гимназический курс математики все помнят? Каково примерно размера будет голова человека на таком расстоянии? Замечательно!
Вытащив фотокарточку, он принялся отмерять шаги, и наконец – поднял её над головой.
– Запас видимости в вашу пользу, Иван Сергеевич, – сказал он, – я прошу вас только сказать – кто изображён на этой карточке! Ну хотя бы – мужчина это, женщина…
– Женщина, – брякнул щурившийся свидетель явно наобум.
– Ну… почти угадали, – согласился Иосиф Филиппович, – сука. Фотография моей любимой левретки Жужи.
Поднявший хохот не сразу заглушил стук молотка, и…
… оправдан по всем пунктам.
– Это ещё не конец, – пророчески сказал Иосиф Филиппович, закончив принимать благодарности и поздравления с видом олимпийца, уставшего от фимиама от простых смертных.
– Это ещё не конец, – повторил он, сощурившись, и в его выцветших старческих глазах, в самом тоне сказанных слов, мне почудилось, как наяву – облегчение. Облегченье человека, который смог – вот так, во весь рост! Пусть даже и на старости лет.
Шестая глава
– Я бился за каждый рубель! – патетически воздевая костлявые, веснушчатые руки вверх, и будто бы призывая Всевышнего в свидетели, – повествовал Лев Лазаревич, тигром расхаживая по полутёмной комнатке на заду аптеки, – За каждый наш шекель, за полушки и полугроши! Ни шагу назад!
Глаза ево сверкали по-кошачьи, а присыпанные перхотью пейсы развевались победными флагами. Воитель! Финансовый кондотьер, берущий штурмом чужие капиталы и успешно защищающий честно награбленное!
– Лев из колена Давидова, – усмехнулся я.
– Ой! – всплеснул руками компаньон, резко повернувшись ко мне, крутанувшись на пятках, как молодой, – Вам таки смешно за деньги? Могу поторгованное отложить сугубо в свою, а не в нашу общую пользу!
Он чуть ссутулился и вытянул худую шею – чисто стервятник, готовый вот прямо сейчас броситься к столу с финансовой документацией, и душить мине фактами, как опытный бухгалтер с двойным дном. Тыкать сухими пальцами в аккуратно выведенные циферки, посылая оппонента в нокдауны собственной несостоятельности. Герой увлекательного мира ростовщичества и гешефта!
– Да шо ви такое говорите, Лев Израилевич?! – я вытаращился на него по обычаю Привоза, разговаривая не только языком, но руками и всем своим лицом так, шо куда там миму! – Как ви можете видеть странную насмешку там, где есть большое моё одобрение и искренне восхищение вашим неустанным трудом в свою и нашу пользу!? Ещё самую немножечко таких необычных для вашево народа мыслей и разговоров, и ви таки повесите у сибе иконы, подружитесь с толстым батюшкой, и станете интересно говорить за погромы во время чая с мацой!
– Мине показалась ваша улыбка? – прищурился он, – Таки да или – извините, Лев Лазаревич?
– Улыбка радости и одобрения, Лев Лазаревич! – всплеснул я руками, делая большие еврейские глаза, – Где я могу горевать и хмурить брови домиком, когда ви говорите мине за прибыль!? Извините таки, шо я радуюсь, когда мине говорят за мои деньги в сторону прибыли! Ещё немножечко, и стану с подозрением смотреть на вам! В конце концов, кто из нас двоих жид, который должен подавать другому пример правильного отношение к шекелям?!
– Таки ой! Совсем обрусел, – компаньон мой потёр лицо, и уже с меньшим пылом начал рассказывать за антикварный бизнес. Прибыль таки да, но мы таки посовещались, и я решил пустить её в оборот и на пользу, а не хапнуть на карман здесь и сейчас.
Лев Лазаревич от моево решения пришёл в некоторый минор и вздыхание, но на прямой вопрос, а што с ним не так, только сопел и вздыхал.
– Да всё понимаю! – взорвался он наконец, шумно высморкавшись в большой клетчатый платок, нервно теребимый руками, – Но это же не значит, шо мине нельзя погрустить о деньгах, которые будут не прямо сейчас в моём карманах, а когда-нибудь потом через может быть?!
После попив чаю с вкуснющими бейглами[14], распрощался с компаньоном и евойной супружницей, выйдя из затхловатой аптеки на свежий, но излишне сырой московский воздух. Порывистый ветер сразу бросил в лицо мелкие брызги, пахнущие палой листвой и немножечко дымом с конским навозом, и я сразу одел поглубже шляпу, натянув чуть не по самые уши.
– Постой-ка… – вцепилась в меня какая-то мещанка из ремесленных – совсем старая, чуть не пятидесяти лет, – милок…
– А-а! – взывала она внезапно пароходной сиреной, когтисто вцепившись в рукав и потянув меня вниз…
«– Вы получили дебаф – оглушение!» – выскочило в подсознании не к месту, и меня будто шарахнули кулаком по голове, выбивая сознание. Нокдаун!
… – ето ж тот! – орала она зажав меня в угол и обдавая нечистым дыханьем впополам с летящей слюной, – который против Государя анпиратора гадостное всякое! Вот он, люди! Глядите на нево!
Крутанувшись вокруг себя, пытаюсь вырваться и уйти, не схватываясь с бабкой напрямую.
– Убили! А-а! Как есть убили! – не прекращая визжать, бабка вцепилась в меня, повиснув всей тяжестью на руке.
– Ты чево это женщин забижать задумал? – шагнул ко мне добрый молодец, из охотнорядских по виду, закатывая рукава на волосатых руках, размерами и цветом напомнивший мне окорока. В маленьких, глубоко посаженных глазах цвета остывшево свинца, плещется медленно нагнетаемая ярость. А ещё радость и… боевое безумие.
«– Халк крушить!»
– Жи-ид! – бабка, войдя в раж и не заприметив добровольного помогальщика, сама заступила ему дорогу, ткнувшись согнутой костлявой задницей куда-то чуть выше колен, – От жида вышел! А-а! С жидами дела ведёт, супротив Государя!
– Тьфу на тебя, тьфу! – смачный плевок растёкся по моему лицу, и я, не сдерживаясь уже, толкнул старуху в объятия охотнорядца, вышагивая из угла и неистово вытирая лицо рукавом, сдираю слюну едва ли не вместе с кожей – до крови.
– Женщин… – радостно проревел добрый молодец, приняв бабку и тут же небрежно спихивая её в сторону, где она и завалилась набок на скользкой от влаги брусчатке, показывая нечистые нижние юбки, – забижать…
Богатырский замах с плеча, рука отведена так далеко, будто охотнорядец вознамерился метнуть копьё. Шаг назад, уклон… и кулак с гулом пролетел мимо моей головы, а охотнорядец по инерции завалился вперёд.
Кастет будто сам впрыгнул в руку, и н-на! По почкам, да весь свой невеликий вес, всю свою силу – от бедра, провернувшись на носке!
Тело свернулось калачиком, подвывая, а я уже спрятал кастет – как и не было. И только сейчас вижу – зрителей, свидетелей… досадливо хмурящийся полицейский в штатском и городовой, только подносящий свисток к губам.
– Фыр-р! Фыр-р! – и гулкий топот тяжёлых сапожищ. Грузный городовой, придерживая рукой отроду не точенную шашку, спешит ко мне, дуя на ходу в свисток и отчаянно раздувая выбритые до синевы толстые щёки. Усищи ево тараканьи дрыгаются в такт шагам. Бум! Бум!
Хвать! Выпученные от служебного рвения глаза с красноватыми прожилками, железные пальцы на моём плече, запалённое дыханье завзятово курилищика и выпивохи. Запах водки, лука, ваксы и крепкого табака.
Ждали.
Участок, составление протокола…
– Имя, фамилия, род занятий… – писарь заносит перо над чернильницей.
– Я! Я свидетель! – немолодой осанистый господин в бобровой шубе ворвался в участок, распихивая не успевших увернуться служивых.
– Мы… ф-фу… с супругой прогуливались, и видели всё происходящее! Ф-фу… Проверьте этих двоих… молодчика с бабкой… ф-фу… на соучастие. Очень уж похоже на срежессированную сцену, мошенники какие-то!
В голосе благонамеренное возмущение честного и неравнодушного гражданина.
– В суде если понадобится, всегда пожалуйста…
Визитки – мне, полицейским… принимаю с благодарностью. Солидный человек, и што важно – не на государственной службе, то бишь – не надавишь.
Недовольное лицо агента в штатском в углу участка. То кривит губы, то собирает их куриной жопкой, двигая рыжеватыми усами. Недовольный. Сорвался с крючка нехороший я. И обещание в глазах…
«– До следующего раза, Враг Государства!»
… иль почудилось?
– Егор! – удаляюсь от полицейского участка быстрым шагом, подняв воротник и ощущая на лице этот вроде бы и вытертый плевок, в грудях всё кипит и клокочет, – Егор!
– А? – Оглядываюсь, и верно – догоняет кто-то. Долговязая фигура, знакомое лицо… – Ба! Сергей Сергеевич!
– Он самый, – знакомый ещё по Бутово скубент… хм, студент, догнал-таки, отчаянно при том запыхавшись и покрывшись испариной, – А вы Егор…
– Кузьмич.
– Егор Кузьмич, – повторяет знакомец, протягивая руку, – вы не против разговора? Надолго мы вас не займём!
Ну раз ненадолго… Особо-то и тянет-то, говорить кем-то, но настроение такое, што ух! Остыть надобно, потому как не дело это, на домашних срываться.
В ближайшем извозчичьем трактире, полупустом по безвременью, заняли столик в углу, запросив чаю у молоденького полового в белейшей рубахе голландского полотна.
Старые знакомцы – Сергей Сергеевич и Анатоль, да двое молоденьких совсем – тока-тока из гимназии – Глеб и Андрей. Прыщи ещё юношеские не прошли, пух над верхней губой, необмятые студенческие шинели, новёхонькие фуражки на стриженных головах.
В рот Сергей Сергеичу, мало не как птенцы – только и осталось, што рты раззявить. А тот как должное принимает. Вождёнок!
Разговор издалека начали, с подходцем. Вспомнил Сергей Сергеевич бутовское наше знакомство, посмеялся снисходительно. Анатоль второй скрипкой в этом дуэте сыграл, и отменно фальшиво! Хехекал и улыбался сугубо после оглядки на старшево… да товарища ли?
– Что же вы, Егор Кузьмич, таили от нас в Бутово свои способности? – попенял мне Сергей Сергеич свысока, – Могли бы свести вас с нужными людьми – привести, так сказать, к свету!
А в глазах такая снисходительность, такое чувство собственной важности!
«– Наше величество» – вякнуло подсознание, и я согласился – похоже!
– Да я и так… хм, на свету.
– Хе-хе! – Сергей Сергеич засмеялся, будто удачной шутке, грозя мне пальцем, и внезапно тяжко раскашлялся, совершенно чахотошным образом.
«– Эк тебя!» – и я опасливо отодвинулся чуть назад, откинувшись на спинку скамьи самым невоспитанным образом.
– К газете прибиться, это хорошо, – кивочек лёгонький свысока, вроде как одобряет, – но это не отменяет необходимость нормального образования, нормальной жизни…
Я ажно озадачился – никак не признал? Думает, што я при газете курьером? Однако… Не сразу-то и выдохнул удивление своё, а потом – да, не велика птица-то! Широко известен в узких кругах, так сказать. Никак не на всю Россию-матушку.
Даже и статейки после суда такие себе сумбурные и путанные вышли, што скорее – за или против, а никак не мою биографию печатали. Отношение к ситуации в целом, ко мне, к великолепной работе адвоката, но никак не о Великолепном Мне!
Посмеялся мысленно, а когда вернулся в реальность, то Сергей Сергеич моё будущее уже расписывать начал – радужными тонами, сугубо в своём понимании.
– … нормально образование, да-с… Могу уверить, что года за два-три сможем вывести вас на уровень, достаточный для сдачи экзаменов за прогимназию.



