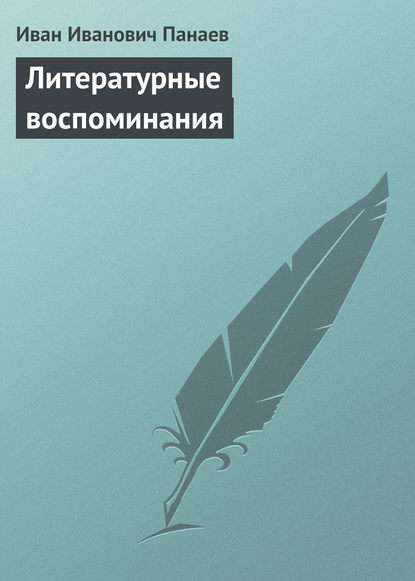 Полная версия
Полная версияЛитературные воспоминания
Вот каков был выбор г. Краевского, вот кому вверял он критический отдел своего журнала, вот кого предпочел он Белинскому!
Я был свидетелем приготовления Межевича к критическим дебютам в «Отечественных записках».
Мы писали с ним в одной комнате на квартире г. Краевского: он – разбор какой-то книжки, я – конец повести «Дочь чиновного человека» для 4 No «Отечественных записок».
Межевичу, кажется, нелегко доставались его критические статейки; он морщился, грыз перо, поправлял очки, прохаживался в размышлении по комнате, тер себе лоб, выжимал после этого из себя несколько строчек и снова начинал мучиться.
На процедуру его писания было смотреть тяжело. Надежды, возложенные г. Краевским на Межевича, должны были рухнуть очень скоро. Но я не буду забегать вперед…
Петербургская литература и журналистика, как я замечал уже, по мере моего сближения с нею, теряла для меня ту прелесть, в которой представлялась мне некогда издалека. Я видел, толкаясь за литературными кулисами, какие мелкие человеческие страстишки – самолюбие, корыстолюбие, зависть – двигали теми, которых я некогда считал за полубогов… Статьи Белинского в «Телескопе», в «Молве», повести Гоголя в его «Миргороде», стихотворения Лермонтова начинали несколько расширять мой горизонт, они повеяли на меня новою жизнию, заставляли биться сердце предчувствием чего-то лучшего. Статьи Белинского начинали окончательно колебать мою тупую веру в литературные авторитеты и мой раболепный страх перед ними. Я уже иногда задумывался над такими явлениями, которые прежде не возбуждали во мне ни малейшей думы; начинал пристальнее вглядываться в лица и в окружавшую меня действительность; сомнение несколько начинало тревожить меня, и мне уже как-то не хотелось принимать на веру и безусловно разные жизненные факты, которым я привык подчиняться с детства, вследствие домашней и школьной рутины. Но все эти признаки пробуждающегося сознания еще проявлялись во мне очень бледно и слабо…
Мысль, что искусство должно служить самому себе, что оно составляет отдельный, независимый свой мир, что чем художник безучастнее в своих произведениях или чем он объективнее, как выражались тогда, тем выше – эта мысль была самою рельефною и господствующею в литературе тридцатых годов. Пушкин развивал ее в своих звучных, гармонических стихах и довел ее до вопиющего эгоизма в своем стихотворении «Поэт и чернь», которое все мы декламировали с восторгом и считали чуть ли не лучшим из его лирических стихотворений. Все замечательные литературные деятели тогдашнего времени вслед за Пушкиным и кипевшая около них молодежь были ревностными, горячими защитниками искусства для искусства.
В последние годы жизни Пушкина, и еще резче после его смерти, Кукольник, принадлежавший также к поклонникам этой теории, проповедывал, как мы видели, еще о том, что истинное искусство не должно обращать внимания на обыденную, современную, пошлую жизнь, что оно должно парить высоко и изображать только героические, исторические и артистические личности. Отсюда эти длинные и скучнейшие драмы с художниками, холодные внутри, как лед, но с клокочущими на поверхности страстями, огромных размеров картины с эффектными освещениями, – и чем длиннее и скучнее была драма, чем больше холст, на котором была написана картина, тем более удивлялись поэту или художнику. Любимыми темами не только для драм, но и для повестей сделались артисты. Кукольник в своих пятиактных драмах, Полевой в своих многотомных романах представляли различных артистов и художников в апофеозе. Кукольник, кроме того, еще пустил в ход патриотические драмы с трескучими фразами, в которых немцев выбрасывали из окон при диких криках и рукоплесканиях райка, и развивал этими произведениями нелепую самоуверенность, которая впоследствии стоила нам так дорого, что русские могут весь мир закидать одними шапками. Полевой соперничал с ним в таком патриотизме и еще придавал ему пошлый, сантиментальный колорит. Оба они наперерыв друг у друга пожинали сценические лавры… Все это было, однако, до такой степени лицемерно и фальшиво, что не могло долго держаться…
Петербургская журналистика представляла также не совсем привлекательное зрелище. Полевой являлся уже совершенно бесцветным и выдохшимся в «Сыне отечества», с появлением каждого нумера теряя свой нравственный кредит. О Сенковском я говорил. О Булгарине и других журналистах говорить нечего. Второстепенные петербургские литераторы писали только так, по рутине и для своего удовольствия, подражая первостепенным и не заботясь ни о каких вопросах и теориях, даже о теории искусства для искусства.
Тоска и апатия невольно овладевала в такой среде… Ни живого слова, ни живого звука при литературных сходках: или одни и те же фразы об искусстве, которые всем прискучили и повторялись уже вяло, или литературные сплетни, выводившие литераторов из апатии и оживлявшие их на минуту.
Даже имя Пушкина уже не так электризовало меня, как прежде. Его русские сказки и Анджело неприятно подействовали на всех его многочисленных и восторженных поклонников; его «Современник» был довольно холодно принят и в литературе и в публике.[5] Большинство говорило, что поэту не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкин стареет, останавливается, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство К новому движению, к новым идеям, которые проникали к нам из Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждая горячее сочувствие в молодом поколении… И несмотря на то, что в художественном отношении Пушкин достигал совершенства с каждым новым своим произведением, молодое поколение начинало заметно охлаждаться к поэту, и только неожиданная и трагическая смерть его возвратила ему общее горячее сочувствие…
* * *В обществе неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова, и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных изолированных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах. Художники и герои с реторическими фразами всем страшно прискучили. Нам хотелось видеть человека, а в особенности русского человека. И в эту минуту вдруг является Гоголь, огромный талант которого первый угадывает Пушкин своим художественным чутьем и которого уже совсем не понимает Полевой, на которого еще все смотрели в то время как на передового человека.
«Ревизор» Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии. Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая, таланта в Гоголе, замечал: «а все-таки это фарс, недостойный искусства».
Вслед за Гоголем появляется Лермонтов. Белинский своими резкими и смелыми критическими статьями приводит в негодование литературных аристократов и всех отсталых и отживающих литераторов и возбуждает горячую симпатию в новом поколении.
Новый, свежий дух уже веет в литературе…
* * *Кольцов, как я говорил, возбудил во мне непреодолимое желание познакомиться с Белинским, с которым я уже был в переписке, и с его друзьями.
Случай к этому скоро представился… По некоторым домашним обстоятельствам я должен был уехать на время из Петербурга…
Я написал письмо к Белинскому, что скоро надеюсь его видеть… и с трепетным наслаждением приготовлялся к минуте этого свидания…
Я выехал из Петербурга 9 апреля 1839 года…
В Москве, кроме Белинского, ожидало меня знакомство с Грановским, Аксаковым, Хомяковым, Кудрявцевым, Коршем (Е. Ф.), Катковым, Бакуниным, Боткиным (В. П.), Клюшниковым (печатавшим свои стихотворения под буквою? в «Наблюдателе» Белинского и потом в «Отечественных записках»)… Я вступал в новую среду, не имевшую ничего общего с описанною мною… Этой среде я обязан всем. В ней начинала пробуждаться и развиваться моя мысль, в ней я получил сознание человеческого достоинства и приобрел те убеждения, которые осмыслили мою жизнь… Белинскому и его друзьям, кроме моего развития, я обязан самыми лучшими, самыми счастливыми минутами в моей жизни…
Но об них я буду говорить во второй части Моих «Литературных воспоминаний»…
Я подхожу к времени уже слишком близкому к нам и потому продолжать мои «Воспоминания» в последовательном порядке не нахожу возможным. Из второй части я представлю, впрочем, несколько отрывков о Грановском, Белинском, Гоголе, Аксаковых и Загоскине…
Часть вторая (1839—1847)
Глава I[6]
Москва. – Знакомство с кружком Белинского. – Семейство С. Т. Аксакова. – Белинский и Константин Аксаков. – Обеды и вечера у Аксаковых. – И. Е. Великопольский. – Бал, данный им на Пресненских прудах, и иллюминация. – М. Н. Загоскин. – Обед у него. – Моя поездка с ним на Воробьевы горы. – Мочалов в «Гамлете» и «Отелло». – Предложение Погодина. – Вечера у Мельгунова. – Павлов и Хомяков, рассуждающие о Милькееве. – Чтение «Тоски по родине» у Аксаковых. – Моя статейка о Москве в «Литературных прибавлениях к Инвалиду». – Разговор мой с К. С. Аксаковым на берегу Москвы-реки у Драгомиловского моста.
…Всякий раз, когда я выезжал из Петербурга, мне становилось легче. Я родился и провел большую часть моей жизни в Петербурге, но никогда не чувствовал к нему особенной привязанности… В Москве я бывал несколько раз ненадолго, проездом. Ее оригинальность, живописность, ее разметанность по холмам, картина Замоскворечья из Кремля, ее исторические памятники, хотя подштукатуренные и выбеленные, вся ее внешняя обстановка возбуждала во мне всякий раз неопределенное поэтическое ощущение, и я начинал питать к ней невольную привязанность… Ко всему этому рассказы Кольцова о кружке Белинского так и притягивали меня к Москве… Москва представлялась мне после этих рассказов в упоительном свете; и теперь, когда она вытягивалась передо мной сквозь пыль с своими бесчисленными куполами и колокольнями, вся залитая лучами солнца, сердце мое сильно забилось и даже слезы выступили на глазах. Мне казалось, что в ней я найду все то, к чему неопределенно стремился, чего смутно и беспорядочно искал, что неясно предчувствовал…
В это время я отчасти уже понимал дикость барства, среди которого я взрос и воспитался. Барская жизнь, барские воззрения, замашки и привычки, барская нравственность нередко смущали меня; но я не останавливался еще ни разу серьезно на самом себе и тупо отдавался всем мелочам праздной, внешней жизни, всей ее пустоте и суетности. Самое легкомысленное тщеславие еще двигало моими поступками. Мне, например, доставляло большое удовольствие знакомство с каким-нибудь титулованным светским господином, хоть самым пустейшим из пустейших; я хлопотал о том, чтобы попасть в великосветский салон, и, попадая в него, ощущал себя почти счастливым, несмотря на то, что в салоне мне было и неловко и душно. Если бы не отсутствие во мне необходимого для света внешнего блеска, если бы не врожденная робость и не страсть к литературе, которая в то же время все сильнее развивалась во мне, я отдался бы вполне и безусловно светской жизни…
Общественные вопросы и политическое движение были совершенно чужды мне, да они почти совсем не занимали в 30-х годах даже передовых людей в литературе, хотя память о наших политических мучениках должна бы, казалось, невольно наводить молодое поколение на эти вопросы. Стоны из сибирских рудников не могли не доходить до него. Реакция после 14 декабря была страшная, все присмирело и оцепенело, запуганное большинство предалось личным интересам – взяточничеству, грабежу и удовлетворению своего чиновнического самолюбия, замаскированного верноподданническими чувствами; незначительное меньшинство мыслящих людей нашло себе примирение и успокоение в немецкой философии и отыскивало в ней данные для возвеличения самодержавного произвола; даже Белинский – по преимуществу, революционная натура – приводил в каком-то дурмане экстаза слова из «Ричарда II» шекспирова, что
…Елей с помазанного короляНе могут смыть все волны океана…И. ПанаевЛитература способствовала общественной дремоте, занявшись исключительно искусством и ратуя с дон-кихотскою яростию за нелепый принцип «искусства ради искусства», – принцип, который снова, но уже без всякого успеха возобновлен был в наше время бессердечными и празднословными литературными джентльменами.
В такую неблагоприятную для моего развития минуту сошелся я с Белинским и его друзьями. Тогда, впрочем, я не сознавал этого и тотчас же безусловно подчинился их авторитету. Каждое их слово сделалось для меня законом.
Когда я подъезжал к Москве, сердце мое билось сильно и радостно при мысли, что я через несколько часов увижу Белинского…
Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формулах, отыскивали примирения во всем – и в литературе и в жизни, примирения во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примиряться; когда знаменитый принцип «искусства для искусства» возведен был ими в вечный закон, а отрицающие или не признававшие его предавались строгой опале, как люди тупоумные, лишенные эстетического чувства…
* * *Я уже говорил о моем первом свидании с Белинским… Через несколько времени после этого я познакомился с некоторыми из его друзей у Боткина, с которым Белинский был в то время в размолвке…
* * *…Дом Боткиных расположен на одном из самых живописных мест Москвы. Из флигеля, выходившего в сад, в котором жил тогда Боткин, из-за кустов зелени открывалась часть Замоскворечья. Сад был расположен на горе, в середине его беседка, вся окруженная фруктовыми деревьями…
В этой-то беседке, в половине мая, в теплый, солнечный день, я встретил в первый раз Каткова, только что окончившего курс в университете, но еще студентом сблизившегося с Белинским и его друзьями, которые видели в нем замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям… Клюшникова, печатавшего свои стихотворения под буквой? и Бакунина… Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулативный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный – все это поражало в нем с первого раза.
Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к воспринятию проповедуемых им отвлеченностей.
Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о примирении и о прекраснодушии на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал, ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.
Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву логику, другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа, – все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича. Каждый благоговейно вспоминал об нем. У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем и знакомил меня с его нежною, тонкою, симпатическою личностию… «Станкевич был душою, жизнию нашего кружка, – прибавил он в заключение, – теперь уже не то… Самое цветущее наше время прошло! Он своею личностию одушевлял и поддерживал нас. Бакунин, как ни умен, но он не может заменить Станкевича…»
Влияние Станкевича на Белинского было глубоко. Белинский всегда сознавался в этом. Первые критические статьи его, где выражался его взгляд на искусство и на жизнь вообще, писаны, без всякого сомнения, под влиянием Станкевича. «В письмах Станкевича, – справедливо замечает г. Анненков, – можно найти намеки на все вопросы, занимавшие потом Белинского и более или менее приближенные им к разрешению»… Станкевич своей кроткой примиряющей натурой несколько смягчал и сдерживал кипучую натуру Белинского и хотел принудить его учиться языкам, особенно немецкому. Он предугадывал в Белинском сильного литературного бойца и хотел расширить его миросозерцание, но очень, повидимому, боялся его, как он полагал, излишней энергии… «Будь чем хочешь – хоть журналистом, хоть альманашником (писал он к нему в 1836 году) – все будет хорошо, только будь посмирнее».
Развитию Белинского способствовало, кроме Станкевича и Бакунина, семейство последнего, в котором Станкевич и Белинский были приняты дружески. Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит, судя по рассказам Белинского и его друзей. Одна из сестер Бакунина, под влиянием мистического экстаза, доходила, говорят, иногда даже до видений. Бакунин имел, конечно, неограниченное влияние на своих сестер и братьев.
На Белинского, никогда не бывавшего ни в каком женском обществе, такое семейство должно было произвести с самого начала сильное впечатление. В сестрах Бакунина его поразил прежде всего их пытливый взгляд на жизнь, их стремление доискиваться разрешения самых отвлеченных вопросов и то нервическое раздражение, происходившее от мистического настроения, которое он принимал за поэзию.
Белинский, впрочем, кажется, недолго находился под этим обаянием. Он увлекался беспрестанно, но тотчас же отрывался, хотя не без боли, от своих увлечений. В то время, когда я с ним сошелся, он говорил о семействе Бакуниных с большим уважением и с большою симпатиею, но уже ясно видел то болезненное направление, которому отдались сестры Бакунина.
«Слава богу, я теперь отрезвился, – говорил он мне (это было после его последнего приезда из деревни Бакуниных), – отделался от прекраснодушия и мистических бредней и начинаю дышать легче и свободнее и вижу все яснее».
Белинский и не подозревал в эту минуту, каким болезненным направлением был одержим он сам и какой туман застилал глаза его.
К кружку Белинского принадлежал в это время и Константин Сергеич Аксаков.
Я не был знаком с семейством Аксаковых, но между нами существовала некоторая связь. Сергей Тимофеич Аксаков воспитывался в Казанском университете вместе с моим отцом и дядею, с которыми он был очень близок, особенно с последним… (Он часто вспоминает об них, рассказывая о своей гимназической и университетской жизни.) Я знал это и через два дня после приезда моего счел долгом отрекомендоваться Сергею Тимофеичу. Я отправился к нему так же четверней на вынос, как и к Белинскому.
С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием. Сергей Тимофеич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.
Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесенная в город. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до сих пор видеть в Москве… Дом Аксаковых и снаружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.
С. Т. Аксакову было в это время с небольшим 50 лет. Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятием его было уженье, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы. По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда еще Сергей Тимофеич не пользовался тою блестящею литературною известностию, которую, он приобрел впоследствии…
Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошелся с Константином Аксаковым. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.
Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Белинского долго от нападков своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз…
Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство… Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастие родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.
В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошел до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности. Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием…
Единственною нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях…
Если бы я приехал в Москву пятью годами позже, – нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том еще неопределенном и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то, что я был рожден на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм к Москве. Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкою, перед Колоколом – и глазки его сверкали – он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой… «Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!»– вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри, и когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностию и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:
– Да! вы наш, москвич по сердцу!
Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться.
Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями. Старик Аксаков в последние годы отпустил бороду и ходил в русском кафтане с косою рубашкою, каким он изображен в «Портретной галлерее» г. Мюнстера. Портрет этот очень удачен.
Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником.



