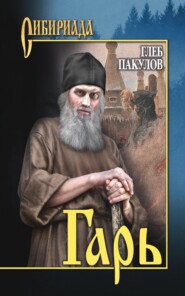
Полная версия:
Гарь
Вошел в хоромину сторож Благовещенской церкви Ондрей Сомойлов с известием, что по переходам возвращаются Никон со Стефаном и вроде бы шибко довольные чем-то. Тут и они явились. Братия навострилась, вопрошая цепкими взглядами – о чем хорошем сказал им государь, с чем пожаловали такие бодрые? Кто привстал со скамьи, кто остался сидеть, но такой тишиной встретили посланцев, что ни свеча не дрогнула на столе, не всколебнулся малый огонек в лампадке. Как умерла братия, как не дышала.
– Отцы мои! – громко, не скрывая радости, заговорил Стефан. – Содеялось, как мы приговорили, а государь приказал! Он доволен нашему радению о нуждах царства. – Тут голос его вознёсся, слеза в нем взрыднула. – Брату нашему! Никону! Быть в патриархах. На то воля Божья и честь царская!
Бурно восприяла братия эту весть, от души и сердца здравила Никона волей царевой, а он уже не смущался, принимал поздравления как должное, с великопастырским благожелательством. Уж кто там другой, а он знал, каков будет выбор собора, а что до жребия… Не будет жеребьёвки. Всякий другой не отважится стяжать престол патриарший.
По такому великому делу Стефан – постник и трезвенник – велел доставить жбан взварного монастырского меду да ведро сбитня с имбирем да хмелем. Далеко за полночь завершили братскую трапезу. В конце ее Никон въяве дал почувствовать о своем праве и силе поучать и наставлять отныне всякого. Потому-то и высказал напоследок:
– До соборного рукоположения моего в патриархи, если то Богу угодно будет, ждать время есть, но нету его на бездействие. Потому, братья, ополчайтесь, не мешкая ни дня, всякий в свой приход. Утверждайте неусыпно свет правды Христовой, не пугайтесь хулы и мучений. Запущенные церковные подати возместить скоро, за это спрос будет особый. В Москву не сбегать, любезные, не пущу. И завтра же всех попов с Варваринского крестца и других толкучих сборищ прогоню в шею к их пастве, к овцам брошенным! И всем нам наказ. – Никон взял книгу Соборного уложения и, отодвинув ее от глаз подальше по причине дальнозоркости, прочел: – «В братолюбии будьте друг с другом как родные, каждый считай другого более достойным чести. В усердии не ослабевайте, пламенейте духом, Господу служа, радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в скорби, в молитве постоянны, заботьтесь о странноприимстве». Так наставляют святые отцы. – Он прикрыл сияющие глаза, минуту постоял в раздумье и вдруг острым, проникающим в душу взглядом уперся в притихшую братию. Медленно, как присягая, поднял руку и выговорил от себя выношенную годами многотрудной службы истину: – Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. С собою будьте в вечном единомыслии, не высокомудрствуйте, но за смиренными следуйте! – Тут голос его напрягся, в глазах проблеснула слеза. – Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте! Не воздавайте злом за зло, не мстите за себя, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему, ибо им сказано: «Мне отмщение и аз воздам»!
Он положил книгу на край стола, перекрестился на мерцающие в слабом свете лампадки серебряные оклады икон, поник покорно пред ними головой, простёганной прядями густых седеющих волос. Руки заученно передвигали граненые бусины четок, отмечая число прочитанных мысленно молитв, быстро шевелились распущенные губы, подрагивала роскошно выхоленная борода.
– Голодного врага твоего накорми, жаждущего врага твоего напои, – в тишине продолжил Аввакум. – Ибо, так поступая, ты собираешь горящие уголья на голову его в День Гнева. Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром. Если ты – древо, то не возносись над ветвями, знай – не ты корень носишь, но корень тебя.
– Аминь, – повернув к нему голову, строго заключил Никон. – Изрядно начитан ты, Аввакум – послание апостола Павла в памяти держишь… Скажу при братии – государь настоятеля дворцовой церкви Спаса на бору приглядывает. Что бы тебе не принять на себя место сие? Всякий день при царе, патриарх рядом, а грамотеи нужны будут. Скоро. Али в Юрьевец на страсти воротиться рад?
Аввакум поклонился:
– По твоему слову, владыко.
– Оно и добро! – кивнул Никон. – Другого ответа не ждал. Поезжай. От государя к воеводам указ о строгостях готов, вам в спомощение… Благословляю вас, братья милые, на неусыпный подвиг. Замутилось благочестие на просторах российских, заквасилось еретичеством, спасайте истинную веру и сами спасётесь по слову апостола: «Или не знаете, что даже малая закваска заквашивает всё тесто? Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, празднуйте не со старой закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Благословляю всех и прошу вашего благословения.
Он перекрестил предстоящих: широкие рукава мантии в широком же крестоблагословении опахнули лица внемлющих, всколебали язычки свечей, повалили их набок, но они не погасли – пыхнули дымком и выпрямились.
– Прощайте!
Из Кремля на Красную площадь братия вышла дружной ватагой, воодушевленная своим причастием к царскому выбору патриарха. Да какого – из своих! Друга и единомышленника, смелого и твердого в вере. Быть порядку на Руси, да как и не быть с этаким пастырем.
У Фроловских ворот с ликом Спаса в темном киоте над входом простились, обнялись, как ратники перед сечей, облобызались по-братски. Аввакум с Иваном Нероновым пошли наискосок через площадь в Казанскую церковь. Надо было к близкому уже утру успеть собраться Аввакуму в свой Юрьевец-Повольской, где ждала его осиротевшая, чудной красоты, деревянная соборная церковь во имя Покрова Богородицы, да еще десять подначальных церквей, да два небольших мужских монастыря с двумя такими же девичьими. Хоронился невеликий Юрьевец за каменной стеной да копаным рвом. Волжский торговый городок, каких много на русской земле. И семья там ждала, Марковна, жена богоданная, с ребятишками.
Рано светает в июле. Еще солнышко не выставило лысину, а уж померкли и утонули в сини небесной минутой назад яркие, колючие звезды. От двора Неронова, что стоял близко к светлой Яузе, Аввакум отправился на подводе с напросившимся Даниилом Костромским к реке Клязьме. Перед отправкой Неронов в домашней церквушке отслужил молебен святому Николе Угоднику, скорому помощнику всем странствующим. Обнялись на прощанье, утерли слезу, крест-накрест охлопали друг друга на дорожку крепкими объятьями, и подвода – «с Богом!» – выкатилась со двора.
От Москвы до кривой луки изгиба Клязьмы не так уж и далеко: какой конь попадется. Уже к вечеру Аввакум расплатился с подвозчиком, на берегу сторговался с хозяином плоскодонной лодьи, огрузшей под тюками с товаром, сплавиться с ним до Нижнего Новгорода. Договорились полюбовно так: если до впадения Клязьмы в Оку плоскодонка сядет на мель, да, не приведи бог, не единожды, а стягивать ее с отмелей – труд адский, то хозяин и одну деньгу со святых отцов не возьмет. Ежели проплывут и не зацепятся – по деньге в день с бороды.
По Клязьме, тихой и сонной в верхнем течении, где под парусом, где на вёслах скользила лодья вдоль низких берегов, заросших красноталом и камышом. И редкие деревеньки, и заливные луга в пестроте цветов с разномастными буренками на траве-мураве, и ленивые всплески рыбин, и круги на воде слезным удушьем измывали сердце Аввакума. «Всего-то у него, Света нашего, припасено для человеков», – растроганно думалось ему. Ни хозяин лодьи, ни Даниил не были шибко разговорчивы, и это было хорошо. Протопоп Даниил, тот и всегда был молчун, пока дело не касалось обрядности или разночтения греческих книг с отечественными. А правка отеческих книг по греческим образцам началась давно, еще при патриархе Иосифе под присмотром Стефана Вонифатьева и пристальным вниманием государя. Правка шла ни шатко ни валко, почти не касаясь догматов православия. За этим строго следила братия ревнителей древнего благочестия, готовая живот положить за «единый аз в старопечатных книгах». Она мирилась, пока исправлению подлежали слова, не меняющие смысла, перенос запятых, точек. И все же один из них, Неронов, противился всяческой правке, считая такое вмешательство в священные тексты делом богопротивным, доказывая, что Русь – единственная хранительница неповрежденного православия, которое давно замутилось у плененных турками греков – «испроказилось безбожной махметовой прелестью». Это грекам надо выправлять свои служебники по нашим, горячился он, Москва после падения Константинополя вступила на место третьего Рима, а четвертому не бывать! Неронов и на постоянные наезды в Москву греческих иерархов смотрел с неудовольствием, ворча: «Нищим как не подать, тоже христиане, поди, только пошто везут и везут к нам мощи святых угодников, хитоны мучеников, гвозди многие. И ведь не так себе, не бескорыстным подношением, а за мзду! По-христиански ли это? Канючат подаяния на церкви, на прокорм насельникам монастырским, а царь наш тишайший – пожалуйте. А они ему опять за это палец подносят, а то и всю руку святого или щепу от креста Господня. Как не взять?.. А уж давно по всем церквам и соборам не счесть мощей этих, что, прости господи, досадно и в размышления греховные вводит. Подумать страшно – Иоанна Богослова пальцев с полусотни по Руси обретается. А это уму загадка – многорук был Иоанн или многоперстен? Грех и подумать тако, не токмо промышлять сим».
Во время патриарха Иосифа в кружке ревнителей вслед за Нероновым об этих подношениях заговаривали многие, а поп Лазарь по своей простоте бойкой как-то спросил:
– А сколь пуговок обреталось на хитоне Царицы Небесной, знаете? Чаю, не знаете и никто не знает и не узнает, потому как уж все до единой пооборвали да развезли-раздарили. Тыщи их по церквам, по монастырям. Вот потщится Матерь Божия в земном своем наряде явиться нам, грешным, а чем застегнуться ей, Богородице? Нетути чем! Пошто так творят?
Никон тогда ему ответил, горячась:
– А сколько ни обрывай пуговиц или пальцев, а то и голов самих – все не избудут. Не ума человеков дело сие. Однако же сказать грекам надобно – хватит тревожить святых-то, довольно у нас мощей, себе малость какую оставьте. И деньги перестать давать за это!..
Дул над Клязьмой попутный ветерок, полнил парус, он грудью лебедя напирал на пространство, путь заметно сокращался, и до впадения Клязьмы в Оку, а там Окой в Волгу – дни считай, не сбивайся. Не заметишь, как и Нижний Новгород зазолотится куполами, крестами замерцает, благодать. Песчаные мели пока миловали лодью, приставали к берегу только похлебку сварганить, плыли и ночью меж осиянных лунной пылью разложистых берегов, в безветрие помогали лодочнику – садились за вёсла. Аввакум греб умело и мощно – волжанин. Старался по мере сил и костромской Даниил. Погожие дни умучивали зноем и стеклянно-синим звоном небес. Звон тонко ныл в ушах, от него соловели глаза, сваливалась, моталась по потной груди лохматая голова. Пригоршня забортной воды, окатив лицо, ненадолго смывала тягостный морок, вода была перегретой, и все начиналось сызнова.
Иногда в дальнем заокоёмье начинали выпирать кипящие снежной пеной облака, громоздились куполами, в них отрадой начинало ярко помелькивать, по-стариковски, незлобно поварчивал гром – и только. К вечеру солнце садилось по блеклому небу за ясный горизонт – без алых полотнищ зари: просто нестерпимый для глаз оранжевый бус опутывал солнце и оно ныряло за край земли. Сразу наплывала египетская темь, яркие от лохматых лучей, густо пятнали небо мигливые звезды, а над сгинувшей во тьме речной поймой неслись, пугая, рыдающие вопли болотной выпи.
Лежа на тюках с прошлогодним льном – длиннопрядным и вычесанным, Аввакум дремал под плеск весел, под ласковое бормотанье воды под днищем, и в полусне тонком как-то незаметно раздвинулись берега, завысверкивала водная ширь, и навстречу лодьи Аввакума понеслись два корабля. Паруса дивной белизны напружены ветром, золотом блещут мачты и вёсла и щиты по бортам, а людей на тех кораблях нету, кроме кормщиков. Изумленный, привстал с ложа Аввакум, крикнул в ладони: «Чьи таки корабли?» Кормщики в ответ всяк свое: «Мой Лукин!», «Мой Лаврентиев!». Чудно слышать такое Аввакуму, кричит, не веря: «Так то быша дети мои духовные! Померли давно оба!» А с проплывающих кораблей долетело сугубо и стройно: «Да вишь ты, плывут доселя!» Потер глаза Аввакум – не чудится ли, а глядь – третий корабль плывет, да так уж пестро-то изукрашен: и красно, и бело, и синё, и темно, но ни золотинки в нем не проблескивает, вёсла черные буруном воду грудят. И кормщик с лицом светлым, но строгим на корме стоит, правит, да прямо на Аввакума, вроде давить хочет. «Чей корабль?!» – испуганно вопит протопоп. «А твой! – долетело в ответ. – Плавай на нём с женой и детьми, коли докучаешь!»
И мимо, рядом совсем прошел, удаляется, удаляется, и вот уж не вёсла многие по бокам плещут, а крылья яркие – в очах от них красно – воду жемчугом катаным далеко по сторонам отряхивают, а корабль – и не корабль вовсе, а птица нездешняя лапами шлепает по реке, убегает и вдруг взнялась с воды оранжевохвостым петухом и, роняя огненные перья, пропала в зените, оставив резь в глазах Аввакума да полуумершее в груди от невыносимой скорби, заплаканное сердце.
– Ревёшь-то, брат, почо? – тормошил его Даниил. – Каки корабли снились?
С глазами, утонувшими в слезах, сидел Аввакум на тюках, сглатывал и не мог проглотить тугой комок, расперший горло.
– Вещие, Данилушко, кораблишки те, – не сразу ответил он, давясь и всхлипывая. – Вот не помянул в заупокойной чад духовных, они и наведались. Ведь Лука с Лаврентием меня и домашних моих много лет молитвами спасали. И скончались богоугодне. Помолимся за них, брате.
* * *На пятый день плаванья заметно раздвинулись берега, образуя широкую пойму с высокой правобережной террасой.
– Половина пути, – оповестил кормщик. – Тут ему середка. От Володимира пойдет вторая. Да вот он, батюшка!
Над береговой кручей, кипя солнечной ярью, плыли по небу золотые купола пятиглавого Успенского собора. Они двоились и раскачивались в исходящем от земли сизом мареве, будто баюкали мощи своего строителя – великого князя Андрея Боголюбского. Неподалеку от него бдящим стражем красоты храма парил белокаменный столп Димитриевского собора. Все это, как обручем, охватывалось краснокаменной стеной и уцелевшими развалинами грозного когда-то Козлового вала, упокоившего у своих подошв многие тумены «бича Божьего» – Субудай Багатура.
Аввакум не бывал во Владимире. Теперь, медленно проплывая мимо, дивился вознесенному над поймой Клязьмы осиянному солнцем и синью небесной щедрому великолепию. И Даниил промаргивался, молитвенно прижав к груди руки. Взглядывал на протопопов кормщик, старожил этих мест, улыбался, хитро подмигивал озорным глазом, мол, знай наших, володимирских! Еще не одно чудо чудное удивит очи и сладкой занозиной станет жить в сердце.
И вот у слияния Клязьмы с Нерлью, на рукотворном холме, на изумрудной траве-мураве сном-наваждением явился и заполонил душу златомаковкий храм Покрова Пресвятой Богородицы. И чудилось онемевшему от вышней лепоты Аввакуму – не храм земной перед ним, а белая ангела ручонка выпросталась из холма и пальцем в золотом наперстке ласково указует на небесную обитель Покровительницы земли Русской.
Пристань вблизи храма жила обычной суетной жизнью. Со спущенными парусами стояли огрузшие под товаром большие и малые суда, щетинились мачтами, по сходням бегали грузчики, таскали на спинах громадные тюки, ящики, связки шкур, катили бочки. Тут же кучился разношерстный люд, много было купцов иноземных. Еще не торговый, но характерный гул встретил лодию Аввакума. Причалили к бревенчатой стенке, увязались расчалками за железные кольца.
– Идите, отцы, – сказал кормщик. – Вижу, не терпится. В первый раз и со мною такое было. Идите, а я кашу варить стану. До вечера далеко, насмотритесь. А в ночь поплывём. Тут не мой торг. Мой в Костроме, по обету.
Народу на берегу было много. Возбуждённые подторжьем, толпились купцы, скупщики приценивались к товару, спорили, махали руками. Обходя их, протопопы прямо от воды взошли по белокаменным ступеням широкой лестницы на площадку перед храмом. Тут, шепча молитвы, крестясь и кланяясь, долго не вставали с колен. Первым поднялся Даниил. На лицо его падали белые блики от стен сияющего на солнце Покрова, и протопоп стоял бледный, щурясь от яркого света. Стоял недолго, знал – нескоро дождёшься Аввакума. Один пошёл в распахнутые настежь высокие двери.
Аввакум так и стоял на коленях. Опустив руки, завороженно смотрел перед собою, не смея отвести взгляд от несказанной красоты. Думал – встань, войди внутрь, окажись среди обычной утвари, как во всякой другой церкви, и его покинет чувство благорастворенности в явленном ему чуде. Как сквозь туман, взирал он на полукружия окон и входов, на певучие линии закомар и в каждом своде видел небесный, прикрывший землю со всем сущим на ней. Из центральных закомар строго всматривался в него псалмопевец царь Давид, и протопопу въяве слышался чарующий голос. Околдованный небесным пением Аввакум окаменел, как и те диковинные звери и птицы, окружившие Давида. Но пение обволакивало, и он чувствовал, как теряет тяжесть и плывет куда-то, плывет. Постепенно в сознание проник другой голос и вкрадчиво-ласково, в то же время и властно о чем-то просил, как требовал. Избавляясь от него, как от назойливого комариного зудения, Аввакум сонно возил по груди бородой, лениво досадуя: «Кто ты, навязался?»
– А кто отвязался! – возникая из ничего, ухмыльнулся…
– Черт? – не удивился протопоп.
Возникший обиделся:
– Весьма бестолково толкуемое в миру прозвище. Есть и другие – Дьявол, Сатана, Люцифер, Искуситель, наконец. Их много, и все они неточны. Я есть – Я. Зови меня – Ты. Я гость твой.
– Зачем ты здесь?! – недовольно выкрикнул Аввакум. – Ты помешал!
– О-о, если бы я Тогда помешал! – возникший укатил под лоб красные глаза. – Я пытался! Но Пилат был упрям и глуп. Типичный солдафон и выскочка. И Того распяли!.. К моему крайнему сожалению… Ты скрипишь зубами? Полно! Что случилось, то случилось… Ты плачешь? Очень хорошо и к месту. Хочешь увидеть, как Это было? Я сдвину время к Тому дню и часу. Мне – плюнуть.
– Хочу! – потребовал Аввакум.
– Рад услужить! – Возникший повелительно ткнул рукой в сторону храма. – Его как раз распяли и пригвождают, да, пожалуй, уж и пригвоздили.
И побежал Аввакум по указанию сатаны. И не увидел на пути своем храма, а увидел на том месте гору и распятого Исуса. С трудом протиснулся сквозь римских солдат ко кресту, мельком взглянул на обнявшую подножие столба заплаканную женщину и по не убранной еще лестнице вскарабкался вверх, выдернул гвозди и, прижав к груди обмякшее тело, спрыгнул вниз, обламывая ступени. И тут же наткнулся на возникшего. Не было ни горы, ни солдат. Он опять стоял перед храмом, притиснув к груди драгоценную ношу, и до удушья плакал радостными слезами, чувствуя стуки сердца спасенного им Христа.
– Славно! – расслышал он торжествующий голос. – Ты сделал то, что не удалось мне. Он станет жить среди вас и обыкновенно умрет в свое время, и вы погребете Его как равного. И не будет Вознесения, не будет второго Пришествия, которого вы так ждете, надеясь на спасение. Еще раз – славно! Мы – сотрудники.
И ужаснулся содеянному Аввакум, в сердце своем ужаснулся и разнял руки. Еще живое тело Спасителя сползло на землю, и Его не стало. Утёр от слёз лицо Аввакум и улыбнулся. И знакомый уже голос проговорил откуда-то сбоку, то ли сочувствуя, то ли осуждая:
– Вот люди!.. Им не нужен живой Христос…
Вернулся Даниил и удивленно наблюдал за Аввакумом, как тот шарит по земле руками, будто потерял что, а теперь ищет.
– Каво деешь, Аввакумушка? – видя, что друг как бы не в уме, ласково поинтересовался он.
– Обронил вот, и нету, и добро, коль нету, – как спросонья, невразумительно, объяснил Аввакум. – Морочно мне.
– Вставай, брате, – попросил Даниил и подхватил его под руку. – Напекло солнышком, вот и морочно. Эка сколь на жаре простоял.
И опять они молились и кланялись древней красе. Уже клонилось к горизонту солнце и, прощаясь, омыло белокаменное диво розовым светом, и оно заневестилось на пригорке, будто высматривало суженого. Но спряталось за край земли светило, и на потускневшей холстине неба храм погас, гляделся жемчужным, призрачным, неся над собою жаркий уголек креста. Скоро и он погас, и на землю пришла темнота. По берегам разгорались, помигивали костры, слышался приглушенный смех, невнятные выкрики. Где-то затянули однотонную песню.
Протопопы шли к своей лодии, неодобрительно поглядывая на иноземных гостей, разряженных дерзко, не по-людски: в яркие разноцветные камзолы с прорезными пуфами на рукавах, в широченные шляпы с перьями и, что особливо мерзко, щеголяли в чулках, туго обтянувших ляжки. И разговаривали они грубо и напористо, смеялись гортанно, звеня шпорами на толстенных каблуках.
– Ну, право слово – петухи! – осуждающе крутил головой Даниил. – Глянь, они и когти носят! И гребни на главах!
– Да пусть их, на посмех, петушатся – не то страшно. По мне, так оне больше на тараканов да мизгирей походят. – Аввакум сплюнул. – Ползут отовсюду, оплели уж паутиной нашего хлебосольного царя-батюшку. И добро бы торговать только. Ан нет. Норовят учить, как нам жить в Боге. А сами лба путем перекрестить не умеют, еретики.
У ближнего костра, сидя на бочке, подвыпивший немец-купец играл на лютне. Ему, брякая оловянными кружками, хором подпевали такие же рыжие «тараканы».
– И поют, как лаются! – Аввакум остановился у костра, и те вмиг затихли, оглядывая заросшего волоснёй, с горящими глазами громадного попа.
– Что усы-то растопоршили на земле Русской, кукуйники? – пальцем погрозил на них Аввакум. – Язви вас!
– О-о, майн гот, – вздохнули у костра, выпученными глазами восхищенно провожая Аввакума. – Какой есть громкий, больш чолвек!
Кормщик был на месте, поджидал. На тагане парил кашей котел, хозяин лущил золотистого леща, отбрасывал на уголья жирные ошкурки. Они, потрескивая, скручивались, чадили духмяным дымком, набивая рот голодной слюной. Даниил присел рядом, а Аввакум с причала прыгнул в лодию. Она качнула бортами, скрипнула всеми суставами. Кормщик чертыхнулся.
– Карош, карош! – весело рявкнули купцы. – Зер гут!
Протопоп с мешочком черных сухариков вернулся к попутчикам, подал деревянную ложку Даниилу, свою обтер тряпицей.
– Ну, отче, благословляй, – попросил хозяин.
Аввакум прочел краткую молитву, и принялись дружно таскать из котла немудрёное варево.
Ночь пришла безлунной, чернильной. Погасли и упрятались в темноту последние кострища, берег угомонился, только частые всплески рыбин тревожили тишину, да тихо шепелявила о чем-то своем вечная труженица-река, без устали выглаживая песчаное ложе. Вольготно разбросав руки, спал на тюках кормщик, чмокал во сне, как нерестовый карась в камышовых плавнях, тихо молились протопопы пред створчатым бронзовым ставнем. Молились долго, будто правили всенощную. Когда брусничным соком едва подкрасился восток, растолкали хозяина. Потягиваясь и зевая, кормщик поднял парус, и с попутным ветерком, по течению, поплыли, поеживаясь от свежего утренника.
Быстро отдалилась пристань, помелькали и спрятались золочёные кровли Боголюбова дворища, но долго еще белой прощальной свечечкой с огоньком-искоркой маячил Богородицын храм. И когда он скрылся за далью, Аввакум все еще видел его другими, чудесными, глазами затосковавшей души.
Изрядно обмелевшая к серёдке лета река Ока поджидала их свежей погодой: дул тугой, с наскоками, ветер, из припавших низко к Оке туч вкривь и вкось секло вымоленным дождем, парус намок, мокро хлопал под порывами ветра, и от каждого хлопка сеялся серебряный бус. Поначалу мелкие волнушки только измяли гладь реки, но скоро выстроились взъерошенными грядами, перекатывались, подминая одна другую, вспенивая кружево на крутых горбинах.
Тюки со льном прикрыли плотными рогожами. Дождь полоскал их, и они тихо сияли золотыми ризами. Аввакум, радуясь по-дитячьи, гладил их ладонью, смеялся. Его намокшая грива моталась, из слипшейся клином бороды выцеживалась светлая струйка.
– С праздником плавё-ом! – тоже радуясь дождю, свежему ветру, неожиданно высоким голосом запел Даниил, запрокинув к тучам лицо, крестясь и сглатывая дождинки. – Ангелы Господни, с небес взрящите на нас, ра-а-дых!
Голый по пояс хозяин лодии трудно ворочал кормовым веслом, противясь мощному насаду волн. Тоже возбуждённый свежим ветром и дождем, он озорно подмигнул Аввакуму и поддержал просьбу Даниила разбойничьим ором:
– О-го-го-о! Аньделы-ы! Вздрящите-е!
Промокший до нитки Аввакум хохотал, встряхивался, как водяной. Даниил катался по тюкам, дрыгал ногами. Не разумея их бурного веселья, кормщик смущенно взглядывал на попутчиков, сам такой же густозолотистый, как его рогожки, но тоже подпрыгивал на тюке, открыв губастый рот и густо гыкая.
– О-ой, беда-а! – басил Аввакум. – Грешим не ведая!
Ока вынесла лодию в Волгу, почерневшую от дождя, неприветливую. Однако ветер здесь дул слабее, волны под дождём присмирели, а он то сникал, то приударял шумным ливнем, выглаживая воду тяжелыми шлепками.

