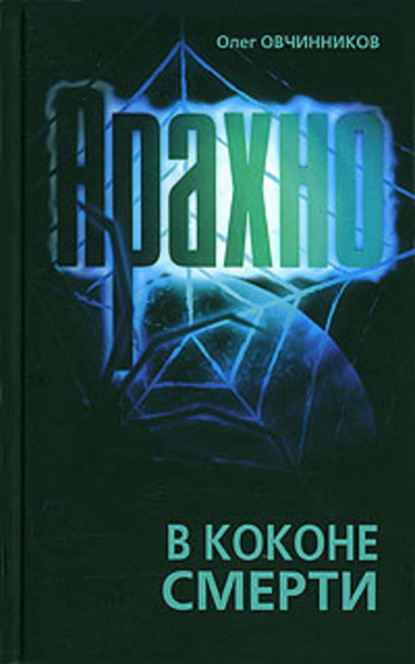
Полная версия:
Арахно. В коконе смерти
Так что все на свете относительно, все. То, что в обычной жизни кажется чем-то бесспорным, при определенных условиях выворачивается наизнанку и становится своей противоположностью. Подвиг оборачивается подлостью, от верности остается ревность, а предательство… Да, пожалуй только предательство останется собой, как ты его ни крути. Что же до всего остального…
Взять хотя бы ту ночь в Колонном Зале. Когда она лежала посреди пещеры в окружении хрустальных колонн – ни дать ни взять спящая красавица, разве что сна не было ни в одном глазу – и жалела о том, что сказка так скоро сказывается, еще чуть-чуть, и конец. И не будет больше этой красоты, и Тошка, весь день счастливый и по-особенному нежный, снова станет серьезным и подтянуто деловым: через неделю у него заканчивается отпуск. Как же ей не хотелось отсюда уходить…
И ведь не ушла в итоге.
Той ночью ей казалось, что минувший день запомнится на всю жизнь, волшебный день, сказочный. А прошло всего ничего – и все ее детские восторги поблекли, как цветастый платок после тридцати стирок, а вспоминается чаще всего не сталагмитовая роща и не свеча на подставке из оникса, а тот эпизод, когда она запихивала в себя сухую горбушку с жирными кружочками сервелата. Чуть не давилась, а запихивала. Не выбрасывать же…
Или, не ходя далеко, взять вот этот самый момент, который сейчас. Пять минут назад вроде бы изнемогала от голода и жажды, из сил выбивалась, а вот поди ж ты – разошлась, развела философию на ровном месте, так что и про ногу забыла, и про усталость, поползла с ветерком, как здоровая. Впрочем, здоровая бы, наверное, пошла… А может, это близость воды придает Але сил?
Она еще раз хихикнула в темноте. На этот раз – не сдерживаясь.
Зигзаг тоннеля подошел к концу, за размышлениями Аля не заметила, как миновала последний поворот, тем не менее пальцы ее продолжали машинально отмерять пройденное расстояние. Ладони стали кулаками, кулаки – снова ладонями, осталось только загнуть последний палец – и она у цели. Звон капели, при полном отсутствии прочих звуков разносящийся поразительно далеко, здесь становился громким и отчетливым. А еще он становился приятным. Поток воды с потолка не был водопадом. Отдельные капли падали слишком редко и независимо друг от друга. Только кое-где они собирались в короткие струйки, ленивые и неторопливые капли поджидали отстающих, чтобы потом всем вместе удариться о водную гладь с характерным «пл-л-л-лимк!» Так красиво! Первые дни после выхода к Семикрестку Аля могла слушать мелодию капель часами.
Но она не была готова слушать ее неделями! Каждую минуту! Даже в Лежбище, на расстоянии ста с лишним загнутых пальцев отсюда, измотанная вылазкой, истерзанная болью и безрадостными мыслями, Аля иногда подолгу не могла заснуть. Звук льющейся воды или его иллюзия, результат самовнушения, слуховая галлюцинация – жаль, Тошки нет, он бы подсказал правильное название – просачивался каким-то образом через затычки в виде грязных пальцев, сквозь барабанные перепонки, прямо в мозг. Порой он преследовал Алю даже во сне. Но иногда звону капели удавалось пробудить в ее душе хотя бы часть былого очарования. Обычно это случалось в моменты, предшествующие утолению жажды.
Поилка представляла собой идеально круглый водоем около пяти метров в диаметре. Просачивающаяся сквозь невидимые щели в коническом потолке вода заполняла естественную воронку с высокими белыми краями. Влажный, отполированный брызгами гипс блестел в свете фонарика, как фаянс, отчего сама Поилка приобретала сходство с огромным блюдцем. Однако воронка была достаточно глубокой – в своем отчаянном тридцатисекундном заплыве Тошка не смог достать дна – так что при ближайшем рассмотрении Поилка оказывалась не блюдцем, а скорее горловиной врытого в землю кувшина. Но все равно не верилось, что такое сооружение создано не руками человека, а самой природой, объединенными усилиями двух самых скоротечных стихий: времени и воды.
Спуск к водопою Аля давно научилась находить на ощупь, без ущерба для батареек. В одном месте вода, веками точившая камень, действовала особенно целенаправленно, край пятиметрового гипсового блюдца был здесь не то что бы отколот – сточен, и это давало возможность приблизиться к самой кромке по пологому влажному скосу. Главное – вовремя остановить скольжение, чтобы не плюхнуться в воду, как тюлень. Аля остановилась вовремя, сделала упор на запястья и левое колено, вытянула шею и раскрыла губы так, словно собиралась поцеловать свое невидимое отражение.
Первый глоток был как ожог. Аля, покуда могла, грела воду во рту, гоняла от щеки к щеке, пока не онемели зубы и не окоченел язык, потом проглотила, и вода колко прошла вниз по горлу, как будто царапая изнутри мелкими льдинками. Второй глоток напоминал по вкусу березовый сок. Третий был сладок, как газировка с сиропом. Аля пила долго, мелкими глоточками, не торопясь. Жалела, что не может, как верблюд, напиться про запас или унести с собой больше воды, чем умещается в стандартную походную фляжку. Но жалела несильно, больше по привычке, и не то что бы очень искренне. Канистру, даже если бы ее удалось отмыть от керосина, Аля все равно бы не дотащила до лагеря, равно как и котелок, проделать весь путь с полной кружкой в руке также было нереально, а никаких других подходящих емкостей в наличии не было. К тому же, если б не эти регулярные «прогулки по воду», Аля просто не представляла себе, чем еще она могла бы заполнить свой досуг.
Утолив первую жажду, она ополоснула ледяной водой лицо и шею. Потом долго, пока холод не пробрал до костей, мусолила друг о дружку заскорузлые ладони, оттирала въевшуюся между пальцами грязь. Потом, чтобы хоть чуть-чуть высохнуть и согреться, с минуту энергично сжимала и разжимала кулаки, словно повторяла перед строем гавриков привычное «мы писали, мы писали». Потом сполоснула и наполнила водой фляжку. Потом снова пила.
Обратная дорога всегда давалась труднее. Сказывалась накопившаяся усталость и то, что путь к Лежбищу по большей части шел в горку, пусть с едва заметным уклоном, но Але много и не требовалось. Отяжелевшая фляжка елозила по спине из стороны в сторону, свежеотмытые пальцы, как их ни береги, быстро возвращали себе защитный покров из пыли и грязи, но это было не самым обидным. Хуже, что к концу пути Аля выматывалась так, что готова была за один прием выпить всю воду, которую принесла с собой. Конечно, ничего подобного она себе не позволяла. Один колпачок максимум. Если совсем невмоготу, то два. И еще один маленький глоточек из горлышка, только язычок смочить. Не больше.
Единственное преимущество обратного пути, своеобразное послабление с известной долей издевки заключалось в том, что по дороге к Лежбищу Але уже не нужно было загибать пальцы. Возвращалась она по собственным следам, то есть по веревке, которую теперь сматывала в моток, растягивая между ладонью и локтем правой руки. Моток, который Тошка так и не приучил ее называть бухтой. Местами веревка ухитрялась свиться петелькой или завязаться в узелок, тогда приходилось останавливаться и распутывать ее при помощи зубов и изломанных ногтей. И вообще ползти без счета получалось гораздо медленнее. По крайней мере, так казалось. Может быть, оттого, что теперь она двигалась не навстречу своей призрачной надежде, а от нее?
На смятое ложе из двух спальных мешков и каких-то заношенных до неразличимости тряпок Аля упала в изнеможении. Вылазка на Семикресток, к Поилке и назад процентов на триста покрывала ее суточную потребность в движении. Она открутила колпачок и понюхала воду во фляжке. Нет, ни намека на коньяк. А жаль. Пары капель на двадцать грамм воды ей сейчас вполне хватило бы, чтобы забыться не рваным кошмаром, как обычно, а нормальным, желательно без сновидений, сном.
Почему-то не засыпалось. Рука сама потянулась к рюкзачку, из нарядной обновки быстро превратившемуся в грязную ободранную тряпку, ослабила тесемки, нырнула внутрь. Вот Любимая Книжка, пухлый, потрепанный том. Первые несколько ночей после ухода Тошки Аля читала ее перед сном, чтобы успокоиться, при огарочке свечи, оплывшей до состояния аморфного обмылка, в котором она не замечала уже ничего романтического. Потом фитилек догорел до конца, но Аля все равно иногда доставала книгу и перелистывала страницы в темноте, припоминая самые любимые, давно заученные эпизоды.
Но сегодня ей не хочется ничего припоминать, поэтому нераскрытая книга ложится в сторону, а рука зачем-то снова ныряет в горловину мешка, так уверенно, как будто лучше своей хозяйки знает, что делает. Интересно, что? Неужели ищет что-нибудь съедобное? Ха, это же бессмысленно! Последняя банка тушенки выскоблена еще три дня назад, так что и пятнышка жира не осталось на сизоватой внутренней поверхности. Да и сам рюкзачок Аля перетряхивала уже не раз и не два, даже выворачивала наизнанку – безрезультатно, ни горсточки риса не обнаружилось на пыльном дне, ни одинокого кофейного зернышка. Но, словно забыв об этом, ее рука зачем-то продолжает шарить внутри, настойчиво и деловито перетасовывая узнаваемые на ощупь предметы: зубная щетка в пластмассовом чехольчике, пустая мыльница, расческа, несколько мертвых батареек и снова зубная щетка – похоже, она шарит по кругу. А сухие напряженные губы почему-то повторяют без звука и без конца: «Боженька, пожалуйста…» Только «Боженька, пожалуйста…», больше ничего. Они не просят ничего конкретного, просто внимания, просто знать, что он есть, что помнит о ней, а значит, есть шанс, что все это когда-нибудь кончится. Зубная щетка, бесполезная без пасты, золотистые гробики батареек, расческа…
Действия, лишенные смысла. Почти как в тот раз, когда ей почудился запах бутерброда, доносящийся из тоннеля большого пальца. Отчетливейший запах сдобной булки и вареной колбасы, это-то ее и смутило. Не подсохшей черной горбушки, прикрытой кружочками сервелата, чей запах оголодавший мозг мог извлечь из хранилища памяти – нет, из тоннеля определенно пахло небрежно отломленным куском булки, поверх которого уложен аккуратный кружок колбасы по три пятьдесят, не слишком тонкий, в самый раз. Она поползла за ним по тоннелю, забыв о веревке, о ноге, обо всем на свете, ползла не меньше четверти часа и чудом вернулась назад. Спасибо тебе, токсикоз!
Но на этот раз Але почему-то кажется, что все будет иначе. Все будет по-честному, без обмана и не закончится жесточайшим разочарованием. Расческа, мыльница – Аля даже встряхивает ее в руке, и некоторое время слушает тиши ну, несъедобные батарейки… Какой в ее действиях смысл? И… чего не хватает в списке личных вещей? Секундочку… а где нитки? Она ведь брала с собой нитки и даже один раз воспользовалась ими – в поезде, чтобы перешить пуговицу на ставших чересчур тесными брюках. Простейший наборчик: прямоугольник из твердого картона с несколькими засечками для ниток разных цветов плюс пара иголок, одна большая, другая поменьше. Разумеется, Аля не могла положить нитки и иголки вместе с прочими вещами, чтобы не уколоться. Она убрала их…
Пара батареек выпадает из разжавшейся ладони, нелегким звяканьем присоединяется к россыпи своих братьев-близнецов. То, что неосознанно ищет Аля, находится не здесь. Ее рука оставляет в покое основное отделение рюкзачка и обращает внимание на откинутый клапан, вернее, на небольшой плоский кармашек с его внутренней стороны. Расстегивая две маленькие пуговички, удерживающие карман в закрытом состоянии, рука почти не дрожит. А когда мизинец все-таки натыкается на острие одной из игл, Аля даже не вздрагивает: Ей плевать на укол, плевать на дорожный швейный набор – отнюдь не нитки семи разных расцветок интересуют ее. Картонка с нитками и иголками летит в сторону, а рука на глубину ладони погружается в кармашек-плоский, но не совсем плоский! – и почти мгновенно возвращается назад, сжимая в горсти бесценное сокровище.
Три упаковочки сахара, по два прямоугольных кусочка в каждой, с бегущим поездом на этикетке. Их принес проводник вагона, в котором Аля и Антон ехали на юг, наверное, уже больше месяца тому назад. Маленький улыбчивый старичок поставил на стол четыре стакана кипятку в гремящих подстаканниках, затем достал из кармана форменного кителя четыре пакетика с чаем и столько же пачечек сахара. Потом по-особенному улыбнулся, взглянув на Алю, на ее запавшие глаза и сложенные на животе руки и добавил к продуктовой кучке пару вафель в красной обертке.
– Вам следует хорошо питаться, – заметил он, прежде чем покинуть купе. Милый старичок.
Когда затерянный в степи полустаночек вырос за окнами вагона на пятнадцать минут раньше расписания и Аля с Антоном, мигом стряхнувшие с себя душное оцепенение трехдневного пути, бросились распихивать по карманам неприбранную мелочевку – поезд здесь стоял всего три минуты, – Аля машинально сгребла со стола гостинцы, оставшиеся от последнего чаепития, и сунула в отделение для ниток. В тот момент она и представить себе не могла, насколько ей повезло в том, что Тошка всегда пил чай без сахара, а сама Аля, исключительно чтобы покапризничать, отказалась от вафли.
Вполне возможно, сегодня этот каприз спасет ей жизнь. Или только отсрочит неминуемое на два-три дня. Разве это имеет значение? Из всех существующих возможностей в данный момент Алю волновала только одна. А именно: запихнуть в рот все и сразу, вместе с оберточной бумагой и фольгой, а потом сидеть, перемалывая зубами восхитительное месиво и не замечая, как сладкая слюна скапливается в уголках глупейшей улыбки. Как же ей хотелось наброситься на нечаянное лакомство!
Но Аля устояла, справилась с первым порывом, решительно прогнав из головы образы волка, перегрызающего горло овце, и лисицы, спешащей куда-то с куриной тушкой в зубах, и заменив их безобидной картинкой с ленивым котом, который лежит, разглаживая лапкой усы, и только краем глаза поглядывает, как мечется из угла в угол обреченная мышка. Его гарантированная добыча.
Только один кусочек сахара! – разрешила себе Аля. И не больше пятой части вафли! Ты поняла? Максимум четверть!
Она положила на язык кусочек сахара – и буквально изошла слюной. Старалась только лизать, но сахар в поездах дальнего следования, кажется, специально делают таким, мягко говоря, не быстрорастворимым, чтобы хватило на подольше, так что Аля в конце концов поддалась соблазну, и вот захрустел, заскрипел на крепких зубах сахарный песочек. Затем она размочила водой окаменевшую вафлю, долго, до челюстных судорог, перемалывала во рту сладковатую кашицу, потом проглотила, захлебываясь слюной и благодарностью. «Спасибо тебе, Боженька. Теперь я точно знаю, что ты есть. – Не удержалась, правда, и от мягкого упрека. – Но почему же… Почему ты напоминаешь нам о себе так редко? И все равно… спасибо».
Все. А теперь – никаких движений хотя бы полчаса. Пусть жирок завяжется, подумала Аля и удовлетворенно хохотнула, так что эхо ее хрипловатого смеха отразилось от свода и вернулось к ней как напоминание о лучшиx временах.
Засыпала она сладко, безмятежно, лелея в душе надежду, что хотя бы в эту ночь ее покой не нарушат чудовища.
Глава вторая. Толик Голицын
«Хранитель знаний.У меня на книжной полкеПоселился паучок.Слева Фаулз, справа Фолкнер,Между ними Усачев,Маркес, Борхесе Кортасаром,Стейнбек, Селинджер-старик,Три романа Жоржа СандаИ еще один мужик.Сто томов Агаты Кристи,Сто Марининой томов,(Если спросят пионеры,Я скажу: всегда готов!Обменяйте их в утилеНа „Графиню Монсоро"…)Полкой выше – Гете, Шиллер,Оба Манна и Дидро.Что до пенсии заквасил,Что по десять раз прочел —Все дополнил и украсилЭтот юркий паучок.Так опутал паутиной,Что ни книжки не достать…Вот еще одна причинаМне поэмку дописать.»(П. С. Усачев,журнал «Вторая молодость», №5,2003.Тираж 15000 экз.)«Шестьдесят девять, – за неимением секундомера азартно считал Анатолий. – Семьдесят. Семьдесят один. Семьдесят два. И… вот!»
Златовласка наконец выдохнула, сложив уста буквой «о», так что исторгнутое ее легкими дымное облачко получилось тонким и протяжным, как завывание профессиональной плакальщицы. Ресницы нереальной длины трепетнули, прищурившись на столбик пепла, пизанской башенкой скопившийся на устремленном вверх конце сигареты, а легкое постукивание золотистого, в тон волосам, ногтя обрушило его прямиком в пепельницу. И снова равнодушный взгляд в окно, на сумеречное небо цвета куриной слепоты. Прикидывает размер сверхурочных? Наверняка.
Блестящие оливки глаз чернявой, фаршированные озорным любопытством, напротив, были обращены на собравшихся. Она то переводила взгляд-локатор с одного лица на другое, ни на ком подолгу не останавливаясь, то заинтересованно стреляла одиночными в авторов коротких реплик с мест. Сейчас выскочки помалкивали, говорил один хозяин кабинета, и чернявая смотрела исключительно на него, преданно, снизу-вверх.
Хозяин… Почему-то никакое другое слово не кажется подходящим, чтобы описать отношения этого маленького заросшего мужчины к сидящим по обе стороны от него дамам. Ни начальник, ни шеф, ни работодатель… Есть что-то хозяйское в том, как он мимоходом оглаживает спинку кресла Златовласки или касается плеча чернявой и нетерпеливо перебирает воздух пальцами в ожидании поданной бумажки, электронного органайзера или похожей на карточную колоду стопки визиток. Настоящий хозяин…
«Куда ему такие? – сокрушался про себя Анатолий. – За что? Такому сморчку – и такие бестии! Он же стоя ниже, чем они сидя. И как вырядился, пижон! Бородка как приклеенная, очки, кожанка… Нет, господин Щукин, ты не Василий, ты Базилио. Стопроцентный котяра! Но зачем ему сразу две кошечки?»
Тут чернявая, точно почувствовав интерес к своей перроне, перестала пожирать хозяина глазами и немного исподлобья взглянула прямо в лицо Толику. Тот моргнул от неожиданности, изобразил головой движение, которое при желании могло быть расценено как снисходительный кивок, и подумал с мстительным удовлетворением: «Настоящие бестии!», прежде чем отвел глаза.
Дружный хохот окружающих прогнал задумчивость. Толик машинально подхихикнул, не особо интересуясь чему.
Последним отсмеялся толстячок с недельной поросячьей щетиной вокруг лысины, сидящий через два человека от Толика.
– А колорадские жуки вас не интересуют? – давясь смешками, спросил он. – А то я как-то в четвертом классе сочинил поэмку. «Гуманитарная помощь» называлась. Типа «колорадский жук, мой заморский друг, не жидись, для крошки принеси картошки» и еще чего-то там, на три страницы в линеечку. – Он снова отрывисто хохотнул. Голова, похожая на бильярдный шар, посыпанный по краям мелким перчиком, дернулась в последний раз и застыла на мясистой шее. – Извините, шучу.
– Ничего. Мы ценим юмор, – успокоил Щукин и сухо похвалил весельчака: – Даже неплохо… для четвертого класса. К сожалению, у нас несколько иной профиль.
– Что за клоун? – спросил Толик, наклонившись к Борису. Их локти на соседних подлокотниках доверительно касались друг друга, а свой интерес он по давней школьной привычке маскировал ладошкой, прикрывая ею нижнюю половину лица.
– Турбореалист, – шепнул Борис. – Писатель с большой буквы П. То ли Петрушкин, то ли Покрышкин, точнее не скажу.
– Но не Пушкин?
– Исключено. Даже не похож.
– Я дико извиняюсь, – подала голос невысокая перигидрольная блондинка, сидевшая в метре от Щукина, у левой излучины составленной из столов Т-образной конструкции, – но предложенная вами тема мне крайне неприятна. Я даже помыслить об этом не могу без содрогания, не то что обсуждать вслух.
– Искренне жаль, – посочувствовал Щукин. – Вот видите, даже вы, люди с высоким ай-кью и богатым жизненным опытом, подходите к вопросу с однобокой, однозначно негативной оценкой. Что тогда говорить о простых обывателях? – Он вздохнул, потупив свои нелепые солнцезащитные очки. – А между тем в основе вашей предубежденности, по сути, нет ничего, кроме недостаточной информированности и предрассудков, сформировавшихся тысячелетия назад в головах наших недалеких… пардон, далеких предков. Я, ни в коем случае, не призываю вас верить мне на слово и не надеюсь, что вы в одночасье из противников превратитесь в сторонников. Но хотя бы подумать на эту тему мы можем? – Щукин вопросительно улыбнулся нервной блондинке, и улыбка повторила контур усов и короткой бороды.
Блондинка пожала выдающимися ключицами и перестала делать вид, будто готова в любой момент вскочить и вылететь за дверь, а если не пустят-то в окно.
– В таком случае, факты, господа. Голые научные факты, – хозяин кабинета перебрал в воздухе струны невидимой скрипки, и на его ладонь послушно легла тонкая пачка печатных листов в прозрачном файле. – Итак, заблуждение первое…
– А кто эта крашеная красавица? – шепотом поинтересовался Толик.
– Клара Кукушкина, маргинальная поэтесса, – ответил Борис, не задумываясь, как будто ожидал вопроса. – Подписывается тремя «К». Обесцвеченная и невесомая, как и ее стихи. Давай уж я тебя и с остальными познакомлю, – вызвался он, сообразив, что прислушиваться к веским доводам очкарика можно и одним ухом. – Валерку с Ником ты знаешь. Турбореалиста П…шкина теперь тоже.
– Может, он Пышкин? Или Плюшкин? – предположил Толик.
– Не отвлекайся. Рядом с ним еще один важный пузан – в очках. Это Степан.
– Который?
– В нашем цехе один Степан.
– О!
– Не «О!», а, как минимум, «ООО». С ограниченной ответственностью… Поговаривают, раскадровку батальных сцен для него восемь бывших полковников КГБ пишут. Только это все треп, Степа и сам неплохо справляется. Да и откуда у КГБ боевые звездолеты? Дальше… Этого я сам не знаю. А вон старичок, видишь, левым профилем повернутый? Это Самойлов.
– Хрестоматийный детский писатель?
– Угу. «Мама мыла… с мылом», – процитировал Борис, добавив от себя конкретики. – С первого класса на зубах навяз. Хуже ириски. Справа от него…
– Знаю, знаю. Телевизор пока смотрим. Они что же, и музыку собираются заказывать?
– Пусть заказывают, лишь бы платили. Но, сдается мне, их интересует не только музыка. Видишь тех парней слева от Кукушкиной? На подоконнике?
– Теперь вижу. Ну и прикид! Особенно у патлатого.
– Вот-вот. То ли нищие художники, то ли дизайнеры по костюмам. Работают в духе этого… Пьера на букву «К».
– Кардена?
– Сам ты… Пьера Кюри! Все опасные для здоровья эксперименты ставят в первую очередь на себе. Следующие двое, если не ошибаюсь, пиарщики не из дешевых. Тот, что с ногами в кресло залез, – Прокопчик. И это не псевдоним.
– Тоже из наших? Про что пишет?
– А ты в фамилию вслушайся. Вот приблизительно про это и пишет. Нечистоплотный журналюга, извини за тавтологию. Творит по принципу «утром в Инете, вечером в газете». Прет из сети все, что плохо запаролировано, даже править иной раз ленится. Как-то раз по запарке сдал статью, не читая, а автор оригинала возьми да окажись женщиной. «Я долго думала, прежде чем решилась…», и все в таком духе. А когда пытается писать сам, выходит еще хуже. В своем стремлении удивить читателя доходит иной раз до ручки.
– Шариковой?
– Роликовой! Погоди, вот я тебе сейчас процитирую. Есть у меня один его перл в коллекции. – Борис пошевелил бровями и прицелился указательным пальцем в потолок. – О! «Отдельные градины своими размерами превосходили лошадиное яйцо»! Нормально?
– Д-да, занятно… А рядом кто? С бородкой.
– О-о, это, брат поручик, малоприятная личность. Погоди, он сам встает. Послушаем, что скажет…
– По-моему, вы наговорили уже достаточно, чтобы мы все убедились если не в справедливости ваших слов, то по крайней мере в серьезности намерений, – сказала малоприятная личность, теребя в руках зеленую вязаную беретку. – Вам бы, молодой человек, крем от загара чукчам продавать или снимать инсулиновую зависимость по фотографии. Лично мне после вашей увлекательной речи хочется подняться завтра раненько, взять банку с дырявой крышечкой да и махнуть на четырнадцатый километр, где новая «Птичка» обосновалась. Или в ближайший зоомагазин отправиться и прикупить десяточек зверюшек, незаслуженно обделенных любовью человечества.
– Достойный порыв, – прокомментировал Щукин.
– Я одного не понимаю. Я-то за каким лешим вам понадобился? Чем литературный критик может помочь вашему благому начинанию?
– Как литературный критик хотя бы не мешайте, – улыбнулся Щукин. – Но как литературовед с тридцатилетним стажем…
В этом месте Анатолий снова отвлекся. Златовласка, чьи лицо, прическа и фигура, несомненно, обладали магнетической способностью притягивать мужские взгляды, величественно покинула кресло и в три шага – цок, цок, цок – приблизилась к окну. Там она встала, асимметрично приложив вывернутые ладони к стеклу и отведя локти назад, так что под тонкой тканью яркокрасного делового костюма отчетливо проступили лопатки. Словом, приняла живописную и несколько изломанную позу, свидетельствующую о скуке и желании оказаться не здесь.
– Видал? – Борис легонько толкнул Толика локтем и игриво пошевелил бровями.
В ответ Анатолий только поджал уголки губ и покачал головой, давая понять, что «Да-а. Тут уж ничего не попишешь…»

