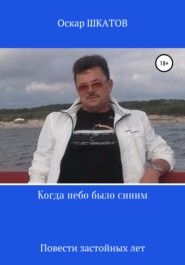 Полная версия
Полная версияКогда небо было синим
– Ты можешь так заговорить зубы, что в результате не поймешь, «да» ты сказал, или «нет». Это очень ценное качество при общении со станционными бюрократами.
В администрации атомной станции, действительно, к каждому клерку требовался индивидуальный подход. Чем дольше номенклатурщик сидит в одном кресле, тем капризнее он становится, а щёки и пузо раздуваются пропорционально самомнению.
Палыч правильно уехал. Он не смог бы работать в таких условиях. Да и Валерич опасался за свою нервную систему, предусматривая возможность сорваться и набить какую-нибудь бюрократическую харю. Я же был пока ещё добрым и дипломатичным.
– Ты давай, руководи предприятием, а мне время от времени сообщай, что там творится, – напутственно успокаивал меня шеф.
– Ну что ж, стерпится – слюбится, – безальтернативно успокаивал себя я.
ГЛАВА XXXIV
Советское материальное наследие, доставшееся нашей фирме, состояло из преимущественно специфического оборудования, строительных механизмов и небольшого автотранспортного парка. Греческое «ГИДРОмонтаж» поменялось на латинское «АКВА», но суть деятельности осталась прежней – всё, что связано с водой. Порядка пятидесяти работников были профессиональными «водяными», а потому мы были постоянно востребованы.
В красивом костюме и при галстуке я вынужден был вращаться среди станционной элиты, получать заказы на подрядные работы, играть в конкурсы и заключать договоры. Галстук непривычно душил бывшую вольную шею, но одному моему коллеге, к примеру, было ещё хуже – из-за его небольшого роста эта деталь имиджа ему вообще по коленкам стучала.
Прорабы мои, впрочем, как и я в юности, очень любили ковшами экскаваторов нарушать покой подземного мира. Один из силовых кабелей, порванный в зоне атомной станции, остановил работу всей нашей фирмы. Государственная инспекция по атомной энергетике грозила предприятию лишением квалификационного аттестата.
Пожалев прораба, я сам коленопреклонённо бил челом об ковёр Госинспекции и пересдавал экзамены на профпригодность в высокой комиссии.
Другой порванный кабель обеспечивал правительственную связь, а потому на генплане не фигурировал. Ну, что ж, раз нет на схеме, значит копай смело. Так что мои ребята порвали его достаточно быстро. Нас потом искали дольше. Двое суток при тогдашних средствах обнаружения кабельщики двигались от Риги до ИАЭС по кабельной трассе в поисках порыва. Нашли-таки. Я опять принял огонь на себя и, во избежание шумихи, расплатился с ними средствами из директорского фонда раздолбайства.
Ну, а коль уж я коснулся тайн подземелья, вернусь к упомянутым ранее циркводоводам.
Я постоянно находился в контакте с начальниками пяти-шести цехов АЭС и их замами по ремонту. А ремонтировали мы те системы, которые в советское время сами же и проложили.
Как-то позвонил мне заместитель начальника турбинного цеха и попросил устранить аварию, суля крупные финансовые поощрения за срочность выполнения.
– Да ведь всё равно надуешь, – переиначил я нецензурное звучание слова «обмануть», хотя знал, что он парень порядочный и не обманул бы, если бы не остальные инстанции, через которые проходит согласование смет и которым из кабинетов ни хрена не видно.
Подземный стальной циркуляционный водовод, подающий воду от насосных станций на охлаждение турбогенераторов, имел два метра в диаметре и находился на глубине от трёх до шести метров под землёй. Его как-то подмыло и осадило аккурат на бетонный угол столь же подземного сооружения. Надо было изнутри нетрадиционно залатать и заварить деформированный и пробитый трубопровод. А был уже конец рабочего дня.
Внутри трубы было темно и неуютно. Под ногами струилась вода. Сквозь рваную стенку выпирал угол бетонного блока, а дальше трубопровод под углом уходил всё глубже в недра береговых насосных станций. Очень не хотелось оступиться или поскользнуться.
Зато удалось познакомиться с ощущениями джинна-клаустрофоба.
Ассоциация с находящимися в пищеводе пищевыми продуктами также уместна.
Привлекая к этому таинству бригаду монтажников вместе с прорабом, я видел, что люди уже усталые, а тут ещё такой напряг. Изготовление и сварка нестандартной конструкции стальной заплаты, так называемого «седла», шли долго, туго и на нервах. Нам с прорабом до двух часов ночи приходилось приподнимать стремительно падающий моральный дух и кормить измотанных людей бутербродами и анекдотами, чтобы не засыпали.
Потом, часа в два ночи, я развозил всех по домам, а бдительная дорожная полиция пару раз останавливала нас, нюхала находящегося за рулём меня и недоумевала, почему в такое время по городу катается полная машина трезвых неадекватов.
ГЛАВА XXXV
– Ну вот и зачем нам твои вонь, вода и железные трубы, – справедливо спросите вы, – И где же упомянутая в начале раздача городов друзьям в подарок?
Сейчас поясню.
Высочайшим министерским решением нам была навязана добрая традиция – каждые пять лет проводить переаттестацию руководителей строительства. Но не из недоверия к институтским дипломам, а ради сбора средств на поддержку штанов творческой интеллигенции. Университетская профессура устраивала платные семинары и учила работать нас, опытных производственников.
Когда это был первый блин, и процедура ещё не устаканилась, произошла некоторая путаница со строительной спецификой. В результате я прошёл обучение с группой ПГС, сдал экзамены и получил квалификационный аттестат на строительство промышленных и гражданских объектов. В следующий раз я попросил председателя комиссии аттестовать меня на родные «водоснабжение и канализацию», но немного зашкалил и сдал заодно «отопление и вентиляцию». В результате у меня стало как бы три высших строительных образования. Ну, а для полного букета я ещё аттестовался на технический надзор и строительство объектов атомной энергетики.
А если уж взялся за гуж или назвался груздем, то полезай в кузов и не говори, что не дюж. Так и пришлось пройти все ипостаси инженера-строителя от мастера до директора предприятия, причём почти во всех строительных сферах. И чего только не досталось нам строить, монтировать, бетонировать и отделывать. От туалетов до объектов атомной энергетики, от подземных и подводных сооружений до промышленных строений и жилых домов родного города, где прошла большая часть жизни и где ты знаком со всеми, от мэров и до дворников.
Но, пожалуй, я остановлю своё повествование на конце ХХ века. Бесшабашная молодость миновала, а именно на её эпизодах и интересных моментах я хотел акцентировать внимание и выстроить сюжет. Последующие же десятилетия сознательной жизни и руководящей работы не столь интересны в плане ироничного описания.
Прошу также простить за то, что долго растекался «мыслью по древу», пальцами по клавиатуре и эпитетами по мозгам, а в результате получились какие-то строительные мемуары. Но, надеюсь, мне всё-таки удалось добраться до раскрытия темы названия и доказать способность ребят из ГИСИ «друзьям на память города дарить».
Ну вот, теперь вроде всё!



