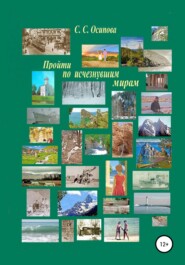скачать книгу бесплатно
86. Бухара. Узбекистан.
87. Ташкент. Узбекистан.
88. Озеро Иссык-Куль. Город Фрунзе (Бишкек). Киргизия.
89. Искитим. Сибирь.
90. Озеро Байкал. Сибирь.
91. Магадан. Колымский край.
92. Колымский край. Маршруты геологической экспедиции.
93. Лейпциг. Германия.
94. Дрезден. Германия.
95. Берлин. Германия.
96. Прага. Чехославакия.
97. Полуостров Истрия. Хорватия.
98. Пореч. Полуостров Истрия. Хорватия.
99. Бланес. Коста Брава. Каталония. Испания.
100. Барселона. Коста Брава. Каталония. Испания.
101. Полуостров Халкидики, полуостров Касандра. Греция.
Итак, в путь!
1. Заводская окраина Москвы. Улица Восточная
В середине 30-х годов, когда мои родители переехали сюда, парк у Симонова монастыря был местом гуляний и отдыха. В пруду купались, в парке, заросшем, превратившемся в дикий лес, собирали грибы. Потом здесь устроили детский парк, прочистили и вырубили дикие заросли. В нашем послевоенном детстве и ранней юности мы любили приходить сюда. Остатки кирпичных стен создавали таинственную загадочность старого монастыря. От разрушающейся замшелой башни, вдоль кирпичной, тоже разрушающейся стены, столетние липы идут двухрядной уютной аллеей и разбегаются приветливой рощей вокруг старого, зарастающего ряской пруда. Между липами кое-где уютно устроились узорно-витые чугунные скамеечки со спинками.
В разрушающихся от времени башнях входы закрыты вмазанными решётками ограждений. В них проломаны лазы. Мы, немного страшась, пролезаем внутрь и успеваем ещё разглядеть сохранившиеся части росписей и надгробия ХIV – ХV вв.
Через несколько лет родители и воспитательницы решили, что пруд слишком требует их внимания на прогулках с детьми. А башни, так просто, опасны. Райсовет принял очередное решение. Пруд засыпали, оставив небольшой фонтанчик с бассейном, сделали горки и песочницу, беседку и качели, сказочные и спортивные строения. Входы в башни заново и плотно закрыли.
Какие-то намёки о хранившихся здесь раньше сокровищах, о мощах святых, их чугунных надгробиях, отправленных в переплавку, о том, что ДК ЗИС стоит на костях, о звуках колокола, возникающих из ничего – всё это сильно будоражило наше воображение. Нам хотелось проникнуть вглубь веков, разглядеть, что происходило здесь, что представлял собой загадочный Симонов монастырь до того, как превратился в развалины. Со временем разные кусочки, которые удалось выудить из разных источников, сложились в более или менее определённую картину.
Симонов монастырь, окраина древней Москвы, важное звено в оборонительном поясе Москвы. За его восточной стеной пролегла Восточная улица. Южной стеной монастырь раньше выходил на улицу Симоновская Старая Слобода, переименованную в Ленинскую Слободу. В этой части территории монастыря расположился завод ?Динамо?, поместивший свою компрессорную в полуразрушенной церкви Рождества, с которой начинался Старый Симонов монастырь.
Симонов монастырь был основан в конце XIV-го века, в сосновом бору на высоком берегу Москвы, одном из самых красивых мест Москвы. Основателем его считают племянника и ученика Сергия Радонежского Фёдора – духовника Дмитрия Донского. Земля для его постройки была подарена Сурожским купцом Стефаном Ховрой, (в будущем род Ховриных и Головиных). Духовный центр и крепость. Он постоянно достраивался, сгорал и разрушался, и снова строился и перестраивался. С монастырём связаны многие события российской истории. Не раз он отражал набеги орды и крымского хана. Часто приезжал и оставался здесь Св.Сергий Радонежский. В монастыре хранилась Тихвинская икона Божьей Матери, которой он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. В Симонов монастырь Дмитрий Донской привёз с Куликова поля тела воинов-монахов Родиона Осляби и Александра Пересвета (боярина Бронского).
Отсюда в течение веков вышли многие известные деятели православной церкви. Строительством и росписью занимались знаменитые зодчие и иконописцы. Здесь работал Максим Грек. Впервые в московской архитектуре новая монастырская ограда была возведена из нового тогда в Москве материала – кирпича. Производство его недалеко от Симонова наладил Аристотель Фиораванти. Монастырь пользовался покровительством старшего брата и сестры Петра 1, Фёдора и Марии Алексеевичей. На их средства была построена трапезная, её облицовка выполнена в особом стиле ?шахмат? – имитации каменной огранённой кладки.
Колокольня монастыря славилась на всю Москву. В XIX веке на месте старой колокольни поставили новую. Огромная пятиярусная колокольня, у западной стены монастыря над излучиной Москвы-реки, была далеко видна вокруг. Самый большой из колоколов весил 16 тонн. На четвёртом ярусе были установлены часы. На среднем ярусе поместилось несколько церквей. Даже в летописях отмечен незаурядный колокольный звон старой колокольни.
Новой колокольней восхищался удивительный, великий звонарь Константин Сараджев. Ему доводилось иногда ему звонить на Симоновской колокольне уже после закрытия Симонова монастыря. Я, конечно, увлеклась, но не могу не привести его описание звона:
?Его удар повторялся приблизительно каждые 25 секунд. . . Он овладел мною; особенность этого колокола заключалась в его величественнейшей силе, в его строгом рычании, параллельно с гулом. Надо прибавить, что рычание это и придавало ему какую-то особую оригинальность, совершенно индивидуальную. Сперва, в самый первый момент был я испуганно поражён колоколом, затем испуг быстро рассеялся, и тут открылась передо мной величественная красота, покорившая всего меня и вложившая в душу сияющую радость. До сей минуты запечатлелся этот звук во мне! Оказалось, этот колокол был Симонова монастыря?.
Монастырский парк. Липовые аллеи, сосны и дубы, живописный пруд, вокруг которого склонялись до самой воды плакучие ивы. По преданию, ранее глубокое, озерцо Святое вырыл здесь сам Сергий Радонежский. Позднее оно превратилось в Лисьин пруд. А после того, как монастырь, его месторасположение и панорама окрестностей восхитили Н. М.Карамзина, и сюда он привёл свою героиню, бедную Лизу, пруд назвали Лизиным.
На кладбище монастыря были похоронены в течение многих веков известные на Руси люди. Сын Дмитрия Донского Константин, касимовский царевич Симеон Бекбулатович, митрополит Московский Иона, первый кавалер ордена святого Андрея Первозванного, соратник Петра I, Фёдор Головин; князья Мстиславские, Нарышкины, Шаховские, Загряжские, Муравьёвы, Н. Л.Пушкин, дядя поэта, поэт Д.Веневитинов, писатель С.Аксаков с сыном, композитор А. Алябьев, А.Бахрушин и др..
Вскоре после революции монастырь закрыли, потом, 1923 году открыли музей. Но в январе 1930 года, в годовщину смерти Ленина, были взорваны главный Симонов (Успенский) собор, близлежащие 4 церкви, колокольня, 2 башни, прилегающие к Москве-реке, и некрополь. Уцелело немного. 3 башни: в южном углу мощная шестнадцатигранная ?Дуло? с высоким шатром и двухъярусной дозорной башней, пятигранная ?Кузнечная? в юго-восточном углу и круглая ?Солевая?, в восточном. Сохранилась трапезная, часть кирпичных стен, какие-то хозяйственные постройки и часть парка.
На освободившейся территории в 1930–37 годах был построен Дворец Культуры Пролетарского района, перешедший в ДК "ЗиС", позже – "ЗиЛ".
Дворец Культуры расположен справа от наружной монастырской стены и трапезной. Т-образное строение составлено из 3-х частей, соединенных между собой переходами.
Детский сектор ДК был в левом заднем крыле строения, по соседству с трапезной. Чтобы попасть в Детский Сектор, надо пройти по узкому проходу между основным зданием ДК и трапезной.
В трапезной, разгородили множество крошечных комнат и во время войны заселили беженцами и погорельцами. Огромные людские муравейники, называемые коммунальными квартирами. Сквозь пыль веков просвечивает изысканная старинная облицовка. На её фоне, на многочисленных окнах болтается вывешенное для просушки разноцветное бельё, слышен детский плач, крики ругающихся, громкая музыка патефонов, из окон выплескивается жидкость отходов (ведь все удобства в конце длиннющего коридора, куда недосуг ходить). Мы тоже жили в "коммуналке", но эти – с длинными коридорами и множеством маленьких комнат, один туалет, одна кухня, один вечно текущий кран!
По дороге в Детский сектор я старалась поскорее проскочить этот неосвещённый, ужасный проход.
Множество детей близлежащего района и приезжавших издалека, находили в Детском секторе занятия по интересам в различных кружках и спортивных секциях. Танцевальный (классического и народного танца), музыкальные (народные инструменты, аккордеон, баян и, конечно, фортепиано и скрипка), хоровой, живописи и лепки. Умелые руки: техническое моделирование, изготовление разных машин и механизмов, авиамодельный и др.. Спортивные секции: гимнастика, акробатика, лыжная, конькобежная, лёгкая и тяжёлая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол. И позади ДК свой стадион.
Для меня средой постоянного обитания были детская библиотека и Театральная студия.
В Театральной студии с 5-го класса, с сентября 1949 года, я дневала и ночевала. По воскресеньям здесь показывали прекрасные спектакли, куда мы прибегали, чуть не из детского сада. Потом, я и сама принимала участие в этих спектаклях.
Справа от Детского сектора находилось основное здание ДК. Их соединяли в двух этажах застеклённые галереи – переходы. Основное здание Дворца Культуры составлено из двух самостоятельных зданий, также соединённых между собой по второму и третьему этажу стеклянными галереями переходов. Парк перед ДК и двор Детского сектора сообщались арочно-колонадным проходом, находившимся под этими галереями. Та часть основного здания, которая также, как и Детский сектор располагалась на заднем плане, предназначалась для культурного развития рабочих ЗиСа и жителей района: всевозможные кружки и спортивные секции, аналогичные детским, и ещё бальных и классических танцев, лекторий и пр..
Позади ДК – свой стадион. Стадион, в основном, занимала любимая и знаменитая футбольная команда ?Торпедо?, за тренировками и играми (тогда ещё, товарищескими) которой приходили смотреть все желающие..
На втором этаже находился большой Бальный зал с колоннами и чудесным, зеркальным паркетом, где работала школа бальных танцев и часто устраивались балы. На балах и часто, на занятиях, играл духовой оркестр. Ну а на Новый год – Бал-карнавал! Нас в студии учили пластике движения, немного бальным и народным танцам. Когда были балы в Большом зале, нас, старших (класса с 7-го) студийцев, пропускали во взрослый сектор по галерее 2-го этажа. Мы попадали в Бальный зал ?изнутри?. Билеты были дорогими, но мы были "свои". Если был объявлен Бал-карнавал, нам разрешали воспользоваться костюмерной
За бальным залом всё правое крыло занимала большая библиотека-читальня, которая была связана с Ленинской Библиотекой, Политехнической, Некрасовской и др. библиотеками. Через читальный зал можно было заказать и получить любую книгу из этих библиотек. Вход сюда был отдельный, со своей огромной раздевалкой, повторяющей паркет и колонны Бального зала над ней.
На улицу выходило здание ДК (ножка от Т), в котором главенствовал большой кино – театральный зал (на 1200 мест), и куда вёл главный вход. Мы, студийцы, называли его "Большой сценой". Сцена театрального зала, была прекрасно оборудована, с вращающимся кругом (далеко не во всех профессиональных театрах они тогда были), гримёрными, и прочими необходимыми атрибутами театра и сцены. В обычные дни над сценой опускался экран, и зал становился кинотеатром. Довольно часто сюда приезжали театры Москвы со своими спектаклями и концертами. Иногда спектакли показывал драматический кружок взрослого сектора, но надо сказать, он не превышал среднего уровня самодеятельности.
Театральная студия Детского сектора тоже пользовалась "Большой сценой". Это был и показ спектаклей для зрителей, и праздничные закрытые вечера, когда собирались все настоящие и бывшие студийцы, многие из них уже стали профессиональными артистами. Из студии вышли такие артисты, как Вера Васильева, Георгий (Рена) Панков (Большой театр), Володя Земляникин, Вася Лановой, Валера Носик, Таня Жукова, Володя Попов, Алёша Локтев и др.. Преподавание театрального мастерства в студии было поставлено на высоком уровне, и спектакли тоже были на профессиональном уровне. Зал всегда был полон, билеты достать было трудно.
В Детском секторе у нас, Театральной Студии, на третьем этаже была своя, ?Малая сцена?, и перед ней зал, тоже малый, но с большим роялем, с таким же зеркальным паркетом и даже колоннами, как во взрослом бальном зале. На втором этаже были комнаты для занятий. Спектакли (бесплатные, по приглашениям, из школ и даже детских садов) и репетиции происходили здесь. Мы любили свой ?Малый зал? и свою Студию. Даже уже сильно выросши из детского возраста, мы приходили сюда, на свои, студийные праздники или посидеть на репетиции. Установилась традиция устраивать Новогодний бал в первое воскресение Нового Года, когда собираются и нынешние и бывшие студийцы. Даже те, кто уже много лет не приходил в Студию, знают, что в первое воскресение Нового Года их ждёт праздничная встреча с друзьями.
Парк, библиотека, кинотеатр, театральные представления, стадион – всё здесь было для нас, детей и взрослых, своё, привычное, второй дом.
У центральных ворот ДК – трамвайные остановки, в обе стороны маршрутов. По Восточной улице идут трамваи №№ 12, 41, 46, 49.
Стоит пройти по их маршруту, чтобы даже сейчас разглядеть Симонов монастырь в системе оборонительного пояса Москвы. Направление в сторону ?центра?. Оставив справа бывший Камер-Колежский вал (Велозаводская улица), трамвай выходит на Симоновский Вал, слева Алёшинские и Крутицкие казармы, из-за которых выглядывает колокольня Крутицкого подворья, так любимой мной шатровой формы, и чуть дальше видна высокая колокольня Новоспасского монастыря, усыпальницы предков Романовых. Дальше, Крутицкий Вал, Крестьянская Застава, здесь маршруты разделяются. Прямо трамвай (№ 46) следует по Абельмановской, бывшей Покровской, а еще раньше Коломенской Заставе, Рогожским Валу и Заставе, ставшей Заставой Ильича. Стоит заметить, что перед Рогожским Валом вливается другой трамвайный маршрут, ведущий на Андроньевскую улицу, к Спасо-Андронникову монастырю, где работал и был похоронен Андрей Рублёв. Часть росписи сохранилась, и мы, девчонки, узнав об этом, пролезали в развалины увидеть древнюю красоту. Ответвление от Крестьянской заставы налево – на Воронцовскую улицу, к Таганке, Яузским воротам, и т.д.. В другую сторону по Восточной трамвай проходит до её конца, поворачивает направо по Ленинской Слободе, мимо завода ?Динамо?, поворачивает в 3-й Автозаводской проезд, выезжает к Райкому – Райисполкому (это от метро через площадь и слева), направо, на Автозаводскую улицу, к самому заводу, ко всем его проходным, к конечному кругу.
2-е минуты от ДК – и вот уже торец нашего дома.
Наш дом был расположен на Восточной улице. Точнее, это адрес у него такой: Восточная улица, корпус 4. На самом деле дом расположен на углу Ослябинского и 1-го Восточного переулков.
Ослябинский располагается параллельно Восточной улице. Восточные переулки, 2-й и 3-й, совсем коротенькие, бегут поперёк между ними. 2-й Восточный начинается напротив гаражных ворот Пожарной части, а 3-й – в конце Ослябинского, налево от нашего дома, выходит к воротам ограды ДК ЗИС. По правой стороне – большой дом, в котором аптека, на углу – магазин, продовольственный на 1-м этаже, где мы будем ?отоваривать? свои карточки, когда они появятся, и на 2-м – промтоварный. Скользнув вдоль нашего дома налево, 3-й Восточный плавно перетекает в 1-й, и выходит к улице Ленинская Слобода (бывшая Симоновская Слобода), прямо напротив Велозаводского Колхозного рынка. В конце 80-х 1-й Восточный растащили по частям: частью присоединили к 3-ему, а ?загиб?, с переулком, куда он вливался, назвали Пересветов переулок.
Справа от рынка – поликлиники, для взрослых и детская, а ещё правее – наша школа № 501. От Ослябинского переулка до самой школы, вдоль Ленинской Слободы – неширокий, в 2 аллеи, симпатичный скверик. В нём, летом и зимой на лыжах, проходили занятия по физкультуре, по утрам мы бежали в школу, и в разное время прогуливались и прогуливали.
Вполне удобное пространство для проживания на окраине Москвы через 6 веков, после того как эта окраина образовалась.
Дворец Культуры ЗиС, на другой стороне Восточной улицы тоже имел (и сейчас имеет) адрес – Восточная, дом 4.
Вплотную примыкавшая к ДК, заселённая как муравейник, бывшая трапезная монастыря, тоже имела адрес, Восточная, дом 4.
Такая адресная система не могла не создавать некоторой путаницы. Но наши почтальоны в этом хорошо разбирались. Хотя это было не просто. Почту в жилой дом и ДК различить не сложно, а как разобраться с жилыми домами? Но почтальоны умудрялись разбираться, почти не ошибаясь. То ли помнили имена жильцов, то ли знали, откуда и куда приходили письма. Потом нашему дому присвоили №1/7, корп.4. Но мы упорно придерживались привычного адреса. А почтальоны продолжали правильно находить адресатов.
По Ослябинскому и 2, 3-м Восточным переулкам – деревянные домики с палисадниками, садиками и верандами. Наша сторона – тоже деревянные, но двухэтажные городские дома. За ними, на углу – Пожарная часть, и наш кирпичный дом, объединённые общим двором. Дом в то время имел форму буквы Г (потом его сделали буквой П ). В Ослябинский переулок выходит торец длинной ножки Г, которая тянется вдоль 1-го Восточного переулка, и вместе с ним поворачивает короткой полочкой в один подъезд.
В доме 5 этажей и 5 подъездов, по 10 квартир в каждом. Квартиры почти все коммунальные, по 3 комнаты, т.е. семьи. Только в угловом 2-м подъезде квартиры 2-х комнатные. Мы живём в этом подъезде на 4-м этаже. Угол дома изломанной формы: два короба здания состыкованы не полностью, образуют внутренний угол, куда поместили выступающий, тоже углом, подъезд с застеклённой лестничной клеткой. В подъезде двери во двор и на улицу. Мне нравилось, когда можно было входить с улицы, но уличную дверь часто закрывали, и мы входили через двор. Окно нашей комнаты – на торце короткой секции, смотрит на Восточный переулок, а слева углом выступают стеклянные переплёты лестницы.
Да, ещё небольшой штрих к картине. От гаражных ворот Пожарной части из Ослябинского переулка к Восточной улице ведёт тихий 2-й Восточный переулок. На его углу, вскоре после отмены карточек, в маленьком деревянном строении открылась чудесная булочная. Туда же перенесли трамвайную остановку на линии, идущей к центру. В булочной всегда был свежий, очень вкусный хлеб. Аромат свежеиспечённого хлеба расплывался вокруг, не позволяя пройти мимо.
Возвращаясь в темноте вечеров или просто усталая, я от метро Автозаводская прохожу по освещённой улице к заводу ?Динамо?. Вскакиваю в любой из 4-х, ждать почти не приходится, трамвай. Неспешно позвякивая, он заворачивает в темноту деревянных домиков, скрытых заборами, в глубине палисадников, останавливается у булочной. Под козырьком её всю ночь горит яркий фонарь, проникая вглубь короткого переулка, так что поблескивают зеркала осенних луж, или мириадами искр блестит похрустывающий под ногами снежок. Не успеешь проникнуться поэтическим настроением, как попадаешь в яркий круг мощного прожектора ?Пожарки?, где расхаживает укутанный в плащ или тулуп дежурный.
Всё. Я ныряю в ворота, во двор своего дома, освещённого тёплым светом многих окон.
2. Подмосковье
Трудно назвать и перечислить все дороги, тропки, бездорожья, которые были исхожены. Окрестности в районах ж\д станций: Болшево, Валентиновка, Загорянка, Мураново, Хотьково, Федоскино, Загорск (ныне Сергиев посад), Осеевская, Клин, Тверь, Турист, Яхрома, Отдых, Быково, Одинцово, Баковка, Переделкино, Перхушково, Полушкино, Верея, Тучково, Звенигород, Опалиха, Барвиха, Можайск, Наро-Фоминск, Вороново, Шишкин лес, Михайловское, Подольск, Барыбино, Михнево, Жилёво, Крёкшино, Серпухов, Шарапова охота, Ступино, Подольск, и не знаю, сколько ещё можно перечислять. Уж точно, не найти такого уголка в Московской и ближайших к ней областях, которые остались бы не изведанными.
Пешие походы начались в школе, в 9-м классе, 1953 –54 годы. Мы шли к тишине лесов и говору рек. Учились взаимовыручке и выносливости. Учились разбивать стоянки и убирать их, не оставляя никакого следа от нашего пребывания. Знакомились с рукотворной красотой в Федоскино, Сергиевом посаде, Хохломе и др.. В студенческие годы Подмосковье стало местом слетов и больших переходов, летом и зимой.
Позднее, когда пошла работать, стали ходить на байдарках по рекам Подмосковья. Река Москва, верховье, Протва, Поля, Пахра, Десна, Клязьма, Лужа, Меча, Ока, Дубна, Сестра, Яхрома, и ещё много не припомнившихся. Описывать каждый кустик Подмосковья бессмысленно: многие мастера, писатели и поэты воспели неброскую, милую сердцу красоту и поэтику лесов, родников, речушек и холмов. Не мне соревноваться с ними. Однако, перечисляя сейчас знакомые названия, многие из них предстают в своей особенности. Казалось бы, все похожие леса, поляны, реки, и, всё-таки, каждое неповторимо. Вот, некоторые эпизоды.
2.1. Пешком
9 мая, 1968 г.. Мы с моим будущим мужем Володей едем на Пестовское водохранилище, на ракете, до Тишково. Вышли на предпоследней остановке. Никто кроме нас на берег не сошёл. Песчаный небольшой пляж, окружённый густыми зарослями деревьев с кустарником. И нежный аромат черёмухи! Наплавались и пошли искать источник весеннего аромата. Углубились всего на несколько метров и замерли: черёмуховый лес! Всё белым-бело, и такой густой дурман! А над нами такое синее-синее высокое небо! Мир прекрасен! И прекрасно жить в нём!
С тех пор мы в течение многих лет приезжали в черёмуховый лес 9-го мая. Это было наше место Подмосковья, это был наш праздник Весны, Цветения, Счастья!
Вспоминаю другой короткий пеший поход вдвоём с Володей.
Майские праздники. Станция Жилёво по Павелецкой дороге. Выбрали место, наугад, просто в лес, собираясь дойти до речки Лопасни. Но, вдруг – сплошной дождь. Наши попутчики идти в дождь отказались, а мы решили не отступать. Правда, внесли поправку: идём без ночёвки, без палатки, к ночи вернёмся.
Мы долго шли под дождём вглубь леса. Полиэтиленовые накидки укрывают нас вместе с рюкзаком. Было тепло, дождь не раздражал, а как-то тихо шелестел, задёргивая еще чёрный лес таинственной пеленой. Из мягкой пелены рельефно и ярко вырисовывается зелёная ель (всего лишь через неделю, в яркой зелени лиственного леса никогда бы её так не выделить). Кое-где из ещё тёмного покрова земли выскакивали ярко зелёные ростки. О, чудо молодости и любви! Даже серый дождливый день – прекрасен!
Пройдя несколько километров, решили сделать привал, поесть. Благо, что мясо и всё остальное, включая напитки и зелень, для шашлыка обычно заготавливаем мы, не доверяя в этом никому.
Высматриваем сухие места под способными их сохранить деревьями. Вскоре видим огромную ель с густым шатром опущенных до земли ветвей. Радиус сухого пятна вокруг ствола был не меньше 1,5 м.! Комфортно расположились под её шатром. За пределами шатра с помощью свечи развели костёр. Долго поддерживаем огонь, так красиво живут своей жизнью прогорающие дрова, что забыли про дождь. Потом делаем шашлык. Мы никуда не спешим. Отдохнули, насладились нежнейшим мясом, как обычно, двух сортов, телятиной и свининой. Не забыли особенно вкусный и ароматный в таких условиях коньячок.
А дождь всё шелестел, шелестел. Мы были одни в этом волшебном мире. Так не хотелось покидать эту сказочную страну. Мы пожалели, что не взяли палатку, чтобы заночевать здесь.
До соседней станции Шугарово было несколько километров. Лес расступился, открылись пологие холмы полей с перелесками, далёкими деревушками. И вдруг над грустным, серовато-коричневым простором вспыхнула огромная, от края до края, двойная полноцветная радуга. Мы замерли, потом засмеялись от переполнявшей нас радости.
2.2. На байдарке
Байдарочные походы. Встречать Весну на природе – наша традиция. Один из походов: река Поля, правый приток Клязьмы, вытекает из озёр и болот недалеко от Шатуры.
Кажется, 1970-й год. Выезжаем в последний, короткий, рабочий день, перед Первомаем. Впереди 4 выходных дня. Нас везёт к реке и встречает машина из гаража ЭНИМСа, за арендную плату. Наши спутники, не работающие вместе с нами, встречают нас в проодной или удобном месте по дороге.
Нас – 4 байдарки, 11 человек. Серёжа, мой коллега и друг, вдвоём с женой Натальей. Больше в байдарку никто не поместится при её габаритах: чтобы сесть в байдарку, приходится для неё растягивать борта. Мы с Володей в байдарке вместе с Виктором Жуковым (Серёжин и наш друг). Володя Солдатов, наш коллега, с женой Светланой и женой Виктора Инной. Сева и Эдик с женой Ириной, все трое – сотрудники соседнего отдела.
Весна в этом году ранняя, к маю земля зазеленела травой, деревья опушились зелёным пухом. Уже вечерело, когда подъехали к реке, за железнодорожной станцией Кривандино (хорошо, что не совпали с поездом). Хотя был солнечный день, и было ещё светло, нужно было успеть отойти подальше от населённого пункта. Быстро собираем байдарки. Река узкая, не больше 20 м., низкие берега. Вода чистая, но имеет коричневатый оттенок, поскольку течёт по торфяным местам. Деревни, поля и луга, берега болотистые, редкие перелески подступают к реке.
Один из перелесков, километрах в 5 от станции, оказался пригодным по сухости для стоянки. Нарубили лапника: земля ещё холодная, да и ветер холодный. Мой спальный мешок – старое пуховое одеяло, в котором меня принесли из роддома, подреставрированное новым покрытием, и, с помощью системы застёжек, превращенное в лёгкий, тёплый спальный мешок. У всех остальных – от одеял, до пуховиков, по достатку.
Ночью по тенту палатки зашелестел дождь. Но нам было тепло, мягко, уютно, шелест дождя хорошо убаюкивал.
Утром вылезаем из палатки, и замираем от неожиданности: земля устлана белым пухом, густые ветки кустов с кисточками распускающейся листвы образовали белое, в искристых каплях кружево, островки снежного пуха на палатках. Солнышко уже пригревает, не успели мы насладиться снежным видением, оно, посверкав радужной капелью, исчезло. Утро снова сияет солнцем и высоким, синим небом, о снеге напоминает только особая свежесть воздуха.
Мы уходим последними. Виктору что-то не понравилось на оставляемом берегу, белеют какие-то бумажки. Закрепляем байдарку, выходим ликвидировать следы своего пребывания. Теперь можно отчаливать. Но обнаруживаем на дне байдарки немного воды. То ли занесли на ногах, то ли . . . Да, пропороли дно о затопленные сучья. Вытащили, перевернули для просушки.
Поняли, что с распределением вещей поступили безобразно, клей ушёл на первой байдарке, они уже далеко. Куски резины у нас. Но, как её приклеить? Володя вдруг высказывает мысль, что в холоде сливочное масло (которое у нас есть) застывает, значит, если его слегка согреть, намазать, пришлёпнуть заплатку, перевернуть в воду, заплатка намертво пристанет к днищу. Мы с Виктором принимаем это за шутку, поднимаем на смех. Но время идёт, делать нечего, приходится пробовать. Получилось! Река извилистая, ушедшие вперёд за этими изгибами не могут увидеть, что мы сильно отстали. Ничего, встретимся.
Вдоль реки много деревень, и как результат, много разломанных мостков и отдельных столбов от мостков совсем разрушенных, часто с гвоздями. Майское полноводье закрыло их водным покрывалом, мы часто замечаем торчащие столбы уже под самым носом байдарки. Хорошо, если в этом месте течение не слишком сильное. А если . . . Приходится резко тормозить, тогда байдарку разворачивает, тратится много сил и времени, чтобы обойти препятствие. Мостик в полной исправности тоже не подарок: вода поднялась под самый настил, а гвоздей при его закреплении работнички не выбирали, они торчат вниз на много сантиметров, грозя поймать нас, как рыбу, на крючок. Обносить мосты тяжело и хлопотно. Распластываемся по байдарке, отжимаясь руками от досок, стараясь удержать не быстрый ход лодки, чтобы успеть разглядеть и увернуться от гвоздей. На быстром течении этот трюк не легок, и не всегда удачен, расцарапываются руки, хорошо не лицо. Пока мы с этим справляемся. Солнышко скрылось, стало пасмурно, серо. По воде плывут коряги и целые деревья, но они хорошо заметны из-за облепившей их старой листвы и веток, опасны скрытые водой ветки. Но это развлечение, чтобы не слишком расслаблялись, не теряли бдительность на воде, она это не любит. Мы ловко преодолеваем препятствия, развлекаемся, сочиняя рассказ, как мы заклеили байдарку сливочным маслом, изображаем реакцию слушателей.
Река тем временем привела к широкому лугу и разошлась множеством проток, прорезавших луг сложным узором, похожим на след короеда на стволе дерева. Вплываем на луг, с удивлением видим множество байдарок, в беспорядке передвигающихся в разных направлениях. Все, кто проплыл до нас, сошлись на этом луговом серпантине, запутавшись в извивах и протоках разлившейся реки. Все громко перекликаются, пытаясь разобраться с направлением. Картина! Навстречу нам, но чуть мимо, слаженно посверкивают лопасти вёсел – это Солдатовы, они мастера спорта по гребле, сразу виден класс. Куда же они? Расходимся в разные стороны, едва не задевая друг друга вёслами. Между нами зелёный луг, расстояние не больше 2-х метров. Петляя в лабиринте, нашлись все наши байдарки. Громко переговариваясь, обозначили место встречи, и поплыли, не теряя друг друга из виду, куда кривая выведет. Вывела-таки.
Мы снова в хорошо обозначенном русле. Остановились перекусить, переварить приключение, общее и наше. Рассказ о заплатке на сливочном масле, комичность байдарок на лугу – хороший повод для веселья. Отсмеялись, надо продолжать путь.
Завтра 1-ое мая, и мы собираемся этот день провести на берегу, отдохнуть и отпраздновать. Значит, место стоянки должно быть хорошее, сухое, лесистое. По описаниям, за селом Власово начинаются песчаные высокие берега со смешанным, с преобладанием хвойного, лесом.
Поля продолжает петлять, вода уже прозрачная, просвечивает песчаное дно. По берегу над водой и в воде стоят большие деревья, часто склоняясь настолько, что приходится ложиться в байдарке, почти как под мостками. Но, в общем, путь приятен. Облака белые, тёмно-синие, серые, в предзакатной подсветке создают живописную декорацию. Непонятно только, какой спектакль они предвещают на завтра. Хотелось бы день отдыха провести без дождя. Миновали Власово. Прошли примерно 5 км – зона минимального отдаления от деревни, чтобы избежать нежелательного нашествия пьяных жителей, так далеко им идти лень. Справа видим высокий песчаный берег на мысу, видны приветливые верхушки елей. То, что надо для стоянки!
Причалили, выходим на разведку, Солдатовы и я. Чуть левее, на самом мысу, прекрасная поляна, высокая берёза в центре, по бокам от неё несколько густых, ?правильных? елей. Лучше не придумать! Но тут Володя показывает пальцем на что-то под берёзой : ?А это, что??. ?А это, коровки ходили?, смеясь, комментирует очевидное Светлана. Володя требует дальнейшего поиска. Переглядываемся со Светкой: Володина брезгливость известна. Уверяем, что это мы уберём, в остальном, поляна идеальная, да и вечер близко, и устали все. Мы дружно убеждаем и уводим Володю, не давая ему увидеть ещё один сюрприз за ёлкой. Зовём высаживаться, стоянка.
Место отличное, погода – тоже. Мы прекрасно проводим день. Солнышко припекает, деревья, окружившие поляну, защищают от малейшего ветерка. Раздеваемся до купальников, очень хочется искупаться. Чуть за мысом образовался небольшой и неглубокий заливчик с тихой, прозрачной водой. Спускаемся, пробуем воду, с радостью прыгаем в неё. Сначала немного обожгло, но какое удовольствие, какая радость переполняет!
Первое купание в этом году! Ребята, услышав наш радостный визг, подходят унять сумасшедших женщин. Но, увидев, что мы плаваем, спускаются к нам. Энтузиазма последовать за нами у ребят не появилось. Заботливо держат в руках полотенца.
Оба Володи священнодействуют над костром, не позволяя никому вмешиваться (их мастерство прочно признано). Мы с Инкой, очень бодрые после купания, хватаем бутерброды, и берёмся за мясо к шашлыку, тоже не подпуская никого. Остальные занимаются оборудованием места пира, чисткой картошки, резкой овощей. Приятная суета и отдых. Наконец, всё готово.
Праздник. Достаётся припасённая бутылка коньяка и бутылка ?Твише?. Шашлык готов, сочный и нежный. Чего нам нехватает? Песни. Наши любимые ?прикостровые? песни; Витя с Серёжей, как всегда, просят меня спеть для них, для начала. ?Солнце спит, Джимми спит, и чуть-чуть храпит . . .?
Все уже настроились на песни.
Серёжа начинает: ?Накрапывает дождик, идёт и идёт. Сидит одна девчонка и песню поёт . . .?. Мы подпеваем. ?У Геркулесовых столбов лежит моя дорога . . .? – это Володя запевает. А Витя, про любимые горы: ?Я помню тот край отдалённый, где горы весёлой гурьбой Сходились у речки зелёной, Как будто бы на водопой . . . (и немного переделывает последние строчки) . . . Тебя я увижу не скоро. Но только уверен я в том: Помогут мне синие горы, Вершины, покрытые льдом?. А Инка, конечно, из Ады Якушевой: ?Ты моё дыхание, утро моё ты раннее, Ты и солнце жгучее и дожди . . .?. Володя Солдатов: ?Серый дым создаёт уют . . .?. Включается Эдик: ?Люди идут по свету, им вроде немного надо, Была бы суха палатка . . . Его брат Сева: ?В переулке на Арбате, где играла радиола, и пары танцевали до утра, Все ребята уважали очень Лёньку Королёва, и присвоили ему званье короля . . . ?. ?Тихо по веткам шуршит снегопад, Сучья трещат на огне . . . Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится, ветер заносит следы наших саней . . .? – это снова я. Ирина включается, начинает: ?Вечер бродит по лесным дорожкам . . .?. Володя: ?Ну, что, мой друг, грустишь, Мешает спать Париж, Ты посмотри – вокруг тебя тайга . . .Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка, И перестань, не надо про Париж . . .?. Снова Витя, почти наш гимн, Бригантина: ?Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза, В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса . . .?. Эдик не отстаёт: ?Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный чудак, я гоняюсь за туманом, за туманно, И с собою мне не справиться никак . . .?. Серёже, наконец, удаётся вмешаться: ?Кончилось лето жаркое, Шхельда белым-бела . . . ?. Не обходится и без ?Подари на прощанье мне билет, на поезд куда-нибудь . . .?, и ?Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой . . .?, и ?Милая моя, Солнышко лесное . . .?, и ?Ты у меня одна . . .?. Так и длится бесконечный перепев. Уже совсем поздно, и самый дисциплинированный Володя Солдатов заявив, что пора спать, запевает последнюю: ?Перепеты все песни, расставаться пора, Уж подёрнулись пеплом головешки костра, Ветер пихты качает, не мешая мечте, И какая-то птица кричит в темноте . . . Перепеты все песни, расставаться нам жаль, В этой песне прощальной прозвучала печаль, Но ведь ты со мной рядом, тишина над костром, И прощальную песню мы вместе споём. ?
Утром погода испортилась Небо в серой пелене, но дождя пока нет. Спускаем байдарки. Меня сажают на носу, Володя – на корме, у руля (для разнообразия, мы все меняемся местами). По воде стелется туман, недалёкий противоположный берег плавает в нереальности. Справа впадает какой-то приток. На воде клочья чересчур густой, похожей на грязную вату, пены. Брызги от вёсел рассыпаются по курткам фиолетовым горохом. Бр-р! Несколько километров плывём в этом безобразии. Все замолкли, усиленно гребём, стремясь поскорее оказаться на чистой воде. Хлопья пены редеют, фиолетовый горох становится голубым, и, наконец, брызги оставляют только обычный след мокроты.
Река продолжает активно петлять и обеспечивать завалами и отдельными плавунами, зато почти нет мостков, ни целых, ни разрушенных – деревни здесь редки. Вода глубокая, берега часто обрывистые, заросшие лозняком. Огромное бревно, обросшее наплывшими сучьями и старой листвой, плывёт поперёк. Мы только вывернули из-за поворота, когда увидели его. Стараемся с ним вежливо разойтись. Бурлящий круговорот разворачивает байдарку кормой вперёд. Я это, почему-то, не люблю, хотя не трудно развернуться. Выполняем одновременно две задачи: не дать байдарке двигаться задом наперёд и разминуться с бревном. С бревном разобрались, но вот байдарка упрямится, ни задом наперёд, ни передом, а как-то наискосяк. За это время течение снесло нас к развилке русла, и стало сносить в протоку. Пытаемся вывернуть в основное русло. Нос байдарки почти утыкается в высокий, заросший тонкими прутьями, то ли кустарника, то ли молодой поросли, берег, нас снова начинает разворачивать кормой. Я так этого не хочу, что, не успев подумать, отталкиваюсь веслом от берега, чтобы нос развернулся по течению. Весло застревает в вязкой земле, и … мы стоим по плечи в холодной воде, а байдарка демонстрирует нам свою заплату на сливочном масле. Ребята ругаются и смеются одновременно. Мы ныряем, чтобы отвязать закреплённые рюкзаки и непромокаемые мешочки-колбаски с продуктами. Первым делом, достаём рюкзаки со сменой одежды, в надежде, что не всё промокло. Всё, что достаём, с силой швыряем в берег, чтобы вмазалось в грязь между прутьев, не съехало назад в воду. Иногда не с первой попытки. Наконец, удаётся вернуть байдарку в естественное положение. Совсем окоченели, пытаемся вскарабкаться по грязевой крутизне. Это не просто, но вылезли, подтащив несколько узлов груза. Надо срочно снять мокрую одежду, согреться. Найти то, что сухо и высушить то, что нечем заменить. Разожгли костерок.