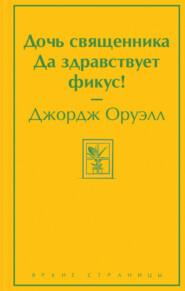скачать книгу бесплатно
Через несколько шагов она услышала характерный стук оконной рамы, со стороны дома миссис Сэмприлл. Неужели она все-таки следила за ними? Ну, еще бы (размышляла Дороти), конечно, следила! Как же иначе? Мыслимо ли, чтобы миссис Сэмприлл пропустила такую сцену. И если она все видела, можно было не сомневаться, что уже завтра утром эта история облетит весь городок, с самыми яркими подробностями. Но эта мысль, при всей своей досадности, ненадолго задержалась в уме Дороти, спешившей домой.
Пройдя некоторое расстояние, она остановилась, достала платок и стала тереть щеку в том месте, куда мистер Уорбертон поцеловал ее. Она терла так рьяно, что щека покраснела. Только полностью стерев воображаемое пятно, оставленное его губами, она пошла дальше.
Такой знак внимания с его стороны расстроил ее. Даже сейчас у нее неприятно трепыхалось сердце. «ТЕРПЕТЬ такого не могу!» – повторила она про себя несколько раз. И это, к сожалению, была чистая правда; она действительно терпеть не могла мужской ласки. Мужские объятия и поцелуи – ощущение тяжелых мужских рук на себе и грубых мужских губ на своих губах – вызывали в ней ужас и отвращение. Даже думать о таком было ей противно. Этот своеобразный секрет, своеобразный неизлечимый изъян сопровождал ее по жизни.
«Почему меня никак не оставят в покое?! – подумала она, чуть сбавив шаг (она нередко задавалась этим вопросом). – Ну, почему?!»
Дело в том, что в других отношениях мужчины вовсе не вызывали в ней неприязни. Напротив, женской компании она предпочитала мужскую. Отчасти ее симпатия к мистеру Уорбертону объяснялась именно тем, что он был мужчиной, наделенным легкостью и непринужденностью, редко свойственной женщинам. Но почему эти мужчины никак не оставят ее в покое? Почему им вечно нужно целовать ее и тискать? Мужчина, посмевший поцеловать ее, внушал ей страх – да, страх и гадливость, словно некий крупный, шерстистый зверь, трущийся о нее, донельзя ласковый, но в любой момент готовый подчинить ее своей воле. Не говоря о том, что все их поцелуи и прочие нежности всегда намекали на дальнейшие мерзости (на «все это», как она говорила), одна мысль о которых заставляла ее зажмуриться.
Она, конечно, вызывала – и больше, чем бы ей того хотелось, – определенный интерес у мужчин. Она была вполне хорошенькой и вместе с тем вполне обыкновенной, чтобы мужчины охотней всего искали ее внимания. Поскольку мужчина, желающий поразвлечься, обычно выбирает не самую хорошенькую девушку. Хорошенькие девушки (так думают мужчины) слишком избалованы, а значит, привередливы; а девушки попроще – это легкая добыча. И даже если ты дочь священника, даже если живешь в таком городке, как Найп-Хилл, и почти все время занята приходской работой, тебе все равно не избежать мужского внимания. Дороти давно привыкла к этому – ко всем этим упитанным мужчинам средних лет, с маслянистыми, ищущими взглядами, мужчинам, которые замедляли свои машины рядом с ней или, найдя повод познакомиться, уже через десять минут щипали ее за локоть. Самые разные мужчины. Один раз за ней ухаживал даже священник – капеллан епископа, который…
Но беда была в том, что ей отнюдь не становилось легче (напротив, много тяжелее!), когда такой мужчина оказывался подходящим по всем меркам и делал ей достойное предложение. Она невольно вспомнила Фрэнсиса Муна, пять лет назад служившего куратом в церкви Св. Ведекинда, в Миллборо. Милый Фрэнсис! С какой бы радостью она вышла за него, если бы замужество не подразумевало всего этого! Он делал ей предложение снова и снова, но она, разумеется, отвечала ему отказом; и он, ну разумеется, так и не узнал причины. Немыслимо сказать такое человеку. В итоге он уехал и всего через год неожиданно умер от пневмонии. Дороти прошептала молитву за упокой его души, на миг забыв, что отец не одобрял заупокойные молитвы, после чего не без усилия отогнала это воспоминание. Ну его! Оно ранило ее в самое сердце.
Замужество было не для нее, она уверилась в этом давным-давно, еще в детстве. Ничто не заставит ее преодолеть ужас перед всем этим – от одной мысли о подобных вещах внутри у нее что-то сжималось и холодело. И, по большому счету, она не хотела преодолевать в себе этого. Поскольку, как и все ненормальные, не вполне сознавала свою ненормальность.
Но, несмотря на то что такая фригидность казалась ей естественной и неустранимой, она прекрасно знала ее причину. Она помнила, так ясно, словно это случилось вчера, кошмарную сцену соития между отцом и матерью – ей было не больше девяти, когда она застала их за этим. Увиденное нанесло ей глубокую, тайную рану. А чуть позже ее напугали гравюры в одной старой книге, изображавшие сатиров, гнавшихся за нимфами. Эти рогатые твари в человечьем обличье, мелькавшие в зарослях и за толстыми деревьями, норовя наброситься на беззащитных нимф, показались ее детскому воображению бесконечно зловещими. Целый год после этого она боялась заходить одна в лес, чтобы не наткнуться на сатиров. Конечно, со временем она переросла этот страх, но не ощущение, связанное с ним. Сатиры надежно засели у нее в подсознании. Едва ли ей было по силам перерасти это тягостное ощущение безнадежного бегства от некоего иррационального ужаса – от топота копыт в глухом лесу, от поджарых, шерстистых ляжек сатира. Такое чувство не заслуживало, чтобы с ним боролись; от него нельзя было отделаться. Тем более что подобное отношение к половой близости нередко встречалось среди образованных современниц Дороти – ее случай не был уникальным.
Приближаясь к дому, она вновь почувствовала уверенность в своих силах. Мысли о сатирах и мистере Уорбертоне, о Фрэнсисе Муне и ее предрешенной девственности, мелькавшие у нее в уме, вытеснил грозный образ ботфортов. Она вспомнила, что ей предстоит потратить на них, вероятно, пару часов, прежде чем идти спать. В доме было темно. Обойдя его, она на цыпочках вошла через черный ход, боясь разбудить отца, вероятно, уже спавшего.
Пока Дороти шла по темному коридору в теплицу, она вдруг уверилась, что поступила нехорошо, пойдя домой к мистеру Уорбертону. Она решила, что больше никогда не пойдет к нему, даже в том случае, что там точно будет кто-то еще. Более того, завтра она наложит на себя епитимью за то, что пошла к нему. Она зажгла лампу и первым делом нашла свою «памятку», уже написанную на завтра, и приписала заглавную «Е» напротив «завтрака», означавшую епитимью – снова никакого бекона. А затем зажгла примус, на котором стояла банка клея.
Лампа бросала желтый свет на швейную машинку на столе и ворох недоделанной одежды, и Дороти отметила, что это лишь малая часть того, что ее ожидает; а также что она невыносимо, чудовищно устала. Она забыла усталость, едва мистер Уорбертон положил ей руки на плечи, но теперь усталость навалилась на нее с удвоенной силой. И к этому примешивалось что-то еще. Дороти почувствовала себя – почти в буквальном смысле – выжатой. Стоя у стола, она вдруг испытала странное ощущение, словно в голове у нее совсем пусто, так что на несколько секунд она забыла, зачем вообще пришла в теплицу.
Затем вспомнила: ботфорты, ну конечно! Какой-то презренный бесенок прошептал ей на ухо: «Почему бы не пойти спать и оставить ботфорты до завтра?» Но она тут же прочла молитву об укреплении силы и ущипнула себя.
«Ну-ка, Дороти! Не хандри, пожалуйста. Лука, ix, 62[51 - «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, синодальный перевод.]».
Затем, расчистив место на столе, Дороти достала ножницы, карандаш и четыре листа оберточной бумаги и принялась нарезать несносные подъемы для ботфортов, пока закипал клей.
Когда напольные часы в отцовском кабинете пробили полночь, она все еще сидела за работой. Она успела вырезать оба ботфорта и укрепляла их, наклеивая сверху донизу узкие полоски бумаги – это было долгое и муторное занятие. Каждая кость ее ныла, а глаза слипались. Она едва понимала, что делает, но продолжала механически наклеивать полоску за полоской, и каждые пару минут щипала себя, чтобы не поддаваться усыпляющему шипению примуса, на котором булькал клей.
Часть вторая
1
Дороти медленно выплыла из черной бездны сна без сновидений, с ощущением, словно ее вытягивают на свет сквозь огромные толщи тьмы, слоями застилавшие ей разум.
Она лежала с закрытыми глазами. Но постепенно ее зрение привыкло к свету, и веки задрожали и поднялись. Дороти смотрела на улицу – обшарпанную, оживленную улицу с магазинчиками и узкими домами, по которой тянулись туда-сюда люди, трамваи и машины.
Хотя сказать, что она смотрела, было бы не совсем верно. Она видела перед собой людей, трамваи и машины, но не различала их как таковые; она даже не различала их как нечто, отдельное от улицы; она их просто видела. ВИДЕЛА, как видит животное, отстраненно и почти бессознательно. Уличный шум – приглушенный гомон голосов, гудки клаксонов и трели трамваев, скрежетавших по неровным рельсам, – вливался ей в уши однообразной какофонией. Она не знала слов для всего этого, не знала даже того, что есть какие-то слова, как и того, что всё это происходит в пространстве и времени. Не знала, что у нее есть тело, и вообще, что она есть.
Тем не менее постепенно ее восприятие обострялось. Поток движущихся объектов начал проникать в глубь ее глаз, разделяясь на отдельные образы у нее в уме. Она начала – всё еще бессловесно – наблюдать формы вещей. Мимо проплыла длинная вещь, шевеля под собой четырьмя тонкими вещами, а за ней тянулись угластые вещи на двух кругах. Дороти смотрела, как это плывет мимо нее, и внезапно, как бы помимо ее воли, у нее в уме вспыхнуло слово.
«ЛОШАДЬ».
Слово померкло, но вскоре вернулось в виде целого предложения: «Это была лошадь». За «лошадью» последовали другие слова – «дом», «улица», «трамвай», «машина», «велосипед», – и уже через несколько минут Дороти смогла дать имена почти всему, что видела. Найдя слова «мужчина» и «женщина» и поразмыслив над ними, она поняла разницу между одушевленными и неодушевленными вещами, и далее между людьми и лошадьми и, наконец, между мужчинами и женщинами.
И только теперь, научившись заново сознавать большинство окружавших ее вещей, она осознала себя. А до тех пор она была просто парой глаз, за которыми имелся наблюдательный, но совершенно безличный мозг. Теперь же она с изумлением обнаружила свое собственное, отдельное от всего, уникальное бытие; она смогла почувствовать его; словно бы что-то внутри нее восклицало: «Я – это я!» И вместе с тем к ней пришло понимание, что это «я» существовало неизменным с давних пор, хотя она ничего об этом не помнила.
Но это понимание, едва возникнув, принесло ей беспокойство. С самого начала она испытывала ощущение неполноты, какой-то смутной неудовлетворенности. И вот почему: «я – это я», казавшееся ответом, само сделалось вопросом. «Я – это я» незаметно превратилось в «кто я?».
Кто она такая? Она снова и снова задавалась этим вопросом, понимая, что не имеет ни малейшего представления о том, кто она такая; не считая того, что при виде людей и лошадей, двигавшихся рядом с ней, она понимала, что относится к людям, а не к лошадям. И тогда ее вопрос принял более конкретную форму: «Я мужчина или женщина?» И снова ни чувства, ни память не дали ей ответа. Но затем она невзначай скользнула пальцами по своему телу. С новой ясностью она осознала существование своего тела, того, что оно ее собственное – что это, по существу, и есть она. Она принялась обследовать свое тело руками и обнаружила у себя груди. Стало быть, она была женщиной. Только женщины с грудями. Каким-то образом она знала, не зная, откуда она это знает, что все те женщины, что шли по улице, скрывали под одеждой груди.
И тогда Дороти поняла, что ей нужно обследовать свое тело, начиная с лица, чтобы понять, кто она такая; она стала всерьез пытаться увидеть свое лицо и не сразу поняла, что это невозможно. Опустив взгляд, она увидела черное атласное платье, довольно длинное и поношенное, пару чулок телесного цвета из искусственного шелка, грязных и съехавших, и пару очень потертых атласных туфель на высоком каблуке. Ничто из этого не было ей знакомо. Она рассмотрела свои руки, и они показались ей одновременно знакомыми и незнакомыми. Это были миниатюрные руки, с грубыми и очень грязными ладонями. Вскоре она поняла, что как раз из-за грязи они казались ей незнакомыми. Сами по себе руки выглядели нормальными и правильными, просто она их не узнавала.
Поборов нерешительность, она повернула налево и медленно пошла по тротуару. Неведомым образом, откуда-то из прошлого, к ней пришло новое знание: существование зеркал, их назначение, и то обстоятельство, что зеркала часто встречаются в витринах магазинов. Вскоре она подошла к дешевому ювелирному магазинчику, в витрине которого стояло узкое зеркало, отражавшее под углом лица прохожих. Каким-то безошибочным чутьем она сразу нашла свое отражение среди множества других. Однако она не могла сказать, что узнала себя; она не помнила, чтобы когда-то раньше видела это лицо. Это было моложавое женское лицо, худощавое, белесое, с «гусиными лапками» возле глаз и немного испачканное. На голове сидела набекрень вульгарная черная шляпа-колокол, закрывавшая большую часть волос. Дороти не узнавала своего лица, и все же оно не было ей чужим. Она не знала заранее, каким оно окажется, но теперь, увидев его, она осознала, что вполне ожидала чего-то подобного. Это лицо ей подходило. Отвечало чему-то внутри нее.
Отвернувшись от зеркала в витрине, она заметила слова «Шоколад Фрая» на витрине напротив и поняла, что ей известно назначение письменности, а вслед за тем – что она умеет читать. Ее глаза обшарили улицу, выхватывая и осмысляя случайные обрывки надписей: названия магазинов, рекламу, газетные заголовки. В числе прочего ей попались два красно-белых плаката на табачной лавке. Один из них сообщал: «Свежие слухи о дочери ректора», а другой: «Дочь ректора. Уже, вероятно, в Париже». Затем Дороти подняла взгляд и увидела надпись белыми буквами на углу дома: «Нью-Кент-роуд». Эти слова захватили ее внимание. Она догадалась, что это название улицы, на которой она стоит, а также что – снова вспыхнуло у нее в уме неведомое знание – Нью-Кент-роуд находится где-то в Лондоне. Значит, вот где она.
Это открытие вызвало у нее странную дрожь во всем теле. Разум ее наконец пробудился; она осознала – впервые за все это время – странность своего положения, и это ее изумило и напугало. Что все это могло значить? Что она здесь делает? Как она сюда попала? Что с ней случилось?
Ответ не заставил себя долго ждать. У нее возникла догадка (и ей показалось, что она прекрасно понимает значение этих слов):
«Ну, конечно! Я потеряла память!»
В это же время ковылявшие мимо двое юнцов и девушка – у юнцов за плечами были несуразные холщовые вещмешки – остановились и с любопытством взглянули на Дороти. Помедлив секунду, они двинулись дальше, но снова встали через пять ярдов, под фонарем. Дороти увидела, что они поглядывают на нее и переговариваются. Один юнец – лет двадцати, щуплый румяный брюнет в замызганном щегольском синем костюме и клетчатой кепке – был хорош собой, в задиристой манере кокни. Другой – лет двадцати шести, курносый, коренастый и проворный – отличался чистой розовой кожей и рельефными, точно пара сосисок, губами, открывавшими мощные желтые зубы. Одет он был в откровенные лохмотья, а короткие ярко-рыжие волосы над низким лбом придавали ему поразительное сходство с орангутангом. Девушка – пухлявое простоватое создание – была одета почти как Дороти, до которой долетали обрывки их разговора:
– Мамзель какая-то больная, – сказала девушка.
Рыжий, напевавший мелодичным баритоном «Сонни-боя», прервал песню и сказал:
– Да не. Но на мели как пить дать. Вроде нас.
– В самый раз будет для Нобби[52 - От англ. knob – «башка», то есть башковитый.], а? – сказал брюнет.
– Я тебе! – взвилась девушка и отвесила ему воображаемый подзатыльник.
Ребята сложили свои пожитки под фонарем и несмело направились к Дороти. Первым шел, послом доброй воли, рыжий, которого, похоже, звали Нобби. Он приблизился к Дороти пружинистой, обезьяньей походкой и улыбнулся так искренне и широко, что невозможно было не улыбнуться в ответ.
– Привет, детка! – сказал он добродушно.
– Привет!
– На мели небось?
– На мели?
– Ну, ветер в карманах?
– Ветер в карманах?
– Приехали! Она – ку-ку, – пробормотала девушка, беря за руку брюнета, как бы норовя увести его.
– Ну, я, собсна, чего, детка: деньжата есть?
– Не знаю.
Троица переглянулась с тревожным видом. Очевидно, они подумали, что Дороти и правда ку-ку. Но тут она засунула руку в карман, обнаружившийся сбоку платья, и нащупала большую монету.
– У меня, похоже, пенни! – сказала она.
– Пенни! – сказал брюнет с издевкой. – Вот богатство привалило!
Дороти достала монету. Это оказались полкроны[53 - Полкроны = 2,5 шиллинга = 30 пенсов.]. На лицах друзей отразилась поразительная перемена. У Нобби отвисла челюсть от восторга; он радостно запрыгал туда-сюда по-обезьяньи, а затем остановился и доверительно тронул Дороти за руку.
– Как есть, маллигатони[54 - Маллигатони – индийский острый суп, обычно куриный; в данном случае это просто присказка Нобби.]! – сказал он. – Нам блеснула удача, как и тебе, детка, поверь мне. Ты восславила день, когда глянула в нашу сторону. Мы тебя озолотим, ей-же-ей. Теперь смотри сюда, детка: готова стакнуться с нашей троицей?
– Что? – сказала Дороти.
– Я о чем бачу: как насчет войти в долю с Фло, Чарли и мной? Партнеры будем, сечешь? Товарищами, плечом к плечу. Вместе мы сила, врозь – могила. Мы вложим мозги, ты – деньги. Ну как, детка? Ты в игре или вне игры?
– Кончай, Нобби! – вмешалась девушка. – Она ж ни слова не понимает. Не можешь, что ли, культурно с ней говорить?
– Лады, Фло, – сказал Нобби спокойно. – Ты не встревай, переговоры – дело мое. У меня подход к мамзелям, ты не думай. Значит, слухай меня, детка: ты нам имечко свое не скажешь? Как звать тебя, детка?
Дороти чуть было не ляпнула «не знаю», но спохватилась в последний момент. Выбрав одно из полудюжины женских имен, всплывших у нее в уме, она сказала:
– Эллен.
– Эллен. Как есть маллигатони. Не до фамилий, когда на мели. Ну а теперь, Эллен, радость, слухай меня. Мы втроем на хмель решили податься, сечешь…
– На хмель?
– Шмель! – вставил брюнет раздраженно, не в силах вынести такую тупость. – Хмель сбирать, под Кентом! Чё не ясно?
Его говор и манеры были не в пример грубее, чем у Нобби.
– Ах, ХМЕЛЬ! Для пива?
– Как есть маллигатони! Полный с ней порядок. Ну, детка, я чё грю, мы втроем на хмель решили податься, нам работа обещана, все путем – на ферме Блессингтона[55 - Blessington (англ.) – букв.: «благословенный»; нужно иметь это в виду, учитывая дальнейший ход событий.], в нижнем Молсворте. Тока наш маллигатони малость жидковат, сечешь? Ну, тоись поистратились мы, так шо приходится на своих двоих – тридцать пять миль пути – и хавку клянчить, и кемарить ночью на природе. А это такой себе маллигатони, когда с нами леди. Но теперь предположим, ты, для примеру, идешь с нами, сечешь? Мы бы сели на трамвай до Бромли за два пенса – итого долой пятнадцать миль, а дальше тока день пути отчапать да ночь покемарить. И можешь собирать в нашу корзину – четверо на корзину самое то – и, если Блессингтон дает два пенса за бушель[56 - Английский бушель = 36,37 л.], ты за неделю легко зашибешь свои десять гирь[57 - Сленговое обозначение шиллинга.]. Что скажешь, детка? Здесь, в Дыму[58 - Сленговое название Лондона.], ты на двушку с рыжиком[59 - Сленговое обозначение шестипенсовика.] не разгуляешься. А войдешь с нами в долю, будет тебе ночлег на месяц и кой-какой навар, а нам — рельсы до Бромли, ну и пошамать малость.
Примерно четверть этой речи осталась непонятна Дороти, и она спросила наобум:
– Пошамать?
– Ну, червячка заморить. Вижу, детка, ты недавно на мели.
– О… так, вы хотите, чтобы я пошла собирать с вами хмель, правильно?
– В точку, Эллен, радость. Ты в игре или вне игры?
– Ну хорошо, – сказала Дороти с готовностью. – Я иду.
Она решилась без всяких опасений. Конечно, будь у нее время обдумать свое положение, она, вероятно, поступила бы иначе; по всей вероятности, она бы пошла в полицейский участок и обратилась за помощью. Это был бы здравый поступок. Однако Нобби с компанией возникли в решающий миг, и Дороти, такой беспомощной, показалось вполне естественным довериться им. К тому же по неведомой ей причине ее обнадежило то, что они направлялись в Кент. Ей подумалось, что как раз в Кент ей и хочется попасть. Никто больше не проявлял дальнейшего любопытства в ее отношении, не задавал неудобных вопросов. Нобби просто сказал:
– Окей. Как есть маллигатони!
И с этими словами спокойно взял у Дороти полкроны и положил себе в карман.
– А то еще посеешь, – пояснил он.
Брюнет – его, похоже, звали Чарли – сказал в своей хмурой, хамоватой манере:
– Давайте уже, по коням! Время за два перевалило. Не хватало еще пропустить ебаный трамвай. Откуда они отходят, Нобби?
– Из Элефанта, – сказал Нобби. – И надо успеть до четырех, а то потом задарма не прокатишься.
– Давайте тогда, нечего рассусоливать. Все будет в ажуре, если докатим до самого Бромли и найдем местечко покемарить в ебучей темноте. Давай уже, Фло.
– Шагомарш! – сказал Нобби, закинув узел на плечо.
Они выдвинулись в путь без дальнейших рассуждений. Дороти, все еще чувствуя себя не в своей тарелке, но гораздо лучше, чем полчаса назад, шла позади Фло и Чарли, общавшихся между собой, не замечая ее. С самого начала они не прониклись к Дороти; охотно присвоив ее полкроны, они не спешили выказывать ей дружеских чувств. Нобби шел впереди, бодро печатая шаг, несмотря на внушительную ношу, да еще задорно пел, пародируя известную армейскую песню в такой похабной манере, что единственными печатными словами были:
– … …..! … …..! Вот и весь репертуар. … …..! … …..! И того же вам!
2
Было двадцать девятое августа. Сон сморил Дороти в теплице двадцать первого; из чего следует, что в ее жизни образовался пробел в восемь дней.
Случившееся с ней было не так уж необычно – едва ли проходит неделя, чтобы в газетах не появилось сообщение о чем-то подобном. Человек пропадает из дома, отсутствует несколько дней или недель, а затем обращается в полицию или в больницу, не имея ни малейшего понятия, кто он и откуда. Установить, как он провел прошедшее время, как правило, не представляется возможным; по всей вероятности, он блуждал, не вполне сознавая себя, как во сне или гипнозе, но сохраняя подобие нормальности. В случае Дороти наверняка можно сказать только одно: в какой-то момент она сделалась жертвой ограбления, поскольку лишилась золотого крестика и носила не свою одежду.
Она уже почти пришла в себя, когда к ней обратился Нобби; при должном обращении ее память могла бы восстановиться в течение нескольких дней, если не часов. Для этого потребовалось бы совсем немного: случайная встреча с другом, фотография родного дома, несколько правильных вопросов. Но случилось то, что случилось, и ее разум не получил нужного стимула. Она осталась в промежуточном состоянии только что проснувшегося человека – умственная деятельность была практически в норме, но ее личность скрывалась в тумане.
Естественно, что, едва Дороти связалась с Нобби и компанией, любая попытка самоанализа терпела неудачу. Некогда было присесть и все обдумать – некогда разложить проблему по полочкам и найти решение. В том мире «деклассированных элементов», в который она ненароком попала, никто не мог себе позволить и пяти минут связных размышлений. Дни проходили в непрестанной активности, напоминавшей бредовый сон. В самом деле, большинству людей подобное может привидеться только в кошмаре; однако этот кошмар заполняли не страсти-мордасти, а голод, холод, жара и грязь, а также постоянная усталость. Впоследствии, когда Дороти вспоминала то время, дни и ночи у нее сливались воедино, и она не могла сказать с определенностью, сколько все это продолжалось. Она только помнила, что у нее без конца болели натертые ноги и хотелось есть. Голод и натертые ноги составляли ее самые отчетливые воспоминания о том времени; а еще ночной холод и дурацкое ощущение неряшливости, возникавшее от недосыпа и отсутствия крыши над головой.
Добравшись до Бромли, они «обжили» ужасную, заваленную бумажным мусором свалку, вонявшую отходами нескольких скотобоен, и провели ночь, не давшую отдыха, в высокой влажной траве с краю сквера, укрываясь лишь своей поклажей. Утром они продолжили поход, направившись в сторону хмельников. Дороти уже тогда поняла, что история, рассказанная Нобби – о том, что им была обещана работа, – не соответствовала действительности. Он откровенно признался Дороти, что выдумал это, лишь бы завлечь ее. Единственная их надежда в плане работы состояла в том, чтобы податься в хмельные края и предлагать свои услуги на каждой ферме, пока не найдут, где еще требуются сборщики.
Им предстояло одолеть порядка тридцати пяти миль, если считать по прямой, однако на исходе третьего дня они едва достигли края хмельников. Естественно, что их продвижение замедляла потребность в еде. Если бы не поиски еды, они могли бы одолеть все это расстояние за пару дней, а то и за день. Однако все их передвижения диктовались в первую очередь чувством голода, а приближаются они к хмельникам или удаляются, заботило их постольку-поскольку. Полкроны Дороти растаяли за несколько часов, после чего им оставалось лишь попрошайничать. Но здесь их поджидал подвох. Один бедолага может довольно легко выпросить себе еду на дороге, да и двоим это несложно, но совсем другое дело, когда попрошаек четверо. В таких условиях, чтобы не помереть с голоду, каждому из них приходилось выискивать еду с упорством и целенаправленностью дикого зверя. Еда – вот что занимало все их мысли в течение трех дней, одна лишь еда, раздобыть которую было ох как непросто.
Дни напролет они попрошайничали. Они покрывали огромные расстояния, обходя вдоль и поперек деревню за деревней, и «канючили» перед мясными и бакалейными лавками, как и перед всеми более-менее зажиточными домами, мозолили глаза отдыхавшим на пикниках, махали с обочин машинам (ни одна не остановилась) и донимали старых джентльменов слезными рассказами о своих бедствиях, с жалостливой миной на лице. Часто крюк в пять миль не приносил им ничего, кроме корки хлеба или горсти мясных обрезков. Попрошайничали все, не исключая Дороти; она ведь не помнила прошлого, ей не с чем было сравнить свое положение, чтобы устыдиться. Однако, несмотря на все их усилия, они бы протянули ноги, если бы вдобавок не промышляли воровством. В сумерках и спозаранку они прочесывали сады и огороды, воруя яблоки, терн, груши, орехи, позднюю малину и, самое главное, картошку; Нобби считал за грех пройти мимо картофельного поля и не набрать хотя бы карман картошки. Это он в основном воровал, пока остальные стояли на стреме. Нобби был отчаянным вором; он гордился тем, что был готов украсть все, что плохо лежит, и если бы товарищи иной раз не сдерживали его, то все непременно угодили бы в тюрьму за соучастие. Один раз Нобби даже позарился на гуся, но тот разразился таким страшным гоготом, что Чарли с Дороти едва успели оттащить Нобби, когда на пороге дома возник хозяин.
За каждый из тех первых дней они проходили по двадцать – двадцать пять миль. Бродили по выгонам и глухим деревенькам с несусветными названиями, плутали на тропинках, терявшихся в полях, и отлеживались, восстанавливая силы, в сухих канавах, пахших фенхелем и пижмой, проникали в частные лесные угодья и «обживали» рощи, где было вдоволь хвороста для костра и речной воды, чтобы приготовить варево из всего, что удалось добыть, используя в качестве котелков две двухфунтовые банки из-под табака. Бывало, им улыбалась удача, и они пировали первоклассным рагу из бекона (выпрошенного) и цветной капусты (ворованной) или запекали в золе большущие водянистые картошки, а случалось, варили повидло из ворованной малины и жадно его поглощали, обжигая рот. Единственным, в чем они не знали недостатка, был чай. У них могло не быть ни крошки еды, но чай был всегда – крепкий, темный и бодрящий. Такую вещь, как чай, выпросить несложно. «Извините, мэм, не найдется щепотки чаю?» В подобной просьбе едва ли откажут даже черствые кентские кумушки.
Дни были удушающе жаркими, дорога блестела в раскаленном воздухе, и проезжавшие машины вздымали облака колючей пыли. Часто в этих машинах – грузовиках, заваленных мебелью, детьми, собаками и птичьими клетками, – ехали целыми семьями веселые сборщики хмеля. Ночи всегда были холодными. Едва ли в Англии найдется уголок, где после полуночи не пробирает озноб. А все постельные принадлежности наших путников состояли из двух больших вещмешков. Один мешок делили между собой Фло и Чарли, а другой был в распоряжении Дороти; Нобби спал на голой земле. Такой сон при любой погоде – сплошное мучение. Если Дороти ложилась на спину, голова без подушки запрокидывалась, вызывая ломоту в шее; а на боку нестерпимо ломило нижнее бедро. И даже когда, ближе к рассвету, удавалось забыться прерывистым сном, холод пробирал до костей. Одному только Нобби все было нипочем. Он мог спать во влажной траве, как в постели, и его грубая, обезьянья физиономия, с жидкой рыжей порослью на подбородке, похожей на медную проволоку, всегда отличалась здоровым румянцем. Он был из тех рыжих, которые словно светятся изнутри, согревая не только себя, но и воздух вокруг.
Такую жизнь, со всеми ее нелепостями и неудобствами, Дороти принимала без возражений – лишь иногда у нее мелькала смутная мысль, что ее прежняя жизнь, которой она не помнила, как-то отличалась от теперешней. Уже через пару дней она перестала досадовать на свое незавидное положение. Все невзгоды – грязь, голод и усталость, бесконечные скитания, жаркие пыльные дни и холодные бессонные ночи – она терпела молча. Так или иначе, усталость не давала ей погружаться в раздумья. К вечеру второго дня путники совершенно выбились из сил, только Нобби держался молодцом. Даже гвоздь в башмаке, царапавший ему ногу, не особо его беспокоил. А Дороти порой едва не засыпала на ходу. К тому же ей приходилось нести мешок с ворованной картошкой, поскольку двое мужчин и так несли вещмешки, а Фло отказывалась от любой ноши. Они старались иметь про запас десяток фунтов[60 - 10 фунтов = 4,5 кг.] картошки. Дороти, глядя на Нобби с Чарли, перекинула мешок через плечо, но лямка пилой врезалась ей в плоть, а мешок бил по бедру, натирая кожу, и в итоге растер до крови. Кроме того, ее хлипкие туфли очень быстро расползлись по швам. На второй день правый каблук отвалился, и Дороти захромала; но Нобби, имевший завидный опыт в таких делах, посоветовал ей оторвать и второй каблук, чтобы обе ноги были в равном положении. И все бы ничего, только при подъеме в гору голени ей скручивала боль, а по пяткам словно лупили железным прутом.
Но Фло и Чарли испытывали еще большие мучения. Бесконечные скитания не столько изматывали их, как угнетали и озлобляли. Раньше они и подумать не могли, чтобы прошагать за день двадцать миль. Оба они были из лондонской бедноты, и, хотя нищенствовали уже не первый месяц, скитаться по большой дороге им еще не приходилось. Чарли не так давно лишился хорошей работы, а Фло выгнали из дома родители, когда она пала жертвой соблазна. Эти двое познакомились с Нобби на Трафальгарской площади и согласились идти с ним на хмель, воображая, что их ждет веселое приключение. Однако, как люди, «севшие на мель» сравнительно недавно, они смотрели свысока на Нобби и Дороти. Они ценили смекалку Нобби и его воровскую удаль, но в социальном плане считали его ниже себя. Что касалось Дороти, они почти не удостаивали ее вниманием после того, как истратили ее полкроны.
Уже на второй день пути Чарли с Фло стали хандрить. Тащились позади, все время ворчали и требовали еды больше остальных. На третий день дорога их доконала. Они открыто стали ныть, что хотят назад в Лондон, и не желали слышать ни про какой хмель; то и дело они приваливались где-нибудь в теньке и жадно поглощали все съестное. После каждого такого привала стоило немалых усилий уговорить их идти дальше.
– Ну же, ребята, – говорил Нобби. – Собирай манатки, Чарли. Пора двигать.
– Ох, я заебался! – отвечал Чарли хмуро.
– Ну, здесь-то нам не место для постоя. Али как? Мы ж хотели быть до ночи в Севеноксе, забыл, что ли?
– Ох, ебал я Севенокс! Что Севенокс, что хуенокс, мне похую.