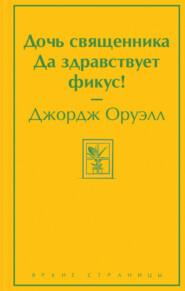скачать книгу бесплатно
– Думаю, все на столе, отец, – сказала Дороти. – Можно, пожалуй, вознести благодарность…
– Benedictus benedicat[6 - Лат. Благословение благословенное. Явный намек на яйца Бенедикт, идеальное средство от похмелья.], – сказал ректор.
Он поднял потертую серебряную крышку с блюда. Серебряная крышка, как и десертная ложечка из позолоченного серебра, была семейной реликвией; тогда как ножи и вилки вместе с большей частью посуды прибыли из «Вулворта»[7 - Универсальный магазин.].
– Снова, смотрю, бекон, – сказал ректор, глядя на три скромных ломтика, свернувшиеся на поджаренном хлебе.
– Боюсь, это все, что есть в доме, – сказала Дороти.
Ректор взял вилку двумя пальцами и осторожным движением, словно играя в бирюльки, перевернул один ломтик бекона.
– Мне, разумеется, известно, – сказал он, – что бекон на завтрак – это почти столь же древняя английская традиция, что и парламент. Но все же, Дороти, не думаешь ли ты, что мы могли бы изредка отступать от нее?
– Бекон сейчас такой дешевый, – сказала Дороти виновато. – Грех просто не купить. Этот стоил всего пять пенсов за фунт, а был и вполне приличный с виду за три.
– А, датский, полагаю? Каких только вторжений не претерпела эта страна от датчан! Сперва они лезли с огнем и мечом, теперь же – со своим кошмарным дешевым беконом. Хотел бы я знать, что повлекло за собой больше смертей?
Почувствовав себя чуть лучше после такой колкости, ректор уселся на стул и принялся с завидным аппетитом завтракать презренным беконом, пока Дороти (она этим утром не ела бекона в виде епитимьи за то, что вчера чертыхнулась и полчаса бездельничала после ланча) пыталась придумать, как бы начать разговор о деньгах.
Ей предстояла несказанно гнусная задача – потребовать больше денег. Даже в лучшие времена получить от отца денег было на грани невозможного, а этим утром он, очевидно, был более «трудным» (еще один эвфемизм Дороти в отношении отца), чем обычно. Взглянув на голубой конверт, она мрачно подумала, что это письмо принесло плохие новости.
Пожалуй, никто из тех, кому случалось пообщаться с ректором дольше десяти минут, не стал бы отрицать, что он человек «трудный». Причина его почти всегдашней желчности крылась в том обстоятельстве, что он родился не в своем веке. Он был не создан для жизни в современном мире – самый дух современности вызывал у него отторжение и отвращение. Он бы прекрасно чувствовал себя двумя веками ранее – счастливым священником с многочисленной паствой, занимавшимся стихосложением или собиранием окаменелостей, пока доверенные кураты управляли бы его приходами за 40 фунтов в год. Впрочем, он мог бы позволить себе отгородиться от двадцатого века, будь он достаточно богат. Жить во вкусе умной старины – очень дорогое удовольствие; на это требовался годовой доход порядка двух тысяч фунтов. Поэтому ректор, прикованный бедностью к веку Ленина и «Дейли мейл»[8 - Daily Mail, ежедневная английская газета, отвечающая вкусам широкой публики.], пребывал в неизменном раздражении, которое естественным образом изливал на ближайшее окружение, прежде всего на Дороти.
Он родился в 1871 году – младший сын младшего сына баронета – и избрал своим поприщем церковь, следуя старомодной традиции, определявшей младших сыновей в священнослужители. Его служение началось с обширного прихода в трущобах Восточного Лондона – своих первых прихожан, задиристых оборванцев, он вспоминал не иначе как с отвращением. Уже в те дни низшие классы (он всегда называл их так) вовсю показывали норов. Положение его несколько улучшилось, когда его назначили викарием в сельскую местность на просторах Кента (там родилась Дороти), где паства, простодушная и забитая, все еще прикладывала руку к шляпе перед «духовным лицом». Но к тому времени он успел жениться, и семейная жизнь оказалась для него сущим адом; более того, поскольку священнику не пристало «выносить сор из избы», ему приходилось держать все в себе, что усугубляло ситуацию. В Найп-Хилл он перебрался в 1908 году, в возрасте тридцати семи лет, с безнадежно испорченным характером, и довольно скоро настроил против себя всех прихожан и прихожанок, вместе с их детьми.
Нельзя было сказать, что он плохой священник. Свои чисто церковные обязанности он выполнял как нельзя лучше – пожалуй, даже слишком хорошо для прихода низкой церкви[9 - Low church, направление в англиканской церкви, отрицательно относящееся к ритуальности.] в Восточной Англии. Службы он проводил с безупречным вкусом, читал прекрасные проповеди и по средам и пятницам вставал ни свет ни заря, чтобы провести Святое Причастие. Но он никогда всерьез не задумывался о том, что священник может иметь какие-то обязанности за пределами здания церкви. Не в силах позволить себе курата, он перекладывал всю грязную работу по приходу на жену, а после того, как она умерла, в 1921 году, на Дороти. Злопыхатели поговаривали, что он бы с радостью повесил на Дороти и свои проповеди, будь такое возможно. «Низшие классы» сразу почуяли его отношение к себе, и, будь он богатым человеком, они бы, по всей вероятности, лизали ему сапоги; а так они просто его ненавидели. Однако ему не было ни малейшего дела до этого, ведь он совершенно не думал об их существовании. Но и с «высшими классами» отношения его оставляли желать лучшего. Он перессорился по очереди со всей земельной аристократией; что же касалось мелкопоместного дворянства, его он, как внук баронета, откровенно презирал. В результате за двадцать три года паства церкви Св. Этельстана сократилась с шести сотен прихожан до менее чем двух.
Впрочем, дело было не только в личных качествах ректора. Старомодное высокое англиканство, за которое он упрямо цеплялся, в некотором смысле сидело в печенках у всех прихожан. Дух времени оставлял священнику, желавшему сохранить свою паству, лишь два пути. Либо чистый и ясный (точнее, чистый и неясный) англокатолицизм[10 - Наиболее консервативное направление в англиканской церкви.], либо (для отчаянных модернистов, попиравших традиции) благодушные проповеди, утверждающие отсутствие ада и равенство всех хороших религий. Ректор не одобрял ни того ни другого. С одной стороны, он питал глубочайшее презрение к англокатолицизму. Это поветрие – он называл его «римской лихорадкой» – прошло мимо него, ничуть не затронув. С другой стороны, он был чересчур «высок» для своих старших прихожан. Время от времени он нагонял на них жути, произнося страшное слово «католики», не только в освященных традицией символах веры, но и в своих проповедях. Кроме того, паства год за годом редела естественным образом, и первыми уходили самые лучшие. Лорд Покторн из Покторн-корта, владевший пятой частью графства, мистер Ливис, отошедший от дел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюсон из Крэбтри-холла, а также мелкое дворянство, разъезжавшее в автомобилях, – все они покинули приход Св. Этельстана. Большинство из них ездили по утрам в воскресенье за пять миль, в Миллборо, городок с пятитысячным населением и двумя церквями: Св. Эдмунда и Св. Ведекинда. Первая из них была модернистской (над алтарем красовался текст «Иерусалима» Уильяма Блейка, а причастное вино подавалось в бокалах), а вторая – англокатолической и вела нескончаемую подковерную войну с епископом. Однако председатель «Консервативного клуба Найп-Хилла», мистер Кэмерон, перешел в римокатоличество, и дети его с головой окунулись в литературное движение РК. Поговаривали, что они учили своего попугая католической максиме: «Extra ecclesiam nulla salus»[11 - Лат. «Вне церкви нет спасения».]. В сущности, Св. Этельстан растерял всех своих прихожан, обладавших каким-никаким общественным положением, кроме мисс Мэйфилл из Гранджа. Большую часть своих денег она отписала церкви – так она говорила; тем не менее в ящик для пожертвований никогда не клала больше шестипенсовика, и было похоже, что она собирается жить вечно.
Первые десять минут отец и дочь завтракали в полной тишине. Дороти никак не могла набраться храбрости заговорить (несомненно, следовало завести хоть какой-нибудь разговор, прежде чем поднимать вопрос денег), но ректор был не из тех людей, кого легко вовлечь в светскую беседу. Периодически он настолько уходил в себя, что просто не слышал, когда к нему обращались; зато иногда он бывал чересчур внимателен к словам собеседника и отмечал, с досадой в голосе, что не услышал ничего достойного внимания. Вежливые банальности – такие как разговоры о погоде, – обычно вызывали у него сарказм. И все же Дороти решила начать с погоды.
– Занятный день, не правда ли? – сказала она и сразу устыдилась пошлости этих слов.
– Чем же он занятный? – спросил ректор.
– Ну, я хочу сказать, утром был такой туман и холод, а теперь солнце выглянуло и все так расцвело.
– И что же в ЭТОМ такого занятного?
Явная промашка.
«Должно быть, получил плохие новости», – подумала Дороти и предприняла новый заход:
– Заглянул бы ты хоть разок, отец, в наш огород. Стручковая фасоль так вымахала! Стручки будут больше фута. Я, конечно, собираюсь сберечь все лучшие до праздника урожая. Подумала, будет так здорово, если мы украсим кафедру гирляндами фасоли и добавим к ним несколько помидоров.
Но и это был faux pas[12 - Фр. Ложный шаг.]. Ректор поднял взгляд от тарелки с нескрываемым раздражением.
– Дорогая моя Дороти, – сказал он едко, – РАЗВЕ обязательно донимать меня праздником урожая уже сейчас?
– Прости, отец! – сказала Дороти, растерявшись. – Я не хотела донимать тебя. Просто подумала…
– Ты полагаешь, – продолжал ректор, – мне доставит удовольствие читать проповедь в окружении гирлянд стручковой фасоли? Я ведь не зеленщик. От одной мысли об этом аппетит пропадает. На какую дату намечена эта нелепица?
– На шестнадцатое сентября, отец.
– Впереди еще почти месяц. Ради всего святого, не напоминай мне больше об этом! Полагаю, мы должны устраивать эту нелепицу раз в году, чтобы потешить тщеславие каждого несчастного огородника в приходе. Но давай не будем забивать себе этим голову сверх необходимого.
Ректор испытывал (о чем не следовало забывать Дороти) крайнюю неприязнь к празднику урожая. Каковая неприязнь даже стоила ему одного ценного прихожанина (мистера Тогиса, пожилого ворчливого огородника), не стерпевшего, когда ректор сказал, что церковь в таком виде напоминает базарный ряд. Мистер Тогис, anima naturaliter Nonconformistica[13 - Лат. Душой по природе нонконформист. Отсылка к изречению Тертуллиана (ок. 160 – ок. 220)«Anima naturaliter christiana» («Душа по природе христианка»).], держался в церкви единственно ради привилегии устраивать на праздник урожая в придельном алтаре подобие Стоунхенджа из огромных кабачков и тыкв. Прошлым летом он сумел вырастить совершенно исполинскую, жгуче-рыжую тыкву, до того огромную, что ее могли поднять лишь двое человек. Эту несусветную диковину внесли в алтарную часть, и она затмила не только алтарь, но и восточный витраж. В какой бы части церкви вы ни стояли, эта тыква, фигурально выражаясь, била вас не в бровь, а в глаз. Мистер Тогис пребывал в упоении. Он слонялся в церкви с утра до вечера, не в силах оторваться от своей обожаемой тыквы, и даже приводил с собой друзей, полюбоваться ей. Казалось, он вот-вот станет декламировать «Сонет, написанный на Вестминстерском мосту» Вордсворта:
Нет зрелища пленительней!
И в ком не дрогнет дух
бесчувственно-упрямый
При виде величавой панорамы![14 - Перевод В. Левика.]
У Дороти даже затеплилась надежда, что он придет на Святое Причастие. Но ректор при виде тыквы не на шутку рассердился и велел немедленно убрать из церкви «это кошмарное нечто». Мистер Тогис, недолго думая, переметнулся в стан нонконформистов, и больше ни он, ни его отпрыски в церковь не заглядывали.
Дороти решила предпринять последнюю попытку завязать с отцом разговор.
– Мы мастерим костюмы для «Карла Первого», – сказала она, имея в виду пьесу, которую ставила церковная школа для сбора средств на орган. – Но я жалею, что мы не выбрали что-нибудь полегче. Делать доспехи – такая морока, а с ботфортами, боюсь, будет еще хуже. Думаю, в другой раз нужно будет ставить пьесу из римской или греческой истории. Чтобы ребята ходили в тогах.
Это вызвало у ректора лишь очередное ворчание. Пусть школьные пьесы, живые картины, базары, благотворительные распродажи и концерты были не так ужасны в его глазах, как праздники урожая, он все равно причислял их к «неизбежному злу» и не желал обсуждать.
Вдруг открылась дверь, и в столовую бесцеремонно вошла домработница, Эллен, придерживая передник мясистой, шелудивой рукой. Эллен была рослой девкой с покатыми плечами, пепельными волосами и жалостливым голосом и страдала от хронической экземы. Она бросила робкий взгляд на ректора, но заговорила с Дороти, боясь обращаться к ректору напрямую.
– Простите, мисс, – начала она.
– Да, Эллен?
– Простите, мисс, – повторила Эллен жалобно, – в кухне мистер Портер, говорит, не мог бы, пожалуйста, ректор прийти, покрестить младенца миссис Портер? Потому что они думают, он до завтра не дотянет, а его еще не крестили, мисс.
Дороти встала.
– Сиди, – тут же сказал ректор с набитым ртом.
– А что такое с младенцем? – сказала Дороти. – Как они думают?
– Ну, мисс, он весь почернел. И понос совсем замучил.
Ректор проглотил с усилием.
– Мне обязательно выслушивать эти мерзкие подробности за завтраком? – воскликнул он и обратился к Эллен: – Отошли Портера восвояси и скажи, я приду к нему в полдень. Право же, не пойму, почему это низшие классы вечно приходят домогаться тебя, когда ты за едой, – добавил он, бросив очередной раздраженный взгляд на Дороти, севшую на место.
Мистер Портер был рабочим – кирпичником, если точно. Ректор относился к крещению самым ответственным образом. В случае крайней необходимости он бы прошел двадцать миль по снегу, чтобы крестить умирающего младенца. Но ему не понравилось, что Дороти изъявила готовность уйти посреди завтрака ради какого-то кирпичника.
Они продолжали завтракать молча. Дороти все больше падала духом. Она должна была потребовать денег, но предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Закончив завтракать, ректор встал из-за стола и, взяв табакерку с каминной полки, принялся набивать трубку. Дороти быстро помолилась и стала понукать себя.
«Ну же, Дороти! Смелее! Пожалуйста, не трусь!»
Собрав волю в кулак, она сказала:
– Отец…
– Что такое? – сказал ректор, застыв со спичкой в руке.
– Отец, я хочу попросить тебя о чем-то. О чем-то важном.
Ректор изменился в лице. Он тут же понял, в чем дело, и, как ни странно, отнесся к этому сравнительно спокойно. Он надел маску невозмутимости, всем своим видом давая понять, что мирские заботы его не волнуют.
– Вот что, дорогая моя Дороти, я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду. Полагаю, ты снова хочешь попросить у меня денег. Верно?
– Да, отец. Потому что…
– Что ж, я избавлю тебя от объяснений. У меня совершенно нет денег – абсолютно нет никаких денег до следующего квартала. Ты получила свое жалованье, и я не могу добавить тебе ни полпенни. Совершенно бессмысленно донимать меня этим сейчас.
– Но, отец…
Дороти совсем смутилась. Ничто не угнетало ее так, как это безучастное спокойствие отца, когда она просила у него денег. Ректор ни к чему не относился с большим равнодушием, чем к напоминанию о том, что он по уши в долгах. Очевидно, ему было просто невдомек, что торговцам хочется, чтобы их услуги хотя бы иногда оплачивали, и что никакое хозяйство невозможно вести без должной суммы денег. Он выделял Дороти восемнадцать фунтов в месяц на все расходы, включая и жалованье Эллен, и в то же время был привередлив в еде, чуть что, отмечая малейшее ухудшение качества. В результате они, разумеется, не вылезали из долгов. Но ректор не придавал своим долгам ни малейшего значения – да он едва ли знал о них. Когда он сам терял деньги из-за неудачного вложения, он глубоко переживал; что же касалось торговцев, которым он был должен, – что ж, он просто не утруждал себя заботами о такой ерунде.
От трубки ректора поднялся безмятежный завиток дыма. Должно быть, он уже выбросил из головы просьбу Дороти, судя по тому, как умиротворенно рассматривал гравюру с Карлом Первым. При виде этого Дороти захлестнуло отчаяние, и к ней вернулась решимость.
– Отец, – сказала она тверже, чем прежде, – пожалуйста, послушай! Я должна получить вскорости немного денег! Просто должна! Мы не можем и дальше так продолжать. Мы задолжали едва ли не каждому торговцу в городе. Доходит до того, что мне иногда утром совестно идти по улице из-за всех этих счетов, ожидающих уплаты. Тебе известно, что мы должны Каргиллу почти двадцать два фунта?
– Что с того? – сказал ректор, выдувая дым.
– Но этот счет растет уже восьмой месяц! Он присылает его снова и снова. Мы должны заплатить! Это так несправедливо – заставлять его ждать своих денег!
– Чепуха, дитя мое! Эти люди согласны подождать своих денег. Им это нравится. В итоге они получают больше. Одному Богу известно, сколько я должен «Кэткину и Палму» – и меня это нимало не заботит. Они талдычат мне об этом с каждой почтой. Но я ведь на это не жалуюсь, не так ли?
– Но, отец, я не могу смотреть на это так, как ты, не могу! Так ужасно вечно быть в долгах! Даже если так и можно жить, это отвратительно. Мне от этого так стыдно! Когда я захожу за мясом в лавку Каргилла, он так резко отвечает мне и заставляет ждать, пока обслужит остальных, – и все потому, что мы ему никак не заплатим. А я не смею перестать ходить к нему. Думаю, иначе он обратится в полицию.
Ректор нахмурился:
– Как! Ты хочешь сказать, этот тип угрожал тебе?
– Я этого не говорила, отец. Но нельзя его винить, если он злится, когда мы не платим ему по счетам.
– Еще как можно! Просто кошмар, как эти люди стали много понимать о себе в наши дни – кошмар! В этом-то все и дело. Нам никуда от этого не деться в наш славный век. Вот она, демократия – прогресс, как им нравится это называть. Не заказывай больше у него. Скажи ему, что у тебя кредит в другом месте. С этими людьми надо только так.
– Но, отец, это не ответ. Если по-честному, разве ты не думаешь, что мы должны заплатить ему? Наверняка мы могли бы достать нужную сумму каким-нибудь образом? Не мог бы ты продать немного акций или еще чего-нибудь?
– Дитя мое, не говори мне о продаже акций! Я только что получил самые неутешительные вести от моего брокера. Он пишет, что мои акции «Суматры-жесть» упали в цене с семи фунтов четырех пенсов до шести и одного. Это значит, я потерял почти шестьдесят фунтов. Я велю ему продать весь пакет, пока еще не поздно.
– Значит, если ты их продашь, у тебя появятся наличные, так ведь? Ты не думаешь, что будет лучше разом рассчитаться с долгами?
– Чепуха, чепуха, – сказал ректор чуть спокойнее и снова закусил мундштук. – Ты в этих делах ничего не смыслишь. Мне придется тут же их снова вложить во что-нибудь понадежней – это единственный способ вернуть мои деньги.
Засунув большой палец за пояс рясы, он устремил хмурый взгляд на гравюру. Брокер советовал ему «Объединение Целаниз». В сущности, в этих компаниях – таких как «Суматра-жесть», «Объединение Целаниз» и множество других, разбросанных по всему миру, – и заключалась главная причина денежных затруднений ректора. Он был заядлым игроком. Нет, он, конечно же, не думал об этом в такой перспективе; он считал, что просто-напросто занят поисками «хорошего вложения». Войдя в возраст, он унаследовал четыре тысячи фунтов, которые постепенно сократились, благодаря его «вложениям», примерно до двенадцати сотен. А еще печальней было то, что каждый год он умудрялся наскрести полсотни фунтов со своего мизерного дохода, но и они пропадали в той же воронке. Любопытное дело, но в ловушку «хорошего вложения» духовенство, похоже, попадает чаще прочих категорий граждан. Возможно, эта напасть представляет собой современный эквивалент демонов-суккубов, изводивших анахоретов Темных веков.
– Я куплю пятьсот акций «Объединения Целаниз», – сказал наконец ректор.
Дороти стала терять надежду. Отец теперь погрузился в мысли о своих «вложениях» (Дороти ничего о них не знала, кроме того, что они с поразительной регулярностью приносили убытки), и не пройдет и минуты, как вопрос долгов совершенно выветрится у него из головы. Она предприняла последнюю попытку:
– Отец, прошу тебя, давай уладим это дело. Как думаешь, ты сможешь выдать мне некоторую сумму в ближайшее время? Не прямо сейчас, но, возможно… через месяц-другой?
– Нет, дорогая, не смогу. Ближе к Рождеству, возможно, да, и то маловероятно. Но пока что никак не могу. У меня нет ни полпенни на лишние расходы.
– Но, отец, это так ужасно – чувствовать, что мы не можем расплатиться по долгам! Это же нас бесчестит! Прошлый раз, когда приезжал мистер Уэлвин-Фостер (мистер Уэлвин-Фостер был окружным деканом), миссис Уэлвин-Фостер по всему городу наводила о нас справки самого личного свойства: как мы проводим время, и сколько у нас денег, и сколько тонн угля мы сжигаем за год, и все такое. Она вечно разнюхивает наши дела. Что, если она выяснит, что мы увязли в долгах!
– Уж конечно, это наше личное дело? Я совершенно не понимаю, какое отношение имеет к этому миссис Уэлвин-Фостер или кто бы то ни было?
– Но она растрезвонит это повсюду – и к тому же все раздует! Ты же знаешь миссис Уэлвин-Фостер. В какой приход она ни приедет, она норовит выяснить что-нибудь, порочащее местное духовенство, а потом все докладывает епископу. Я не хочу осуждать ее, но, в самом деле…
Дороти поняла, что хочет осудить ее, и смолкла.
– Она гадкая женщина, – сказал ректор ровно. – Что с того? Разве жены окружных деканов бывают другими?
– Но, отец, я, похоже, не в силах донести до тебя, как плачевно наше положение! Нам просто не на что жить ближайший месяц. Я даже не знаю, где достать сегодня мяса на обед.
– Ланч, Дороти, ланч! – сказал ректор с легким раздражением. – Я бы хотел, чтобы ты бросила эту кошмарную привычку низших классов называть дневную трапезу обедом!
– Хорошо, на ланч. Откуда мы достанем мясо? Обращаться к Каргиллу я уже не смею.
– Пойди к другому мяснику – как его, Солтеру – и забудь про Каргилла. Он знает, что ему заплатят рано или поздно. Боже правый, я не понимаю, к чему вообще вся эта мышиная возня! Разве не все должны своим поставщикам? Я отчетливо помню, – на этих словах ректор чуть расправил плечи и, взяв трубку в рот, устремил взгляд вдаль и продолжил более спокойным, ностальгическим тоном, – помню, когда я был в Оксфорде, мой отец еще не расплатился по своим оксфордским счетам тридцатилетней давности. А Том (это был кузен ректора, баронет) набрал долгов на семь тысяч, прежде чем получил свои деньги. Он сам мне это говорил.
Последняя надежда Дороти иссякла. Когда отец заводил речь о кузене Томе или произносил слова «когда я был в Оксфорде», до него уже невозможно было достучаться. Он ускользал в воображаемый золотой век, где не было места таким низменным материям, как счет от мясника. Казалось, он нередко забывал – и не спешил вспоминать – о том, что он всего лишь обедневший провинциальный ректор, а не отпрыск знатной фамилии, претендующий на наследство. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, в нем всегда брал верх расточительный аристократический дух. И, конечно, пока жизнь его, не лишенная приятностей, протекала в воображаемом мире, не кому иному, как Дороти, приходилось бороться с кредиторами и растягивать баранью ногу с воскресенья до среды. Но она прекрасно понимала, что спорить с ним дальше бессмысленно – это могло лишь рассердить его. Встав из-за стола, она принялась собирать посуду на поднос.
– Ты совершенно уверен, отец, что не можешь выдать мне никаких денег? – сказала она, остановившись в дверях с подносом в руках.
Ректор – он сидел в клубах дыма, устремив взгляд вдаль, – ничего ей не ответил. Вероятно, мысли его блуждали в золотых оксфордских деньках его молодости. Дороти вышла из комнаты в смятении, с трудом сдерживая слезы. Несносный вопрос долгов снова был отложен в долгий ящик, как и тысячу раз до того, и конца-краю этому не виделось.
3
Дороти катилась с холма на своем стареньком велосипеде, с плетеной корзинкой на руле, и подсчитывала в уме, как растянуть три фунта девятнадцать шиллингов и четыре пенса – всю оставшуюся сумму – до следующего квартала.
Перед выходом она просмотрела список продуктов, которых не хватало на кухне. Хотя проще было сказать, чего там хватало. Что ни возьми – чай, кофе, мыло, спички, свечи, сахар, чечевицу, растопку, соду, ламповое масло, крем для обуви, маргарин, пекарный порошок – все было на исходе. И то и дело Дороти с досадой вспоминала что-нибудь еще. Хотя бы счет из прачечной или кончавшийся уголь, а еще нужно было определиться с рыбой на пятницу. Ректор отличался «трудным» отношением к рыбе. Проще говоря, он признавал только дорогие сорта; ни трески, ни хека, ни шпрот, ни ската, ни сельди, ни копченого лосося он не ел.
Но прежде всего Дороти заботил вопрос мяса на сегодняшний обед – в смысле, ланч. (Она старалась не раздражать отца и называла обед ланчем. Хотя вечерний прием пищи она не могла называть иначе как «ужином»; получалось, что для ректора не существовало такого понятия, как «обед».) Дороти решила, что на ланч у них будет омлет. Она не смела обратиться к Каргиллу. Однако, если на ланч у них будет омлет, а на ужин – яичница, отец, вне всякого сомнения, не преминет отпустить саркастическое замечание. В прошлый раз, когда она подала ему яйца второй раз за день, он холодно произнес: «Ты, никак, открыла птицеферму, Дороти?» Что ж, завтра она, пожалуй, возьмет два фунта сосисок в «Международном», так что на ближайшие сутки мясной вопрос можно было считать решенным.
А впереди грозно выстроились еще тридцать девять дней, и Дороти поминутно отгоняла чувство жалости к себе, накатывавшее при мысли о трех фунтах девятнадцати шиллингах и четырех пенсах.
«Ну же, Дороти! Пожалуйста, не надо ныть! Положись на Бога, и все как-нибудь выправится. Матфей, vi, 25[15 - «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Евангелие от Матфея, синодальный перевод.]. Господь о тебе позаботится. Правда ведь?»
Дороти сняла с руля правую руку и нащупала булавку, но кощунственная мысль отступила. В тот же момент она заметила на обочине хмурого Проггетта с красной физиономией, подзывавшего ее с уважительным, но тревожным видом.
Дороти затормозила и спешилась.
– Прощения, мисс, – сказал Проггетт. – Все хотел перемолвиться с вами, мисс… особливо.
Дороти внутренне подобралась. Когда Проггетт хотел перемолвиться с ней особливо, можно было не сомневаться, что за этим последуют сокрушения о плачевном состоянии церкви. Проггетт был неисправимым пессимистом и ревностным прихожанином, весьма набожным, на свой лад. Не имея, по слабости ума, устойчивых религиозных убеждений, он выказывал свою набожность неусыпной тревогой о состоянии церковных построек. Он давно для себя решил, что Церковь Христова – это действительные стены, кровля и башня Св. Этельстана, и с утра до вечера слонялся вокруг церкви, мрачно подмечая то трещину в камне, то трухлявую балку, чтобы затем, ясное дело, донимать Дороти призывами к ремонту, требовавшему немыслимых денег.