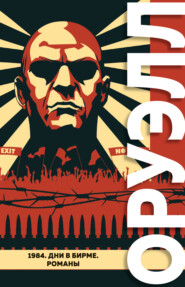скачать книгу бесплатно
А Олд-Бейли, ох, сердит:
Возвращай должок! – гудит.
Что там дальше, не помню. Но конец, будь уверен, такой: «Вот зажгу я пару свеч – ты в постельку можешь лечь; вот возьму я острый меч – и головка твоя с плеч!»
Это прозвучало как пароль и отзыв. Но после «Олд-Бейли» должна была быть еще строчка. Возможно, удастся вытянуть ее из памяти мистера Чаррингтона, если должным образом его мотивировать.
– Кто тебя научил? – спросил он.
– Дедушка. Рассказывал мне стишки, когда я была совсем маленькой. Его испарили, когда мне было восемь… Так или иначе он исчез. Интересно, как выглядят апельсины? – добавила она неожиданно. – Лимоны я видела. Желтые такие, с пимпочкой.
– Я тоже помню лимоны, – сказал Уинстон. – В пятидесятые их было немало. Кислющие такие: только понюхаешь, уже зубы сводит.
– Спорим, в этой картине клопы? – продолжила Джулия. – Я сниму ее и как-нибудь почищу хорошенько. Похоже, нам уже скоро пора. Надо мне смывать краску. Вот тоска! А потом сотру помаду с твоего лица.
Уинстон повалялся еще несколько минут. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал всматриваться в пресс-папье. Его бесконечно притягивал не коралл, а сама внутренность стекла. В нем виднелась такая глубина и вместе с тем воздушная прозрачность. Словно бы поверхность стекла была небесным сводом, заключавшим в себе крохотный мир со своей атмосферой. И ему чудилось, что он мог попасть туда, что он уже там вместе с этой старинной кроватью, и раскладным столиком, и часами, и гравюрой, и самим этим пресс-папье. Игрушка представляла собой эту комнату, а коралл – их с Джулией жизнь, как бы в вечности замершую в сердце этого кристалла.
V
Исчез Сайм. Однажды утром он просто не вышел на работу; кое-кто беспечно высказался о его отсутствии. На следующий день никто о нем не вспоминал. На третий день Уинстон вышел в вестибюль Отдела документации и взглянул на доску объявлений. В числе прочего там висел напечатанный список членов Шахматного комитета, в котором состоял Сайм. Список был почти как раньше – никаких исправлений, – только стал короче на одну фамилию. Все ясно. Сайма больше не было; его никогда не было.
Жара держалась удушающая. В министерских лабиринтах, в комнатах без окон, кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улицах тротуары обжигали ноги, а в метро в часы пик было не продохнуть. Подготовка к Неделе Ненависти шла полным ходом, и сотрудники всех министерств работали сверхурочно. Демонстрации, митинги, военные парады, лекции, восковые муляжи, выставки, кинопоказы, телепрограммы – все это требовало организации; надо было возвести трибуны, смонтировать статуи, составить лозунги, написать песни, запустить слухи, подделать фотографии. Бригаду Джулии в Художественном отделе перебросили с производства романов на брошюры о вражеских зверствах. Уинстон, помимо своей обычной работы, каждый день подолгу прочесывал подшивки «Таймс», изменяя и приукрашивая сводки новостей, которые предназначались для зачитывания на докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили шумные толпы пролов, город словно лихорадило. Бомбы с ракетными ускорителями сыпались чаще обычного, а иногда вдалеке громыхали чудовищные взрывы, источник которых никто не мог объяснить, что порождало дикие слухи.
Телеэкраны бесконечно крутили новую музыкальную тему Недели Ненависти – Песню Ненависти, как ее называли. Лающий варварский ритм заслуживал определения музыки не больше, чем барабанный бой. Когда Песню Ненависти орали сотни глоток под стройный топот, становилось страшно. Пролы приняли ее на ура, так что она потеснила на ночных улицах все еще популярную «Давно уж нет мечтаний». Дети Парсонсов исполняли Песню Ненависти в любой час дня и ночи, чудовищно аккомпанируя себе на расческах. Уинстон по вечерам был загружен, как никогда. Бригады добровольцев под руководством Парсонса готовили улицу к Неделе Ненависти: шили знамена, рисовали плакаты, укрепляли флагштоки на крышах и, рискуя жизнью, натягивали проволоку через улицу для вывешивания лент с лозунгами. Парсонс хвастался, что только на флаги и транспаранты для жилкомплекса «Победа» пошло четыреста метров материи. Он попал в свою стихию и был счастлив как ребенок. Жара и ручной труд давали ему повод щеголять по вечерам в шортах и рубашке с короткими рукавами. Он рыскал всегда и всюду: что-то толкал, что-то тянул, пилил, прибивал, изобретал, всех веселил и по-товарищески подбадривал, и все поры его тела источали, похоже, нескончаемые запасы едкого пота.
Неожиданно по всему Лондону расклеили новый плакат. Никаких надписей, лишь гигантская чудовищная фигура евразийского солдата в три-четыре метра высотой, который шагал вперед с непроницаемым монгольским лицом, в огромных сапогах, с автоматом наперевес. Откуда бы ты ни смотрел на плакат, дуло автомата диаметром с артиллерийскую пушку всегда было направлено прямо на тебя. Плакаты висели везде, где только можно, численно превзойдя даже портреты Большого Брата. Обычно равнодушных к войне пролов взнуздывали до очередного припадка патриотизма. И будто в унисон общему настрою, бомбы стали убивать людей в небывалых количествах. Одна из них угодила в переполненный кинотеатр в Степни, похоронив под развалинами несколько сотен человек. Все население прилегающих кварталов вышло на похороны; они длились несколько часов и переросли в митинг протеста. Другая бомба разорвалась на пустыре с детской площадкой, и несколько десятков детей разорвало в клочья. Последовали новые гневные демонстрации, сожгли чучело Голдштейна, сорвали со стен и уничтожили в пламени сотни плакатов с евразийским солдатом; в общей суматохе разграбили несколько магазинов. Потом разнесся слух, что шпионы наводят бомбы при помощи радиоволн; кто-то поджег дом пожилой четы, заподозренной в иностранном происхождении, и старики задохнулись в дыму.
В комнате над лавкой мистера Чаррингтона, когда им удавалось туда выбраться, Джулия с Уинстоном лежали голышом бок о бок и прохлаждались в постели у открытого окна. Крыса больше не показывалась, хотя клопы в жару размножились в страшных количествах. Но парочке было все равно. Грязной или чистой, эта комната стала раем. Едва войдя, они посыпали все вокруг перцем, купленным на черном рынке, срывали одежду и, потные, предавались любви; потом они засыпали, а проснувшись, обнаруживали, что клопы снова сплотились и стягиваются для контратаки.
Четыре, пять, шесть… семь раз они встречались в течение июня. Уинстон бросил привычку пить джин в любое время дня. У него как будто пропала сама потребность. Он набрал вес, варикозная язва уменьшилась, оставив только коричневое пятно над щиколоткой, прекратились приступы кашля по утрам. Жизнь перестала казаться невыносимой, ему больше не хотелось строить рожи телеэкрану или орать во весь голос ругательства. Теперь, когда у них было надежное укрытие, почти свой дом, ему не казалось таким уж лишением, что они могут встречаться лишь изредка и всего на пару часов. Важно было, что у них имелась сама эта комната. Знать о ее существовании только для них одних было почти то же самое, что находиться в ней. Эта комната стала отдельным миром, заповедником прошлого, где водились вымершие животные. Уинстон причислял к ним мистера Чаррингтона. Обычно по пути в комнату он останавливался поболтать с хозяином. Старик, похоже, редко выходил из дома, если вообще выходил, и в лавку к нему почти никто не заглядывал. Его призрачное бытие протекало между крохотной темной лавкой и еще более тесной кухонькой, где он готовил себе еду и где среди прочих вещей стоял немыслимо древний граммофон с огромным раструбом. Казалось, старик всегда был рад поболтать. Длинноносый и сутулый, в толстых очках и бархатном пиджаке, он слонялся среди своих никчемных залежей, похожий больше на коллекционера, чем на торговца. Он трогал с увядшим воодушевлением какую-нибудь безделушку – фарфоровую затычку для бутылки, разрисованную крышку от сломанной табакерки, позолоченный медальон с прядью неведомого и давно умершего ребенка – и предлагал Уинстону не купить ее, а просто полюбоваться. Речь его напоминала мелодию давно изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько обрывков забытых стишков. Один был про птиц в пироге, другой про криворогую корову, а еще один про смерть снегиря. «Просто подумалось, вам может быть интересно», – говорил он с неловким смешком перед тем, как озвучить очередной фрагмент. Но ни в одном стишке он не мог припомнить больше двух-трех строк.
Уинстон с Джулией понимали – точнее, постоянно помнили, – что такое положение вещей не может длиться долго. Бывало, что грядущая смерть казалась им такой же ощутимой, как и кровать, на которой они лежали. Тогда они прижимались друг к другу со страстью обреченных, как пропащая душа хватает последние крохи наслаждения за миг до Страшного суда. Но в другие дни они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Во всяком случае, пока они находились в комнате, им казалось, что ничего плохого с ними не случится. Путь до убежища был трудным и опасным, но сама комната стала неприкосновенным святилищем. Похожее чувство Уинстон испытывал, вглядываясь в пресс-папье. Тогда ему чудилось, что он сейчас окажется в самой сердцевине стеклянного мира и время замрет. Часто они предавались грезам о спасении. Удача никогда их не покинет, и они продолжат все так же встречаться тайком до самой старости. Или Кэтрин умрет, и Уинстон с Джулией с помощью разнообразных ухищрений смогут пожениться. Или они совершат двойное самоубийство. Или скроются: изменят внешность, освоят пролетарский диалект, устроятся работать на фабрику и будут жить, никем не узнанные, на задворках. Но оба понимали, что все это чепуха. В действительности спасения не было. Единственный реально выполнимый план – самоубийство – они не спешили приводить в исполнение. Казалось, непобедимый инстинкт велел им день за днем и неделю за неделей существовать в подвешенном состоянии, растягивая настоящее, у которого нет будущего – так легкие всегда делают следующий вдох, пока еще есть воздух.
Иногда они говорили об участии в активном сопротивлении Партии, хотя совершенно не представляли, с чего нужно начинать. Даже если мифическое Братство действительно существует, как найти к нему дорогу? Уинстон рассказал Джулии о странной близости, возникшей (возникшей ли?) между ним и О’Брайеном, что иногда его так и тянет пойти к О’Брайену, признаться в противостоянии Партии и попросить о помощи. Как ни странно, Джулия не посчитала это несусветной глупостью. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, когда по мимолетному взгляду О’Брайена Уинстон сумел понять, что тот заслуживает доверия. Более того, она считала само собой разумеющимся, что втайне все или почти все ненавидят Партию и норовят при любой возможности нарушить ее правила. Но она не верила в существование – и даже в саму возможность существования – разветвленной и организованной оппозиции. Джулия считала, что россказни о Голдштейне и его подпольной армии Партия выдумала в собственных интересах и всем приходится притворяться, что они верят в эту чушь. На бессчетных партийных собраниях и стихийных демонстрациях она изо всех сил вопила, требуя смертной казни для людей, чьи имена впервые слышала и в чьи преступления ничуть не верила. Когда шли публичные процессы, она всегда стояла в отрядах Юношеской лиги, с утра до ночи окружавших здание суда и скандировавших: «Смерть предателям!» На Двухминутках Ненависти она громче всех выкрикивала разные оскорбления в адрес Голдштейна. Однако у нее было весьма смутное представление о том, кто это такой и в чем суть его учения. Она выросла после Революции и не могла помнить идеологических баталий пятидесятых и шестидесятых годов. Такое явление, как независимое политическое движение, лежало за гранью ее понимания. В любом случае Партия непобедима. Партия будет всегда и никогда не изменится. Противиться ей можно лишь тайным неповиновением или, самое большее, отдельными актами террора: кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать.
В некоторых отношениях она была проницательнее Уинстона и менее подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда Уинстон между делом упомянул войну с Евразией, Джулия небрежно заметила, весьма его изумив, что никакой войны, по ее мнению, не было и нет. А бомбы, которые каждый день падают на Лондон, скорее всего запускаются по приказу правительства Океании, «чтобы держать людей в страхе». Уинстону подобная мысль никогда не приходила в голову. Один раз он даже позавидовал Джулии, когда она призналась, что на Двухминутках Ненависти ей стоит больших усилий не расхохотаться. Но учение Партии она подвергала сомнению только в тех случаях, когда оно напрямую задевало ее интересы. Зачастую она была готова принять официальный миф просто потому, что ей было неважно, правда это или ложь. Например, она верила, что Партия, как учили в школе, изобрела самолет. (Уинстон помнил, что в пятидесятые, когда он был школьником, утверждали, что Партия изобрела лишь вертолет; через десяток лет в школьные годы Джулии стали уже говорить о самолетах; еще через поколение, подумал Уинстон, Партии припишут изобретение паровоза.) Когда он рассказал Джулии, что самолет изобрели до его рождения и задолго до Революции, ее это нисколько не заинтересовало. Впрочем, какая разница, кто изобрел самолет? Больше его поразило, что Джулия совершенно не помнила, как четыре года назад Океания воевала против Остазии и была в мире с Евразией. Правда, Джулия и саму войну считала аферой, так что какое ей было дело до смены противника. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», – призналась она рассеянно. Это его слегка испугало. Пусть самолеты изобрели за много лет до ее рождения, но военный противник сменился всего четыре года назад, когда она была уже взрослой. Он растолковывал ей все это минут пятнадцать. С трудом она припомнила, что вроде бы когда-то врагом действительно была Остазия, а не Евразия. Но это все равно казалось ей неважным. «Ну и что? – сказала она раздраженно. – Всегда идут эти чертовы войны, и все слова о них – сплошное вранье».
Иногда он рассказывал ей об Отделе документации, о возмутительных подлогах, которыми он занимался. Но это, похоже, не ужасало ее. Пропасть не разверзалась у нее под ногами при мысли, что ложь становится правдой. Он рассказал ей про Джонса, Аронсона и Рузерфорда, как в руки ему случайно попал обрывок газеты. Это не произвело на нее особого впечатления. Джулия просто не уловила смысла истории.
– Они были твоими друзьями? – спросила она.
– Нет, мы не были знакомы. Они были членами Внутренней Партии. К тому же гораздо старше меня. Они из прежних времен, до Революции. Я едва знал их в лицо.
– Тогда о чем переживать? Людей все время убивают, разве нет?
Он попытался ей объяснить:
– Это исключительный случай. Здесь вопрос не в том, что кого-то убили. Ты сознаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего, фактически отменено? Если оно где и сохранилось, то только в материальных предметах, к которым не привязаны слова – вроде этой стеклянной штуки. Мы и так уже почти ничего не знаем ни о Революции, ни о времени до нее. Все записи уничтожены или подделаны, каждая книга переписана, каждая картина тоже, каждая статуя, и улица, и здание переименованы, все даты передвинуты. И этот процесс не прекращается ни на день, ни на минуту. История закончилась. Нет больше ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия всегда права. Я-то знаю, что прошлое подделано, но никогда не смогу этого доказать, даже если сам занимаюсь фальсификацией. Когда дело сделано, не остается никаких свидетельств. Единственное доказательство у меня в голове, но нет никакой уверенности, что кто-то еще помнит то же самое. Только тогда, в первый и последний раз за всю мою жизнь, я держал в руках действительное надежное доказательство события, годы спустя после его завершения.
– И что толку?
– Толку никакого, потому что я его выбросил через несколько минут. Но если бы такое случилось сегодня, я бы оставил.
– А я бы нет, – сказала Джулия. – Я готова рисковать, но только ради чего-то стоящего, не за клочок старой газеты. Что бы ты с ним сделал, даже если бы оставил?
– Мало что, наверное. Но это было доказательство. Оно могло бы посеять в ком-то сомнения, если бы я осмелился кому-нибудь его показать. Я вовсе не ожидаю, что мы способны хоть что-нибудь изменить при нашей жизни. Но можно представить, как в разных местах возникнут крохотные очаги сопротивления – группки сплоченных вместе людей, – как они постепенно будут расти и, может, даже оставят какие-то записи, чтобы следующее поколение продолжило нашу борьбу.
– Милый, меня не волнует следующее поколение. Только мы.
– Ты бунтарка только ниже пояса, – сказал он.
Эта фраза показалась ей невероятно остроумной, и девушка в восторге его обняла.
Хитросплетения партийной идеологии совершенно не увлекали ее. Стоило ему заговорить о принципах Ангсоца, о двоемыслии, о мутациях прошлого и отрицании объективной реальности, вставляя при этом слова новояза, как Джулия начинала скучать и кукситься. Она утверждала, что никогда не придавала значения таким вещам. Если ты знаешь, что все это чушь, зачем переживать о ней? Она знала, когда кричать «ура», а когда улюлюкать, и этого ей хватало. Если же он продолжал рассуждать, то она обычно засыпала, приводя его в замешательство. Джулия была из тех людей, которые могут заснуть в любое время и в любой позе. Из разговоров с ней он понял, как легко притворяться идейным, не имея никаких понятий о самих идеях. В каком-то смысле партийное мировоззрение успешнее всего прививалось тем, кто был не в состоянии его осознать. Таким людям можно внушить самые вопиющие искажения реальности, поскольку они не могут охватить всего масштаба этих искажений и не настолько вникают в общественные события, чтобы заметить происходящее. Этот недостаток понимания защищает их от безумия. Они просто заглатывают все подряд, и это не приносит им вреда, потому что не усваивается, подобно тому, как кукурузное зернышко, проглоченное птицей, выходит из нее непереваренным.
VI
Наконец, это случилось. Пришла долгожданная весть. Ему показалось, что вся его жизнь проходила в ожидании этого момента.
Он шел длинным коридором по министерству рядом с тем местом, где Джулия передала ему записку, и вдруг почувствовал, как за ним следует какая-то крупная фигура. Этот некто деликатно кашлянул, видимо, намереваясь с ним заговорить. Уинстон замер и обернулся. Это был О’Брайен.
Наконец, они оказались лицом к лицу, и Уинстону вдруг захотелось броситься наутек. Сердце его выпрыгивало из груди. Он понял, что не сможет заговорить. Однако О’Брайен, продолжая идти в прежнем темпе, по-дружески тронул Уинстона за руку, и они пошли рядом. О’Брайен заговорил в своей неизменно учтивой манере, отличавшей его от большинства членов Внутренней Партии.
– Я питал надежду пообщаться с вами, – сказал он. – Читал намедни в «Таймс» одну из ваших новоязовских статей. У вас, я полагаю, научный интерес к новоязу?
Уинстон сумел отчасти взять себя в руки.
– Едва ли научный, – ответил он. – В сущности, я дилетант. Это не моя специальность. Я не имею отношения к практической разработке языка.
– Но пишете вы на нем весьма элегантно, – сказал О’Брайен. – Это не только мое мнение. Я недавно говорил с одним вашим другом, несомненно, специалистом. Имя его как-то выскользнуло у меня из памяти.
И снова сердце Уинстона болезненно подпрыгнуло. Не могло быть сомнений, что он ссылался на Сайма. Но Сайм был не просто мертв – отменен, испарен, превращен в нелицо. Всякий более-менее прозрачный намек на него смертельно опасен. Очевидно, замечание О’Брайена было не чем иным, как сигналом или паролем. Разыграв при Уинстоне эту маленькую мыслефелонию, он признал его своим сообщником. Они все так же неспешно шагали по коридору, но тут О’Брайен остановился. Он поправил очки тем занятным жестом, всегда внушавшим дружеское расположение, и сказал:
– Собственно, я вот что хотел сказать: в вашей статье, как я заметил, вы использовали два слова, которые успели устареть. Но устарели они совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря новояза?
– Нет, – сказал Уинстон. – Я полагал, что оно еще не вышло. Мы в Отделе документации все еще пользуемся девятым.
– Десятое издание должно выйти, насколько я знаю, не ранее чем через несколько месяцев. Но несколько сигнальных экземпляров уже разосланы куда надо. Один есть у меня. Вероятно, вам было бы интересно взглянуть?
– Очень даже, – подтвердил Уинстон, тут же смекнув, куда он клонит.
– Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение числа глаголов… Думаю, этот момент вам понравится. Давайте подумаем: направить вам словарь с нарочным? Боюсь, я до крайности забывчив в таких вещах. Пожалуй, вы могли бы заглянуть ко мне домой в любое удобное время. Погодите. Сейчас дам вам адрес.
Они стояли у телеэкрана. О’Брайен с рассеянным видом ощупал два кармана и достал кожаный блокнотик и позолоченный карандаш. У самого телеэкрана, под таким углом, что всякий наблюдающий с той стороны мог бы все прочитать, он вывел адрес, вырвал страничку и отдал Уинстону.
– Обычно я дома по вечерам, – сказал он. – Если меня не окажется на месте, словарь вам отдаст слуга.
И он пошел дальше, оставив Уинстона стоять с бумажкой в руке, которую на этот раз скрывать не было надобности. Тем не менее он тщательно заучил адрес и несколькими часами позже выбросил записку в провал памяти вместе с другими бумагами.
Они говорили от силы пару минут. Их встреча могла иметь только одно значение. Она была устроена, чтобы Уинстон смог узнать адрес О’Брайена. Необходимая вещь, ведь узнать, где живет человек, можно было только с помощью прямого вопроса. Адреса людей нигде не значились. «Если вам захочется меня увидеть, вы найдете меня там-то» – вот что донес до него О’Брайен. Возможно, Уинстон даже найдет записку, спрятанную в словаре. Во всяком случае, одно несомненно. Заговор, которым он грезил, действительно существовал, и он приблизился к нему вплотную.
Он понимал, что рано или поздно явится на зов О’Брайена. Возможно, завтра, возможно, не скоро – оставалось только гадать. Происходящее сейчас логически следовало из процесса, который начался за годы до того. Первым шагом стала тайная неотступная мысль, вторым – дневник. Уинстон перешел сперва от мысли к слову, а теперь от слова – к делу. Последний шаг будет сделан в Министерстве любви. Он смирился с этим. Конец содержался уже в начале. Но это страшило Уинстона, как пугает предсказание смерти, словно бы умаляя в тебе чувство жизни. Даже при разговоре с О’Брайеном, когда до него дошел смысл услышанного, его прошиб озноб и дрожь прошла по всему телу. Он словно бы вступил в сырую могилу. И хотя он всегда знал, что могила поджидает его где-то рядом, легче ему от этого не стало.
VII
Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно прильнула к нему и пролепетала что-то вроде: «Что случилось»?
– Сон приснился, – признался он и осекся.
Слишком сложно было выразить словами. С этим сном было связано одно воспоминание, всплывшее в памяти, едва он проснулся.
Он снова лег на спину и закрыл глаза, все еще пропитанный атмосферой сновидения. Сон был обширный, лучезарный, и казалось, вся его жизнь раскинулась там, точно пейзаж летним вечером после дождя. Сон разворачивался внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была небосводом, а внутри все заливал мягкий свет, открывая глазу бескрайние дали. И в этом сне присутствовал – можно сказать, главенствовал – жест материнской руки, который повторился тридцать лет спустя в той кинохронике, где еврейка пыталась защитить мальчика от пуль, пока вертолет не разнес обоих в клочья.
– Знаешь, – сказал Уинстон, – я до этого момента думал, что убил мать.
– Зачем ты убил ее? – спросила Джулия спросонья.
– Я не убивал ее. Физически.
Во сне к нему вернулось воспоминание, как он последний раз видел мать, а вскоре после пробуждения всплыли все мелкие подробности того дня. Много лет он не помнил об этом – должно быть, вытеснил в подсознание. Он не был уверен, когда все произошло, но ему, вероятно, было лет десять, самое большее – двенадцать.
Отец его исчез чуть раньше; насколько раньше, он тоже не знал. Главное, что осталось в памяти о том времени, это общая разруха и неустроенность: паника от авианалетов, бомбоубежища на станциях метро, груды битого кирпича, сумбурные воззвания, висевшие на перекрестках, ватаги парней в одноцветных рубахах, длиннющие очереди перед булочными и пулеметная стрельба вдалеке. И над всем этим неотступное чувство голода. Он припомнил, как долгими вечерами рылся с другими ребятами в мусорных баках и на помойках, выискивая хряпу, картофельные очистки и, если повезет, черствые хлебные корки, с которых они аккуратно соскребали горелки; помнил, как они подкарауливали в разных местах грузовики с фуражом, рассыпа?вшие иногда на колдобинах кусочки жмыха.
Когда исчез отец, мать не выразила ни удивления, ни безутешного горя, но как-то вся переменилась. Казалось, жизнь оставила ее. Даже Уинстон почувствовал, что она покорилась чему-то неотвратимому. Она делала всю работу по дому – стряпала, стирала, штопала, застилала кровать, подметала пол, протирала каминную полку, – но так медленно и скованно, что напоминала марионетку, колыхавшуюся на ветру. Ее рослое величавое тело как бы невольно впадало в спячку. Иногда она часами просиживала на кровати почти не шевелясь и баюкая его сестренку – крохотную, чахлую девочку двух-трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Изредка мать обнимала Уинстона и надолго прижимала к себе, не говоря ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и детский эгоизм, что это как-то связано с ощущением чего-то неотвратимого, о чем мать никогда не говорила.
Он помнил их комнату, темное душное помещение, почти половину которого занимала кровать под белым стеганым покрывалом. Рядом стоял камин с газовой конфоркой и полка с продуктами, а на лестничной площадке – коричневая керамическая раковина, одна на несколько комнат. Он помнил, как статная фигура матери склонялась над конфоркой, помешивая что-то в кастрюле. Но отчетливей всего в памяти запечатлелся неотступный голод и жестокие, безобразные склоки из-за еды. Он без конца изводил мать вопросами, почему больше нечего есть, кричал на нее, скандалил (он даже помнил свой голос, уже начавший ломаться и срывавшийся на бас) или давил на жалость, выпрашивая добавку. Мать и так давала ему больше всех. Она принимала как должное, что ему, «как мальчику», полагалась самая большая порция; но сколько бы она ему ни положила, все было мало. Каждый раз она заклинала его не жадничать и помнить, что его сестренка болеет и тоже должна питаться, но без толку. Как только она разливала еду по тарелкам, он принимался злобно кричать, вырывал у нее кастрюлю с половником, хватал куски с тарелки сестры. Он понимал, что объедает их, но не мог ничего поделать; он даже чувствовал себя вправе. Голод, бунтовавший у него в животе, словно бы оправдывал его. Стоило матери отвернуться между приемами пищи, как он то и дело хватал что-нибудь с продуктовой полки.
Как-то раз им выдали по талону шоколад – впервые за несколько недель, если не месяцев. Он довольно отчетливо помнил этот лакомый кусочек. Плитка в две унции (тогда еще считали в унциях) на них троих. Было ясно, что шоколад следует поделить на три равные части. И вдруг Уинстон словно со стороны услышал, как он громко, срываясь на крик, требует, чтобы ему отдали всю плитку. Мать велела ему не жадничать. Последовал долгий нудный спор, повторявшийся по кругу, с криками, нытьем, слезами, уговорами, подкупами. Сестренка, которая вцепилась в мать обеими ручонками, точно обезьянка, смотрела на него через плечо матери большими скорбными глазами. Наконец, мать отломила от плитки три четверти и протянула Уинстону, а четвертушку дала сестренке. Малышка взяла свой кусочек и уставилась на него, вероятно, не понимая, что это такое. Секунду Уинстон стоял и смотрел на нее. Затем внезапно подскочил, вырвал у сестренки шоколад и бросился за дверь.
– Уинстон, Уинстон! – кричала мать. – Вернись! Отдай сестренке шоколад!
Он остановился, но не вернулся. Мать не сводила с него тревожных глаз. В тот момент он представил все неведомое и неминуемое, что надвигалось на них. Сестренка слабо запищала, осознав, что ее обидели. Мать обхватила ее рукой и прижала к груди. И что-то в этом жесте дало ему понять, что сестренка умирает. Он повернулся и бросился вниз по лестнице, чувствуя, как шоколад тает в руке.
Больше он мать не видел. Слопав всю плитку шоколада, он почувствовал что-то вроде стыда и несколько часов слонялся по улицам, пока голод не привел его домой. Но мать его не встретила – она исчезла. Обычное дело для того времени. В комнате все осталось по-прежнему, только не хватало мамы и сестренки. Вся одежда висела на месте, даже пальто матери. До сих пор Уинстон не знал в точности, умерла ли она. Вполне возможно, ее просто отправили в трудовой лагерь. Что же до сестренки, то ее могли определить, как и Уинстона, в одну из колоний для беспризорников («воспитательные центры», как их называли), которые разрослись в результате гражданской войны. А могли отправить в лагерь вместе с матерью или просто бросить где-нибудь умирать.
Сон все еще отчетливо виделся ему, особенно обнимающий, охранный жест матери, в котором, кажется, и заключалось все его значение. Уинстон подумал о другом сне двухмесячной давности. В точности как мать сидела на потертой кровати с белым покрывалом, держа на руках дочку, так же она приснилась и на тонущем корабле, глубоко под Уинстоном, поминутно погружаясь все глубже, но продолжая смотреть на него сквозь толщу воды.
Он рассказал Джулии, как исчезла его мать. Джулия, не открывая глаз, перекатилась на другой бок, устроившись поудобней.
– Похоже, ты был тогда адским свиненком, – пробормотала она. – Все дети – свинята.
– Да. Но главное в этой истории…
По ее дыханию стало ясно, что она опять засыпает. Ему хотелось еще рассказать ей о матери. Из его воспоминаний не складывалось впечатления, что мать была женщиной выдающейся или особенно умной; и все же ее отличало некое благородство, чистота, просто потому, что принципы, которым она следовала, были ее личными. Ее чувства являлись ее собственными, их нельзя было изменить извне. Она бы никогда не посчитала, что если действие не приносит результата, то оно бессмысленно. Если ты любишь кого-то, то ты его просто любишь, и даже когда тебе больше нечего дать, ты даришь ему любовь. Когда не стало последнего кусочка шоколада, мать прижала к себе дочь. В этом не было пользы, объятья ничего не меняли, они не вернули шоколадку и не отвратили ничью смерть; но обнять ребенка было для нее естественно. Беженка в лодке так же закрыла рукой ребенка, хотя рука защищала от пуль не лучше картона. Партия сделала с людьми ужасную вещь: она внушила, что твои душевные порывы, твои чувства ничего не значат, и в то же время она лишила тебя всякой власти над внешним миром. Как только ты попал в лапы Партии, все твои чувства или их отсутствие, все твои действия и бездействие уже не имели никакого значения. В любом случае ты исчезнешь, и никто никогда не услышит ни о тебе, ни о твоих делах. Тебя просто начисто сотрут из истории. Однако всего пару поколений назад людей это ничуть не заботило – они не собирались менять историю. Они жили исходя из понятия личной верности, которая не подвергалась сомнению. Значение имели личные отношения, и самые бессмысленные жесты – объятия, слезы, слова, сказанные умирающему, – были самоценны. Уинстон вдруг понял, что пролы сохранили в себе все это. Они верны не Партии, не стране и не абстрактной идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о пролах без презрения – не просто как об инертной силе, которая когда-нибудь пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не очерствели душой. Они сохранили в себе простейшие чувства, которым ему пришлось сознательно учиться заново. Подумав об этом, он вспомнил вроде бы не к месту, как несколько недель назад увидел оторванную руку на тротуаре и отшвырнул ее ногой в канаву, словно кочерыжку.
– Пролы – люди, – произнес он вслух. – Мы – не люди.
– Чем мы хуже? – осведомилась Джулия, снова проснувшись.
Он немного подумал.
– Тебе не приходило в голову, – сказал он, – что нам бы было лучше просто выйти отсюда, пока не слишком поздно, и больше никогда не видеться?
– Да, милый, приходило, и не раз. Но я все равно не пойду на это.
– Нам пока везет, – сказал он, – но долго так продолжаться не может. Ты молодая. Выглядишь нормальной и невинной. Если будешь держаться подальше от таких, как я, можешь прожить еще лет пятьдесят.
– Нет. Я уже все решила. Куда ты, туда и я. И не падай духом. Живучести мне не занимать.
– Мы можем продержаться еще полгода… год… никто не знает. Но в итоге нас все равно разлучат. Ты сознаешь, какое одиночество на нас обрушится? Как только нас схватят, мы ничего – абсолютно ничего – не сможем сделать друг для друга. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, а если откажусь сознаться, тебя все равно расстреляют. Что бы я ни сказал или ни сделал, о чем бы ни промолчал, это отсрочит твою смерть самое большее на пять минут. Никто из нас даже не узнает, жив другой или мертв. Мы будем абсолютно беспомощны. Единственное, что важно, – это не предавать друг друга, хотя даже это абсолютно ничего не изменит.
– Если ты насчет допроса, – сказала она, – то мы сознаемся как миленькие. Все сознаются, всегда. Тут никуда не денешься. Тебя же пытают.
– Я не об этом. Сознаться не значит предать. Неважно, что ты скажешь или сделаешь; только чувства важны. Если меня заставят разлюбить тебя, вот что будет настоящим предательством.
Она задумалась и сказала:
– Этого они не смогут. Единственное, чего не смогут. Сказать они тебя заставят что угодно – что угодно, – но только не поверить в это. Они не могут влезть в тебя.
– Да, – ответил он уже не так безнадежно, – да; это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что стоит оставаться человеком, даже если это ни к чему не приведет, то победа на твоей стороне.
Он подумал о телеэкране, который подслушивает тебя даже во сне. Они могут следить за тобой круглые сутки, но если не терять головы, есть способы их перехитрить. При всем своем уме они не могут прочесть твоих мыслей. Впрочем, когда они тебя схватят, в этом уже нельзя быть уверенным. Неизвестно, что именно творится в Министерстве любви, но есть догадки: пытки, наркотики, полиграфы, постепенное изматывание бессонницей и одиночеством, постоянные допросы. В любом случае факты от них не скроешь. Факты можно выяснить логическим путем, можно вытянуть под пыткой. Но если цель не остаться в живых, а остаться человеком, какая, в конце концов, разница? Они не могут изменить твоих чувств; да ты и сам не сможешь изменить их, даже если захочешь. Они способны во всех подробностях выяснить твои действия, слова или мысли; но душа твоя, движения которой загадочны даже тебе самому, останется вне их досягаемости.
VIII
Удалось! Наконец-то им удалось.
Они стояли в продолговатой, мягко освещенной комнате. Телеэкран бормотал еле слышно; темно-синий ковер под ногами был точно бархат. В дальнем конце комнаты за столом с зеленой лампой сидел О’Брайен, а по обе стороны от него высились кипы бумаг. Он даже не поднял взгляда, когда слуга ввел Джулию и Уинстона.
Уинстон боялся, что не сможет заговорить – так сильно колотилось его сердце. Удалось, наконец-то им удалось, только и повторял он про себя. Прийти сюда было рискованно само по себе, но заявиться вдвоем – чистое безумие; пусть даже они добирались разными путями и встретились только перед домом О’Брайена. Но и просто войти в такой дворец требовало немалой решимости. Лишь в самых редких случаях людям удавалось побывать в домах членов Внутренней Партии или хотя бы в кварталах, где они проживали. Вся атмосфера громадного здания, богатство и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, снующие повсюду слуги в белых пиджаках, бесшумные и удивительно быстрые лифты, скользящие вверх-вниз, – все это внушало робость. И хотя Уинстон явился под уважительным предлогом, на каждом шагу его преследовал страх, что сейчас из-за угла возникнет охранник в черной форме, потребует у него документы и прикажет убираться. Однако слуга О’Брайена впустил их беспрекословно. Невысокий и темноволосый, в белом пиджаке, он походил на китайца своим ромбовидным, совершенно бесстрастным лицом. Он провел их по коридору с мягкой ковровой дорожкой, кремовыми обоями и белыми, безукоризненно чистыми панелями. Это тоже внушало робость. Уинстон не мог припомнить, когда он видел коридор, стены которого не были бы затерты человеческими телами.
О’Брайен держал в пальцах листок и, похоже, внимательно вчитывался в него. Его тяжелое лицо склонилось так, что хорошо виднелся профиль, оно выглядело и грозным, и умным. Пожалуй, секунд двадцать О’Брайен сидел не шевелясь. Затем подтянул к себе речепис и отчеканил на гибридном министерском жаргоне:
– Позиции первую запятая пятую запятая седьмую одобрить всецело точка предложение по позиции шесть дубльплюс нелепость на грани мыслефелонии отменить точка не продолжать разработку до получения плюсовых данных накладных аппарата точка конец сообщения.
Он неспешно поднялся из-за стола и бесшумно направился к ним по ковру. Казалось, часть его официальности осталась за столом, но лицо казалось непривычно хмурым, словно ему не понравилось, что его потревожили. Овладевший Уинстоном ужас мгновенно разбавился обычной растерянностью. Весьма вероятно, что он совершил дурацкую ошибку. Чем он, в сущности, руководствовался, когда решил, что О’Брайен какой-то политический заговорщик? Ничем, кроме мимолетного взгляда и единственной двусмысленной фразы; в остальном лишь своими тайными мечтаниями, рожденными из сна. Его не спасет даже предлог, что он пришел за словарем, – это никак не объясняло присутствия Джулии. Проходя мимо телеэкрана, О’Брайен словно вспомнил о чем-то. Он остановился, повернулся и нажал на стене выключатель. Раздался щелчок. И голос телеэкрана смолк.
Джулия сдавленно пискнула, не сдержав удивления. Уинстон, при всей своей панике, так изумился, что невольно воскликнул:
– Вы можете выключать его!
– Да, – кивнул О’Брайен, – мы можем его выключать. Есть такая привилегия.
Теперь он стоял совсем рядом. Его массивная фигура возвышалась над ними, а лицо оставалось непроницаемым. Он ждал с непреклонным видом, что Уинстон заговорит, но о чем? Даже сейчас ничто не мешало считать О’Брайена всего лишь занятым человеком, который недоумевает, зачем его оторвали от дела. Все стояли молча. Когда затих телеэкран, в комнате, казалось, повисла мертвая тишина. Секунды – длиннющие – тянулись бесконечно. Уинстону стоило больших усилий смотреть в глаза О’Брайену. Затем вдруг на хмуром лице хозяина обозначилось подобие улыбки. Своим характерным жестом он поправил очки.
– Мне сказать или вы скажете? – осведомился О’Брайен.
– Я скажу, – ответил Уинстон с готовностью. – Эта штука действительно выключена?
– Да, все выключено. Мы одни.