
Полная версия:
Пророк. История Александра Пушкина
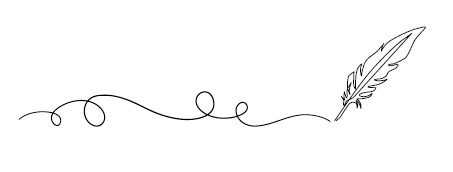
Глава 2
«Надо было про кота…»
Вот она, долгожданная свобода!
Промчались годы заточенья;Недолго, мирные друзья,Нам видеть кров уединеньяИ царскосельские поля.Разлука ждет нас у порогу,Зовет нас дальний света шум,И каждый смотрит на дорогуС волненьем гордых, юных дум.В 1817 году студенты покинули стены Царскосельского лицея, чтобы начать самостоятельную жизнь. Самый первый и самый известный выпуск потомки стали называть «пушкинским», хотя, справедливости ради, почти все сокурсники поэта оказались выдающимися людьми. Но это чуть позже. Пока же – волнение, планы, надежды. И грусть, конечно.
Всегда сложно прощаться с местом, где был счастлив. А лицеисты были там счастливы.
Но, как бы там ни было, пора жить дальше. Желательно ярко и насыщенно.
Куда направиться полному надежд и творческих планов молодому человеку? Особенно, если он горяч, азартен и уверен в своем исключительном таланте. Конечно, покорять Петербург! Столица, с ее шумными улицами, величественными дворцами, кипучей светской и интеллектуальной жизнью манила молодого поэта.
И тут повезло: Пушкин был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел, в должности коллежского секретаря. Вот уж поистине не пыльная работа. Должность вообще не предполагала ежедневного присутствия в конторе, как и активного труда, зато давала возможность жить в столице, с головой окунуться в ее блеск, а заодно завести новые знакомства. Не служба – мечта!
А самое главное, столь неутомительная служба позволяла заниматься тем, к чему стремилась душа, сердце и все существо – литературой!
Сочинений скопилось много, да и новые появлялись одно за другим, оставалась самая малость: о них должна была узнать публика. А там и признание не заставит себя ждать. В том, что читатели будут в восторге, а его ждет слава, Пушкин не сомневался.
Это давало ему смелости стучаться во все литературные журналы и входить во все возможные редакции, предлагая свои произведения.
Он даже вступил в одно литературное общество. Его участники собирались в трактирах и бальных залах, вели долгие споры об изящной словесности, читали друг другу произведения и много выпивали. Практической пользы общество не приносило. Зато давало пьянящее ощущение, что ты причастен к миру литературы, что ты тоже – поэт! Поэтому Пушкин не унывал.
Квартиру пришлось снять попроще. Маленькую. В бедном, плохо освещенном доме-колодце с единственным подъездом. Окна выходили как раз в этот самый двор.
Чтобы попасть в жилище, надо было подняться по серой темной лестнице, с чугунной балюстрадой, где часто бродили пьяные слуги и дворники. Внутри, сразу у входной двери, стояла кровать, на ней довольно частно возлежал смятый бухарский халат или хозяин жилища в этом самом халате. Тут же рядом стоял стол, на нем громоздились бумаги и книги. Пустые стены, из мебели одинокий соломенный стул, «мой угол тесный и простой». Все, как и в лицейской комнате: тот же поэтический беспорядок.
Зато здесь прекрасно сочинялось и писалось. В этих стенах он завершил поэму «Руслан и Людмила», которая в скором времени должна была его прославить. Но пока автор об этом не знал (хотя мечтал, конечно).
В Петербурге Пушкин особенно увлекся театром. Посещал премьеры и даже пробовал силы в роли критика. Но страсть к сочинительству взяла верх, и он захотел написать для театра тоже. Пьесу, да не одну! В стихах! Но не такую, как у корифеев вроде Шекспира или Софокла, у него будет иначе – легко, захватывающе. И он потихоньку писал.
Ну, а пока мечты о славе были лишь мечтами, Пушкин читал друзьям. А друзьям нравилось. Ему аплодировали, просили еще. Во время пирушек обязательно выкраивали время, чтобы Саша «прочитал».
Поэты тогда были на особом положении: ни актеры, ни певцы не были так популярны, настоящие знаменитости выходили только из поэтов. Хорошие стихи тут же становились популярными, их переписывали, учили наизусть, передавали друг другу. Вечером прочитано, утром уже во всех приличных домах и салонах обсуждают: «А вы слышали новое произведение N? Это прелесть что такое!» Авторов носили на руках толпы поклонников. В переносном, а часто и в прямом смысле.
Данзасу нравилось «про кота», то есть предисловие к поэме «Руслан и Людмила».
У лукоморья дуб зеленый;Златая цепь на дубе том:И днем и ночью кот ученыйВсе ходит по цепи кругом;Идет направо – песнь заводит,Налево – сказку говорит.Там чудеса: там леший бродит,Русалка на ветвях сидит;Там на неведомых дорожкахСледы невиданных зверей;Избушка там на курьих ножкахСтоит без окон, без дверей;Там лес и дол видений полны;Там о заре прихлынут волныНа брег песчаный и пустой,И тридцать витязей прекрасныхЧредой из вод выходят ясных,И с ними дядька их морской;Там королевич мимоходомПленяет грозного царя;Там в облаках перед народомЧерез леса, через моряКолдун несет богатыря;В темнице там царевна тужит,А бурый волк ей верно служит;Там ступа с Бабою ЯгойИдет, бредет сама собой,Там царь Кащей над златом чахнет;Там русский дух… там Русью пахнет!И там я был, и мед я пил;У моря видел дуб зеленый;Под ним сидел, и кот ученыйСвои мне сказки говорил.Пушкину же нравилось сочинять. И читать написанное перед публикой.
Даже больше, чем кутить в трактирах. Хотя, конечно, одно другого не исключало.
Вот, к примеру, друзья позвали его на бал к княгине Голицыной. Казалось бы – где княгиня, и где недавний лицеист, никому неизвестный поэт, мелкий госслужащий? Но излишнее самоедство – это не про Пушкина.
Поэтому в назначенный день и час он в старом фраке и дырявых туфлях вышел из своей квартиры. Тут же наступил в одну из луж, которые заполонили запущенный двор. В это же время кто-то из добрых соседей сверху решил навести дома порядок и выбросить помои. В окно, конечно же. Привыкший к подобным выходкам Пушкин, ловко отпрыгнул в сторону, но капли грязной воды, как назло, все-та-ки попали ему на рукав. Надо же было, именно сегодня! Всегда же уворачивался. Теперь извольте: старый фрак дополнили грязные капли. Но что же теперь?
Не поворачивать же назад из-за такой мелочи. Он отряхнул рукав с напускной небрежностью и резким движением поднял воротничок.
Воротник оказался в его руках. Оторванный.
Из парадной выбежал Никита, слуга, с цилиндром в руках. Протянул его Пушкину, подчеркнуто заботливо.
– Что-то побелели вы, барин. Климат, на вас так влияет, да?
– Никит… – Пушкин протянул слуге непришитый воротничок, – на славу пришил, нечего сказать! Низкий поклон тебе!
– Так сами чините тряпку эту половую. Али не научились в богадельне-то?
Никита был не из робкого десятка, это точно.
Пушкин молча забрал у слуги цилиндр и пошел, отряхиваясь, по грязной, темной улице к экипажу, ожидающему у арки.
Сложно было представить себе что-то более нелепое в такой дыре, как этот красивый новенький экипаж. Разве что двух молодых франтов в нем – Ивана Пущина во фраке и Константина Данзаса в парадной форме Инженерного корпуса.
Заметив прыгающего между луж Пушкина, друзья вышли ему навстречу. Данзас, конечно, не смог упустить такого случая и не сыронизировать:
– Здравия желаю, Пушкин! Кажись, из лицея до Петербурга было бы ближе, да?
– Данзас… – одернул друга добродушный Пущин. – Да не слушай его! Хороший район, хороший. Очень… самобытный.
Пушкин усмехнулся и запрыгнул в экипаж.
Под стук копыт он наблюдал из окна свой бедный район, который со стороны казался еще более унылым, а Пущин в это время пытался примостить к его старому фраку белый платок, чтоб закрыть зияющую на самой груди дыру. Не сказать, чтоб это сильно спасало положение, но Иван искренне старался.
– Ну, что это? – не выдержал Пушкин, выдернул платок и выбросил его. Уж пусть будет, как есть.
В окне наконец показался блестящий Петербург – богатые центральные улицы шумели, сияли, манили. Рестораны и театры зазывно мигали огоньками, смех праздно гуляющих столичных жителей будоражил, открывая взору совсем другую жизнь.
Наконец, они остановились напротив шикарного особняка, к которому неспеша двигались люди. У здания горели десятки факелов, крутились фейерверки, слышался девичий смех. Ко входу по украшенной тропинке тянулась толпа гостей. Друзья примкнули к ней. Барышни, идущие впереди, хихикали и оглядывались на красавца Данзаса (в воен-ной-то форме!).
– Дамы, здравия желаю! – млел от удовольствия Данзас.
– Ты всем теперь будешь здравия желать?
– Ты не бубни, а учись, Пушкин. У тебя один шанс произвести первое впечатление на столичных дам.
В ответ Пушкин хмыкнул, указывая на дырку во фраке.
– Саша, l’habit ne fait pas le moine[11], – успокаивал Пущин, – зато ты служишь в Министерстве иностранных дел… с перспективами…
Тут же перед ними вырос распорядитель бала и с нескрываемым презрением оглядел Пушкина с ног до головы:
– Месье, приглашения!
От неожиданности Пушкин остановился. Из-за спины распорядителя вынырнул Данзас и ткнул ему под нос пригласительный.
– Простите, он с нами, – Пущин подтолкнул друга ко входу. – Заходим внутрь. Я тебя представлю друзьям. Важным людям. Расскажи им про службу. Но самое главное – почитай им чего-нибудь!
– Ты дамам лучше читай. Про кота, дуб, цепь… – Данзас взял с подноса бокал шампанского. – Что ж друзья. В атаку! Дамы! Здравия желаю!
Пушкин тоже взял бокал, выпил его залпом и сразу почувствовал себя увереннее. Дырка на фраке уже не так сильно досаждала, музыка веселила сердце, а при взгляде на дам, ярких, как сказочные птицы, все дурные мысли испарялись. Хотелось только одного – бесконечного праздника. И плевать на все вокруг.
Взгляд скользнул в сторону и зацепил Данзаса в кругу смеющихся девушек. Тот подмигнул другу, приглашая присоединиться к их компании. Пушкина не надо долго уговаривать, он уверенно шагнул вперед.
Но тут за локоть его схватил Пущин. Это еще что?! Неужто опять решил морали читать?!
– Саша! Смотри! Жуковский! – с жаром шептал Пущин, указывая в сторону.
Там, в Бронзовом зале, в белом фраке с пурпурным атласным галстуком Жуковский читал, стоя в центре почтенных господ-литераторов. Как оперный певец во время арии, всем видом источая величие и собственную значимость:
Я знаю: будет добрым пирВ небесной стороне;Там буду праздновать и я;Там место есть и мне.Оглушительные аплодисменты. Восхищенные вздохи. Возгласы «браво».
– Оставьте. Не стоит… – кокетничал Жуковский в ответ.
И сорвал еще одну волну оваций. Пущин, утягивая за собой друга, подобрался поближе к поэту и подхватил:
– Великолепно! Великолепно! Василий Андреевич, поздравляю с назначением! Обучать великую княгиню – это большая честь. А… Иван Пущин. Помните меня?
– Нет, но благодарю. Волею Божьей!
Неловко вышло: Иван был уверен, что Жуковский вспомнит их. Он ведь не раз приезжал в лицей, пару лет назад они даже разговаривали, поэтому сегодня Пущин рассчитывал возобновить общение. Дружба с влиятельным и знаменитым человеком всегда на руку молодым. Особенно в столице. Но что поделать? Придется начинать сначала:
– Я хотел представить вам своего друга, он тоже поэт… Александр Пушкин.
– А, да. Не тот ли Пушкин, кем восхищался покойный учитель наш Державин? – продолжая раскланиваться с поклонниками, протянул Жуковский. – И что вы? Пишете?
– Он пишет поэму! – с воодушевлением вмешался Иван.
– Поэму? Какая амбиция! – усмехнулся мэтр. – Прочитайте!
– Я только начал… – замялся Пушкин. – У лукоморья дуб зеленый, златая цепь…
Он не закончил, потому что в этот миг в зал вплыла хозяйка вечера – великолепная Авдотья Голицына, в диадеме, ловко подхватившей светлые локоны, небесно-голубом платье, открывающем изящные плечи. Она сразу и безраздельно завладела вниманием каждого гостя. Даже Жуковский не смог тягаться с хозяйкой эффектностью, да и не стремился. С мягкой улыбкой он склонился поцеловать ее ручку:
– Авдотья Ивановна! Ну это пошло – так любить внимание!.. Так что там про лукоморье?
Пушкин молчал, не в силах оторвать глаз от хозяйки вечера.
Осенью 1817 года Пушкин познакомился с Евдокией (Авдотьей) Ивановной Голицыной (1780–1850) и стал постоянным гостем в ее доме. По свидетельству Николая Михайловича Карамзина, Пушкин «смертельно влюбился» в роковую красавицу, несмотря на то что она была на 19 лет старше его. Влюбленность поэта вскоре развеялась, но общение продолжалось до 1820 года, пока Пушкину не пришлось покинуть Петербург, и возобновилось после его возвращения в середине 1820-х.
Евдокия Голицына происходила из старинного московского рода Измайловых. В 19 лет юная барышня была выдана замуж по повелению императора Павла I, а вовсе не по велению своего сердца, поэтому сразу после известия о смерти императора свободолюбивая Евдокия прекратила отношения с мужем и переехала в Петербург, где вскоре ее дом стал одним из самых известных в столице.
Она слыла странной и даже эксцентричной, в Петербурге ее прозвали La Princesse Nocturne (Ночная Княгиня), так как, желая избежать предсказанной гадалкой смерти в ночные часы, днем она спала, а ночью – принимала гостей. В 1815–1816 годах княгиня жила за границей и как раз вернулась в Петербург к 1817 году. В ее салоне обсуждали злободневные политические проблемы, говорили о патриотизме, конституционных правах, государственных законах и, конечно же, о свободе. Александр Пушкин был вдохновлен как интеллектуальными беседами и спорами, так и личностью хозяйки салона, к которой обращено его любовно-патриотическое стихотворение, не напечатанное при жизни поэта:
Краев чужих неопытный любительИ своего всегдашний обвинитель,Я говорил: в отечестве моемГде верный ум, где гений мы найдем?Где гражданин с душою благородной,Возвышенной и пламенно свободной?Где женщина – не с хладной красотой,Но с пламенной, пленительной, живой?Где разговор найду непринужденный,Блистательный, веселый, просвещенный?С кем можно быть не хладным, не пустым?Отечество почти я ненавидел —Но я вчера Голицыну увиделИ примирен с отечеством моим.Евдокии Голицыной Александр Пушкин передал рукопись своей оды «Вольность», которая позже стала одной из причин его высылки из столицы.
На помощь другу пришел Данзас.
– Господа! Дамы! – начал он, подводя Пушкина к Голициной. – Ее сиятельство, блистательная княгиня Голицына, открывшая нам всем двери своего прекрасного дома, приготовила сюрприз гостям! Сегодня для вас выступит молодой поэт, которому рукоплескал сам великий Державин! Александр Пушкин и его поэма… «Руслан и Лариса»!
Данзас сделал два шага назад, оставив друга одного в кругу гостей. Голицына пристально смотрела на незнакомца. Сраженный Пушкин стоял как столб.
– Державин-то под конец совсем сдал! – прошептал довольно громко генерал из свиты княгини. – Оборванцев в поэты стал записывать.
Негромкий, унизительный смех, как круги по воде, разошелся среди гостей.
Пушкин почувствовал, как закипает: и не за такие дерзкие насмешки он вызывал на дуэль, но его сдержали пронзительный взгляд и красота княгини.
А в следующий миг голос молодого поэта перекрыл нарастающий шум толпы:
Беги, сокройся от очей,Цитеры слабая царица!Где ты, где ты, гроза царей,Свободы гордая певица?Приди, сорви с меня венок,Разбей изнеженную лиру…Хочу воспеть Свободу миру,На тронах поразить порок.Шум стих. Голос Пушкина зазвучал увереннее:
– Увы! куда ни брошу взор —Везде бичи, везде железы,Законов гибельный позор,Неволи немощные слезы;Везде неправедная ВластьВ сгущенной мгле предрассужденийВоссела – Рабства грозный ГенийИ Славы роковая страсть.В проеме дверей зала столпились молодые люди, заинтересованно слушая.
– И преступленье свысокаСражает праведным размахом;Где не подкупна их рукаНи алчной скупостью, ни страхом.Владыки! вам венец и тронДает Закон – а не природа;Стоите выше вы народа,Но вечный выше вас Закон.Гости замерли, не дыша. Ни единого звука в зале! Пушкин вошел в раж, стал читать еще громче.
Данзас, довольно улыбаясь, оглядывал публику, и заметил в стороне странного человека в черном. Тот записывал стихотворение в блокнот, глядя на чтеца исподлобья, при этом совсем не был похож на поклонника. Выглядело все это крайне странно. Поймав холодный взгляд незнакомца, Данзас отвел глаза и передернул плечами.
– И днесь учитесь, о цари:Ни наказанья, ни награды,Ни кров темниц, ни алтариНе верные для вас ограды.Склонитесь первые главойПод сень надежную Закона,И станут вечной стражей тронаНародов вольность и покой, —выдохнул Пушкин и замолчал.
Тишина.
Ни аплодисментов.
Ни восторга.
Ни единого вздоха.
Похоже – провал…
– Пойдем, – шепнул Данзас, подталкивая друга в сторону. – Надо было про кота…
Но тут ручки хозяйки вечера в шелковых перчатках сложились вместе – хлоп-хлоп-хлоп – ее примеру последовали другие, постепенно наполняя зал ровным гулом аплодисментов.
– Очень смело! – произнесла Голицына. – Пушкин – певец свободы!
Ошалевший от собственного триумфа и красоты Авдотьи Ивановны, Пушкин шагнул вперед и с жаром продолжил:
– Но вас я вижу, вам внимаюИ что же?., слабый человек!..Свободу потеряв навек,Неволю сердцем обожаю.Голицына улыбнулась той снисходительно-понимающей улыбкой, на которую способны только давно признанные красавицы света, привыкшие к обожанию.
– Мальчик мой, – ласково засмеялась она, – вы очень талантливы, но сердце свое я вам не подарю. Не унывайте, милый, я уже подарила вам куда больше.
– Что же?
– Внимание Петербурга, – княгиня взяла под руку генерала и пошла в другой конец зала, показывая, что на этом разговор окончен.
Не успел Пушкин толком приуныть, как его обступила толпа молодых людей. Их голоса перекрывали друг друга:
– Почитайте еще что-нибудь!
– Поедемте с нами!
– Пушкин! Браво!
– Браво! Еще!..
Так началась совсем другая жизнь.
Его стихи узнала широкая публика. Теперь их читали не только друзья, а весь Петербург и даже за его пределами, его сочинения ждали, переписывали, учили наизусть, декламировали вслух. Свет только и говорил, что о появлении нового гения, и Пушкин день ото дня становился все популярнее. Журналы печатали, литераторы благосклонно приняли его в свой круг, отдавая должное таланту, поклонники, как и положено, восхищались.
Что касается самой восходящей звезды литературы, то не одни лишь стихи занимали его жизнь и помыслы.
Пушкин стал завсегдатаем дома Голицыной, да и всех мало-мальски крупных светских сборищ и балов, где неизменно оказывался в центре внимания. А также гостем трактиров и ресторанов, порой нескольких за вечер.
В умении веселиться он был таким же неистовым, как в поэзии. Выпить бутылку рома на спор – легко! Дурачиться и выкрикивать колкие эпиграммы – сколько угодно! Закружить в танце барышню, одну-другую – с превеликим удовольствием. Бегать с друзьями по ночному Петербургу, придумывая хулиганские выходки – бесконечно. Нарываться на дуэли – конечно, натуру свою так просто не исправить. Шампанское, дамы, балы, карты…
Иногда, бывало, из этого дурмана вдруг выплывет укоряющее лицо Жуковского: «Александр, когда же вы допишете «Руслана»?»
Так он же пишет. Он все-все успевает.
И даже расхаживать по рядам в театре с портретом Лувеля в руках. Того самого французского противника монархии, убившего наследника престола на выходе из оперного театра. На портрете, между прочим, красовалась надпись «Урок царям». А в зале слышался возмущенный ропот. Даже княгиня Голицына была не в восторге от этой выходки, а Данзасу вновь померещился человек в черном, что-то старательно записывающий. А померещился ли?
Однако не было времени думать о дурном. Вперед – к новым приключениям!
Были среди них и мистические. Кто же не любил в молодости пощекотать нервы?
В одном из портовых кварталов Петербурга располагался салон известной гадалки Кирхгоф.
Немка преклонного возраста появилась в Петербурге в начале XIX века. Откуда она прибыла, никто не знал, впрочем, как и ее точного имени: одним она представлялась Шарлоттой Федоровной, другим – Александрой Филипповной. Едва обосновавшись в столице, госпожа Кирхгоф открыла собственный магический салон, где предлагала всем желающим широкий выбор гаданий: на картах, по руке, на кофейной гуще, на песке. В считаные дни она стала знаменитой, а к салону потекли потоки жаждущих узнать свое будущее. Встречи с ней искали и в то же время боялись. Кто-то считал ее ведьмой, кто-то женой сбившегося с пути пастора. А самые впечатлительные особы свято верили в то, что загадочная гадалка – призрак, который сошел в реальный мир с картины Рембрандта и вселился в тело старушки.
Чаще всего к Кирхгоф обращались заядлые дуэлянты и картежники, неверные жены и их молодые любовники, охотницы за знатными женихами. Богатые аристократки, дабы сохранить свои секреты, отправляли за гадалкой экипаж и впускали в дом через черных ход, остальные добирались сами, под покровом темноты. Никто не выходил от прорицательницы с улыбкой на лице. Как правило, посетители выглядели очень удрученными, а многие так и вовсе хватались за сердца и еле переступали ногами.
Не миновал мистического салона и наш герой. Заявился после затяжной прогулки по столичным кабакам, с друзьями, нетрезвый.
– Мир дому сему! Шампанского! – огласил мрачную, наполненную дымом и треском свечей прихожую голос Пушкина.
Из полумрака появилась фигура Голицыной.
– Александр, здесь вам не попойка! Здесь салон великой прорицательницы!
– Вас люблююю я понемногу… – улыбался пьяный Пушкин в ответ.
– Княгиня, мы тоже пришли узнать будущее! Клянусь! – вступился Данзас. – Да, Пушкин?
Поэт откинул голову назад и закрыл глаза.
– Это он вошел в транс… – поддерживая друга, бормотал Пущин. – Прощу прощения, извиняюсь…
Они вдвоем потащили полуживого поэта к двери гадалки, несмотря на его вялые протесты: «Поедем есть страсбургский пирог[12]?»
Прорицательница, как ее уважительно называли почитатели, Кирхгоф занимала тесную комнату, наглухо задрапированную тяжелыми темными шторами. На столе тлела свеча, лежала колода карт и что-то похожее на глубокую чашу. Хозяйка беспрестанно курила трубку.
Данзас усадил сонного Пушкина на стул напротив гадалки. Пущин предусмотрительно сел рядом, подпирая друга плечом.
– Мадам! – с пафосом воскликнул Данзас. – Великий Пушкин – прямиком с Олимпа! Желает развеять мглу над своим блестящим грядущим!
– Великий ваш и не вспомнит ничего с утра… – усмехнулась гадалка.
– А мы на что?! – не сдавался Данзас, подкладывая Пущину карандаш и лист бумаги. – Записывай… давай-давай…
Гадалка отложила трубку в сторону.
– Великий Пушкин… – продолжила она, глядя на него в упор. – Дар и правда есть. И дикий, непокорный дух. А где он, там и опасность. И долгий путь. Далекий… Не всегда желанный… Страданий много…
В чаше, стоящей перед гадалкой, вспыхнул огонь. Из него Кирхгоф достала щипцами серо-желтую кость, положила ее в ступку и стала ломать тяжелым пестиком на куски. Затем высыпала получившуюся муку на стол.
– Есть женщина… Сестра? Нет! Подруга? Нет! Жена… – водила она руками по столу, рисуя в костной муке силуэты. – Кто-то уйдет. Близкий? Родственник? А может, друг? Да, друг.
Данзас заерзал на стуле.
– Счастье. Сильно позже. Или смерть и вечность. Сможешь выбрать, – тут голос гадалки изменился. – Белок глаз, кровавый узор сосудов. Бойся белого цвета! Белой лошади… Белой гривы… Белой головы…
Голова Пушкина упала ему на грудь и, не в силах далее держаться, он звучно захрапел.
Очнулся уже у выхода из салона. В голове – туман, фигура гадалки и какие-то обрывочные фразы. Друзья, к счастью, рядом. Данзас вел его под руку на выход, Пущин читал запись с листа бумаги:
– Опасность. Долгий нежеланный путь. Страдания. Жена…
– Сочувствую! – вздохнул Данзас.
– Уход друга…
– Этого не дождешься! – продолжал Данзас и хорошенько тряхнул Пушкина, чтоб тот приободрился. Никакой реакции.
– Потом счастье или смерть и вечность. Бойся белой лошади, гривы или головы…
Данзас, в надежде все-таки разбудить друга, стал хлопать его по щекам:
– Саша! Саша! Саш!
Это подействовало. Пушкин открыл глаза, отшатнулся в сторону и недовольно воскликнул:
– Ай! Да хватит лупить! Мы едем есть пирог?!
И в подтверждение серьезности своих намерений вырвался из рук друга и неровной походкой стремительно зашагал вперед.
– К Беранже! – воскликнул вслед ему Данзас и поспешил догонять.
Ночь обещала бурное продолжение!
Но у выхода из салона компания резко остановилась. Слегка покачиваясь под воздействием шампанского, друзья таращились вперед. Пушкин моргал, пытаясь сфокусировать взгляд.
На улице у самого выхода стоял арестантский экипаж, а возле него человек в черном. Явно ждал их. Тот самый человек, которого Данзас частенько замечал около распоясавшегося Пушкина и пытался убедить себя, что это галлюцинация. Нет, не галлюцинация. Стоит довольно уверенно, реальный человек из плоти и крови, с резким голосом:

