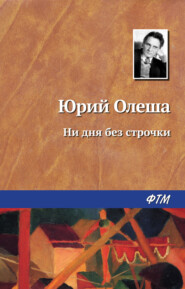
Полная версия:
Ни дня без строчки
До галлюцинации запомнил один из моментов, когда я занят этой игрой. Сумерки в столовой – в той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орловых! – и я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке – и мгновение повторится!
У входа в погреб, куда еще достигало солнце, работал столяр. Очень важно, что именно солнце – в нем золотились стружки. Как крепок всегда союз между ними и солнцем! Как оно любовно относится к стружке! Иногда, когда не смотришь на них, а увлечен разговором, вдруг покажется, что прямо-таки нимфа появилась возле верстака!
Я не помню, над чем трудился столяр. Важно, что вдруг завязалась между нами дружба. Я был мальчик не выше верстака, и столяр казался мне старым. По всей вероятности, это был солдат японской войны. Все еще жило ее отголосками. Был он с усами, с крестом, видным в щель рубахи, в синей в белую горошину рубахе. Меня восхищало то обстоятельство, что он рисует по доске, восхищал толстый его карандаш, который он брал в рот, слюнил. Взметывался то и дело также аршин, тоже желтый, как спички, как солдат, как солнце…
Столяр, работавший в подвале, смастерил мне нечто вроде модели солдатской винтовки – вернее, ее профиль, вырезанный из белой, чуть желтоватой сосновой доски. Трудно мне описать сейчас то восхищение, которое охватило меня, когда я впервые взял эту штуку в руки – все имелось: и приклад, хорошо приходившийся мне под щеку, и длинное ложе, и выступающий кусок ствола над ложем, и мушка, и некий намек на затвор с курком… Правда, все это было никак не мощно синевато-черное, как у настоящей винтовки, а, наоборот, бледно и даже со следами линий, проведенных густым столярным карандашом, тем не менее у меня было ощущение обладания именно настоящей винтовкой.
Я не помню, каковы были подступы к тому, что разыгралось в следующую минуту, но тут же, едва я успел чуть не в первый раз прицелиться еще там, в подвале, на пороге подвала появился подросток, незнакомый мне, лица которого я даже не успел увидеть, и, взяв у меня из рук подарок столяра, ушел вместе с ним – так, как будто это вообще была его вещь, даже не оглянувшись на меня и даже не допуская, как видно, мысли о том, что я могу попытаться протестовать.
Таким образом, я не больше минуты был обладателем вещи, показавшейся мне такой прекрасной. Какой-то удивительный розыгрыш сделала со мной судьба на пороге подвала с лежащим на нем прямоугольником солнечного света.
Я мог в детстве, как это часто случается с детьми, выколоть глаз. И то хорошо, что этого не случилось! Однако помню некий взмах длинной щепки, в результате которого на мгновение все перед моими глазами делается блестящим, и я кричу:
– Ну вот, выбил глаз! Выбил!
Особенного гнева по адресу того, кто, как я предполагаю, выбил мне глаз, я не ощущал. Не то что особенного гнева, а вообще гнева, да и вообще никакого представления о вине того передо мной у меня нет. Так случилось – и все. Сцена происходит у крана во дворе, через несколько минут я уже в аптеке, и на глазу у меня появляется толстая повязка с мягким, как тесто, содержимым, которое издает одновременно и приятный и противный запах.
Я мальчик, сын родителей, которому чуть не выбили глаз. Я очень сильная фигура детства. Обо мне говорят в парикмахерской, в дворницкой, в греческой мясной лавке, в богатых квартирах и в бедных. Рассказывают вернувшимся со службы отцам, рассказывают только что приехавшим из других городов родственникам.
Мы решили с мальчиком, который чуть не выбил мне глаз, скрыть истинные обстоятельства дела: я просто бежал и наткнулся на что-то. Однако обстоятельства раскрылись, и мама мальчика прижала меня к груди и, нагнув надо мной желтую шапку волос, ласково смотрела на меня и говорила, что я хороший мальчик. Между тем я не помню, чтобы мною руководило именно благородное побуждение. Так было проще – не выдать товарища, иначе начались бы морализирования, и это отразилось бы также и на дальнейшей нашей возможности играть во дворе и пользоваться свободой.
Глаз у меня остался целым, и я забываю радоваться каждый день, что у меня два глаза с радужными оболочками, со зрачками, у которых меняется диаметр, с ресницами, которые ведут совершенно не зависящую от меня жизнь, иногда, может быть, разговаривают, простираясь над моими глазами, как ветви, и иногда кажутся мне снизу простирающимися, как ветви надо мной…
Эти записи – все это попытки восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно. Я стою на чердаке, почти поджигаемом солнцем, перед двумя мальчиками, которые заставляют меня, совсем маленького мальчика, повторять за ними какие-то слова матерной ругани. Я повторяю, но они требуют все повторять и повторять. При этом они хохочут. Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится – да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым – синий дым!
Во дворе пахло канифолью. Этот запах шел из раскрытого сарая, где стояли бочки с неизвестным нам, детям, содержимым. Запах казался не то что приятным, а каким-то серьезным, на основании чего ему прощалось отсутствие именно приятности… Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичах стены солнце – да, да, желтый солнечный запах. По двору ходила томная Витя Койфман с пухлыми губками, с незагорелым приятно-бледным лицом.
Потом мы взбирались по лестнице с риском упасть и видели через пока что вырубленные в стене строящегося флигеля двери внутренность уже готовой комнаты, тоже всю в желтизне солнца.
– Упадешь! – крикнула мне снизу Витя Койфман, подняв лицо, которое я видел плоско под собой, как будто сидел на пальме и смотрел на прибежавшую из деревни негритянку. – Смотри, упадешь!
Крича это, она смеялась, как будто, если бы я упал, это было бы смешно. Она смеялась, потому что я был мальчик, а она девочка и между нами появился стыд. Стыд был другом, а не врагом. Со стыдом было приятно быть вдвоем. Он многое рассказывал, многое делал такое, что, пожалуй, он был наиболее милым другом в те годы.
Однажды на именины мне подарили несколько удивительных подарков. Вероятно, это были нерусские игрушки, настолько они отличались от всего того, что заполняло углы моей детской.
– Стакан теплой воды, – сказал кто-то. – Да, да, пожалуйста…
Появился стакан теплой воды с секунду покачивающимся уровнем. Все стояли вокруг стола. Это были еще именины, разгар их – именины мальчика, когда в комнатах стоит голубой дым от выстрелов из пистонного пистолета и запах пороха. Именины мальчика, который не перестает в этот день пребывать посередине какого-то круга вещей, какого-то круга людей.
Стакан теплой воды взяли из женской руки и поставили на стол, увеличив круг вещей именно стаканом воды. Мальчик не выпускает, кроме того, из рук пистолета. Также окружают его еще и крохотные кружочки пистонов…
Господин с черной бородой, которого, возможно, фамилия Макеев, держит в руках коробочку не больше спичечной, так же, как из спичечной, выдвигает он из коробочки еще ящичек…
Одним из взрослых, которым хотелось быть больше всего, был Ричард Грос.
Я возвращаюсь домой, и за столом, за которым все сидят и пьют чай, сидит также и один из взрослых, которым мне хотелось бы быть больше всего.
Едва войдя в комнату, я уже вижу его белую матросскую голландку. Из воротника, красиво легшего на оба плеча, растет, как прекрасный стебель, его белая шея.
Мы возвратились втроем, как и ушли, – я, бабушка, сестра; возвратились из парка, куда ушли гулять, как и каждый день; ничего не произошло неприятного… И вместе с тем я стою посреди комнаты, в которой только что очутился, растерянный, с сердцем, наполненным неизвестным мне до тех пор чувством.
Там, в парке, бабушка читала нам сказку о драконе и о принце, добывающем живую и мертвую воду.
Дракон по-польски – смок.
Он преграждал дорогу к живой и мертвой воде, этот смок. О, как хорошо я слышу это звучащее из невероятной дали слово – смок! О, как явственно вижу я себя чуть не оглядывающегося на это летающее вокруг меня слово.
Все в этот день происходило среди падающих листьев, так что среди падающих листьев происходила и наша Одиссея.
Мы то и дело следили то за одним, то за другим проплывавшим поблизости листом. Иногда, когда они проплывали возле лица, я слышал, как они поскрипывают. Тогда я не подумал, что они скрипят, как корабли, это мне теперь приходит в голову. А впрочем, может быть, я и тогда подумал об этом!
Некоторые, если бы их рассматривать распластанными, были бы похожи на готические соборы.
Они неслись на нас из голубого неба, цепляясь за подоконники и меняя направление.
Бабушка с ее поэтической душой понимала всю красоту происходящего. Как грустно вдруг становилось видеть ее лицо.
Бабушка занята своим делом – может быть, штопает, может быть, шьет, а я перелистываю книгу, в которой я иногда вижу изображения, озадачивающие меня до дрожи. Я не умею читать, тем не менее знаю, что вот покрытые черными знаками пространства – это для чтения, это, я знаю, страницы, буквы, и это читают.
Книгу, которую я перелистывал тогда, я встречал в нашем доме и позже, когда я уже вырос настолько, чтобы понимать многое и многое. Книга эта – может быть, и вы, читатель, хорошо знаете ее! – это приложение к «Ниве», вышедшее в тот год, когда заканчивалось столетие, нечто вроде сборника исторических материалов, подводящих как раз итоги столетия. Она так и называлась – «Девятнадцатый век». Нетрудно представить себе, сколько замечательных там было изображений, если книга подводила итоги такого века, как девятнадцатый.
Когда я отмечаю свое неумение писать, то я имею в виду составление фразы. Мне очень трудно написать фразу одним, так сказать, махом, в особенности если фраза создается для определения каких-либо отвлеченных понятий. Она вдруг обламывается, и я повисаю, держась, скажем, за какой-либо кусок придаточного предложения…
Я успокаиваю себя тем, что я, мол, поляк и русский язык все же чужой для меня, не родной. Возможно, что причина именно в этом.
Я помню, как отец однажды пожелал проверить мои успехи в чтении по-русски. (Учила меня бабушка, отец выступал в данном случае как верховный судья.)
– Иван! – кричит отец, рассердившись. – Иван!
Я произношу Иван с ударением на первом слоге, по-польски.
– Иван!
– Иван, – повторяю я.
– Иван! Иван! Иван!
Нет, я все же произношу – Иван. Боясь, как бы в гневе не ударить меня, отец прекращает экзамен, я плачу. Я был еще маленький поляк, и мне было трудно повернуть в себе на новый лад то, что я воспринял с кровью.
Дешевое издание, однотомник. Это большого формата, толстая, с разъезженным переплетом книга. Нетрудно представить себе этот переплет, откинув верхнюю крышку которого видишь решетчатую уличку коленкора…
Книга называлась «Пушкин». Я еще не умею читать, я еще не знаю, что значит – поэт, стихи, сочинение, писатель, дуэль, смерть; это Пушкин – вот все, что я знаю.
Какую первую книгу я прочел? Пожалуй, это была книга на польском языке «Басне людове» («Народные сказания»). Я помню, как пахла эта книга, теперь я сказал бы – затхлостью, как расслоился угол картонного переплета, как лиловели и зеленели мантии седых королей, как повисали на горностаях черные хвосты… Это была история Польши в популярных очерках – о Пясте, о Локетке, о Болеславе Храбром, о Казимире Кривогубом. С тех пор мне и кажется, что изображения могут гудеть. Эти картинки гудели.
У Данте в одной из песен Чистилища рассказывается о высеченном в скале и движущемся барельефе. Он изображает милосердие Тита, этот барельеф. Он не то разговаривает, не то движется, во всяком случае, это изображение живет. Данте, чтобы убедиться, не обманывает ли его зрение, несколько отступает в сторону, смотрит на барельеф со стороны. Да, движется! Колоссальный барельеф, высеченный в скале. Вот какая фантазия была у Данте: он представил себе движущуюся сцену – величиной в скалу!
Я помню не радость, а недоумение в тот день, когда мне подарили басни Крылова. Это была небольшая в красном с золотом переплете книга известной «Золотой библиотеки» Вольфа. Там на переплете в золотом овале были изображены склонившиеся друг к другу лбами и читающие вдвоем книгу мальчик и девочка. Я до сих пор помню, как поистине металлически блестело в этом овале золото!
Басни Крылова были хорошо иллюстрированы – графически, реально, но очень прозрачно. Медведи, мужики, лисицы, гуси. Под каждой картинкой, или по обе ее стороны, или на листе, соседнем с картиной, были напечатаны стихотворения, которые в данном случае, удивляя меня, назывались баснями. Я прочел одно, другое, третье – и меня охватила скука, переживание которой я помню до сих пор. Во-первых, это было написано на языке, совсем не похожем на тот, на котором все разговаривали вокруг. Во-вторых, речь шла о животных, которые действовали то как животные, то как люди, а разговаривали все время как люди. Эта путаница сразу дала себя почувствовать. Присутствие на картинке льва, слона, змеи заставляло ожидать событий. Причем событий страшных, загадочных, кровавых. А когда я начинал читать, то вместо событий начиналась какая-то скучная история о том, как музыканты никак не могли рассесться, чтобы начать наконец играть. Потом так же лев разговаривал, например, с лисицей. Детская фантазия не понимала, почему надо привлекать такое существо, как лев, не для того, чтобы он кого-то растерзал или чтобы кого-нибудь вырвали у него из лап.
Эти ненастоящие львы, медведи и лисицы, которые символизировали человеческие качества, ничего общего не имели с животными, например, сказок Гауфа или братьев Гримм.
В этот магазин вела узкая дверь в довольно толстой стене, что делало момент входа в него особенно, если можно так выразиться, аппетитным. Кажется, даже звякал при открывании дверей колокольчик…
Это был книжный магазин, причем в соседней комнате помещалась маленькая библиотека польских книг, которые выдавались на дом.
Книги были польские, хозяин магазина и библиотеки – поляк, его жена – полька, продававшиеся в магазине картинки – польские, все было польское, даже запах, чем-то похожий на запах костела, возвышавшегося рядом с магазином, здесь, на Екатерининской улице.
За книгами в магазин меня посылала мама. Я проходил маленькую библиотеку и спрашивал у жены хозяина, старушки, есть ли книга, которую хочет получить мама.
– «Прокаженная», – произносил я название романа. Нет, никогда «Прокаженная» не оказывалась в библиотеке.
Она все была на руках. Когда маме содержание этого романа рассказывала знакомая, у мамы текли слезы…
– Нет, мальчик, «Прокаженной» нет.
Ряды книг громоздились один над другим до потолка – разные книги, новые, истрепанные, некоторые в ярких нерусских обложках. От книг пахло тем запахом, который остался в моих воспоминаниях как один из приятнейших запахов, какой удалось мне услышать, хотя, по правде говоря, это был запах несколько затхлый, мышиный.
– Есть «На серебряном шаре» Жулавского. Возьми, мама будет довольна.
И я беру «На серебряном шаре». Взгляд на обложку дает мне понять, что действие романа, очевидно, происходит на Луне: большой шар Луны, сделанный художником действительно в виде серебряного, восходит над горизонтом, и несколько человек, истомившись среди кустов и бросая длинные тени, смотрят на него с печалью.
Уходя из магазина, я задерживаюсь, чтобы посмотреть на открытки, которые здесь продаются и держатся лицом к покупателю благодаря какому-то проволочному сооружению. Тогда открытки коллекционировались и изготовлялись поэтому с особенным искусством – чистые цвета, хороший картон… Репродукция блестела, оставаясь четкой во всех подробностях. Вот, например, пожар… Большое здание, уже превращающееся в скелет, чернеющий на фоне пламени, снопы искр и маленькие золотые каски пожарных, величиной с булавочную головку, но видимые даже тогда, когда уже у дверей я оглядываюсь на них в последний раз.
– «На серебряном шаре»? – спрашивает мама. – Что это? Наверное, какая-нибудь глупость. Надо было «Прокаженную».
– Ну нет «Прокаженной», – говорю я.
– Какая-нибудь глупость.
Однако голубеющая обложка с серебряной луной и длинными тенями людей привлекает ее. Она спрашивает не столько меня, сколько самое себя:
– Что это?
Открывает, начинает читать.
– Нет, ничего, – говорит она через минуту. – Ничего, ничего. Изобретатель, который… Ничего.
Оказалось потом, что это грустная книга о группе людей, полетевших на Луну и утративших возможность вернуться и все тоскующих о Земле…
Однажды мои родители, побывав в театре, вернулись под очень сильным впечатлением спектакля. Они все принимались рассказывать мне, что же именно они видели.
– Бьют часы, – говорила мама, – и входит смерть. Ах, как страшно! Она с косой! Да, да, с косой и…
Дальше я не слушал, так как образ смерти с косой заполнял мое воображение. Пока я освобождался от него, мама уже заканчивала пересказ вспомнившегося ей пассажа. Боковым, так сказать, слухом успевал я услышать, правда, еще какие-то страшные вещи о папе римском, который не хочет следовать за смертью, упирается, и смерть злорадно хохочет и все же тащит его.
– Нет, пойдешь! Упирается! Ха-ха-ха! Пойдешь, пойдешь!
С каким-то особым значением, как нечто тоже страшное, родители произносили название пьесы.
– Данте Алигьери, – вдруг говорила мама, и по спине у меня пробегали мурашки страха. Тем не менее мне хотелось еще раз услышать, и я переспрашивал:
– Как?
И мама повторяла.
Когда я просил объяснить, что это значит, мама не умела этого сделать. Очевидно, ей и самой не все было ясно. Очевидно, спектакль был некоей инсценировкой по мотивам «Божественной комедии»; очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени… Вот поэтому и трудно было маме, как неподготовленному зрителю, соединить название спектакля с этой фигурой, она не могла сказать мне, что это имя поэта.
Папа, который был библиотекарем Коммерческого собрания, разрешал мне забираться с ногами в кресло – в это удивительное кожаное оливкового цвета кресло, о котором говорила вся Одесса, – и читать, что я захочу и сколько захочу.
А бывало, он еще заказывал для меня мороженое!
С ногами в кресле, глотая мороженое, я читал Куприна. Я читал «Морскую болезнь». Я не понимал тайн этого рассказа, так как был невинен, но роскошь жизни постигалась мною особенно полно только потому, что я с несомненностью ощущал неизбежность постижения мною в конце концов еще некоей тайны, о которой говорили книги, мороженое, кресло, собственные ноги и горы заката за окном – о, целые горы заката!
Я давно не перечитывал рассказов Конан-Дойля. Где они? Только в истрепанных за годы книгах, которые можно обнаружить лишь случайно, у знакомых.
Я помню, как замирала от восхищения моя сестра даже тогда, когда только пересказывала их содержание.
– Баскервильская собака, – говорила она, глядя мне в глаза своими расширенными, – понимаешь, эта собака…
Я не помню сейчас, что она делала, эта собака. Кажется, одним из ужасов, одной из тайн было то, что у нее из пасти вырывалось светящееся дыхание.
Еще мальчиком, при переходе из одного класса в следующий, я получил в качестве награды книгу, которая называлась «Чудо-богатырь Суворов». Это была толстая дорогая книга в хорошем, красивом переплете, почти шелковом, с изображением, в котором преобладал кармин, какого-то мчащегося воина с пикой, казака. Она мне очень понравилась, эта книга. По всей вероятности, она была составлена в патриотическом духе, снижающем французов Массену и Макдональда и других молодых героев и поднимающем старика Суворова.
Как мне помнится, я мог провести прямую черту, как вертикальную, так и горизонтальную, по бумаге карандашом или пером без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой.
Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал:
– Вот тебе линейка.
И я, помню, ответил:
– Мне не надо линейки.
Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивавшую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови.
Это была юность, сила и будущее.
Теперь я даже не могу провести прямой мысли, как явствует из этого отрывка.
Холода, бывало, уйдут еще не слишком далеко, и поэтому какая-то настороженность не покидает мира, но уже чисто и сухо. И среди этой прибранности природы – пока что только двора, где я провожу каникулы, – приближается Пасха.
Еще несколько дней, и поперек постелей лягут толстые башни только что выпеченных куличей, прикосновение к которым напоминает ладоням прикосновение к песку; еще несколько дней, и в доме появятся гиацинты…
Мы – католики, так что это не совсем наша Пасха; наша Пасха в Варшаве, в Париже, в Риме. Тем не менее у нас есть костел, и восковая кровь на челе Христа, и то нарушение как порядка дня, так и порядка души, которые свойственны этому празднику. Однако хозяева положения, конечно, православные. У них колокола с их гигантскими лопающимися пузырями звука, у них разноцветные яйца, у них христосование… У них солдаты в черных с красными погонами мундирах и горничные с белоснежными платочками в руке, у них Куликово поле со зверинцем. Впрочем, Куликово поле принадлежит всем.
На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге, можно было сбежать и обрывами.
Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами, на них спали внезапно выскакивавшие на вас опасные собаки. Тем не менее обрывы вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки – в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли вас вскрикивать.
Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря… Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли.
Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые, купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортале, взлетали друг другу на плечи – там круглились их икры, – перепрыгивали друг другу через головы. Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на золотом песке, и он протискивался сквозь пальцы.
Одежда их – обыкновенные штаны и белые кучки рубашек – лежала тут же, в песке. Потренировавшись, они убегали в море. Все это было окружено возгласами – теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день.
Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами – халатами, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки… Нет, эти юноши и мальчики были если не любители, то какая-то бедная труппа – сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.
Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство как писание подряд, как бег строчек одна за другой становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи – проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, – не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать – осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело.
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!
Там, у самого начала, стояла не парадно белая мраморная, а скорее, гипсовая арка – как бы часть какого-то виадука. Там, под этими известняковыми сводами, ютились лавочки – скорее, просто продажа чего-то: кваса, пряников, может быть, дешевых ракет.
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!
Сначала папа, двоюродный брат Толя и еще какой-то господин играли у Робина на бильярде и пили пиво. Мне было ужасно приятно смотреть, как они пьют пиво. Мне вовсе не хотелось самому выпить – наоборот, пиво всегда говорило мне о касторке, – но видя, как они топят в стаканах усы, потом вздрагивавшие под тяжестью пены, я завидовал им – мне скорее хотелось стать взрослым.
Неся продолговатую картонную коробку, группа быстро шла по гравию. По тому, как они размахивали руками, как быстро переставляли ноги, как говорили разными голосами, чувствовалось, что совесть у них нечиста, что это – жулики.
Впереди ждал их деревянный непокрытый стол, окруженный толпой детей, среди которых стоял и я.



