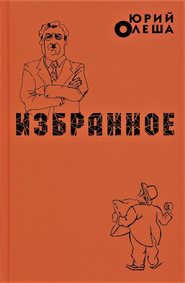
Полная версия:
Избранное
Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь: это сон – и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было: пробуждения не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости.
Меня выбросили.
Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:
– Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)
Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу преследования – я убегал, спасался, – все силы мои напряглись, и сон прервался.
Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видении к другому, и в новом видении главную роль играл избавитель – тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне, – кого обнял я за шею, горько рыдая.
– Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! – лепетал я.
– Положите его головой повыше, – сказал спаситель.
Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо; оно неслось от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руку к ногам. Еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете Скорой помощи, что, пьяному, мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона.
Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.
– Жалкий был вид у вас, – сказал он, – очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол, человек в чужую жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И есть для вас работа: вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?
Какие причины заставили знаменитую личность снизойти настолько к неизвестному, подозрительного вида, молодому человеку?
VВ один вечер открылись две тайны.
– Андрей Петрович, – спросил я, – кто это, в рамке?
На столе у него стоит фотография чернявого юноши.
– Что-с? – он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу. – Что-с? – И он отсутствует еще.
– Кто этот молодой человек?
– А… Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. (Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу, или куплет, или просто мычание. Вот – вместо того чтобы ответить обыкновенной модуляцией: «замечательный молодой человек, он скандирует, почти речитативом произносит: че-лоо-ве-эк!»)
– Чем же он замечателен? – спрашиваю я, мстя озлобленностью тона.
Но он никакой озлобленности не замечает.
– Да нет. Просто молодой человек. Студент. Вы спите на его диване, – сказал он. – Дело в том, что это как бы сын мой. Десять лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал. К отцу. В Муром.
– Ах, вот как…
– Вот-с.
Он встал из-за стола, прошелся.
– Ему восемнадцать лет. Он известный футболист.
(«А, футболист», – подумал я.)
– Что ж, – сказал я, – это и вправду замечательно! Быть известным футболистом – это и вправду большое качество. («Что я говорю?»)
Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове.
– Это совершенно ни на кого не похожий юноша, – вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. (Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным.) – Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно, часто он вспоминает подвиг.) Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. (И он вернулся к столу.)
– Зачем вы подобрали меня и привезли?
– Что-с? А? – Он мычит, через секунду только он услышит мой вопрос. – Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль.
– А диван?
– Что диван?
– А когда вернется ваш юноша…
Он, нисколько не задумываясь, просто и весело отвечал:
– Тогда вам придется диван освободить…
Мне надо встать и побить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он, прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно. Пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам. А потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом.
– Андрей Петрович, – говорю я. – Вы понимаете, что вы сказали? Вы хам!
– Что-с? А? – Мысли его отрываются от бумаги. Сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом.
Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома.
На улице, под балконом, кто-то кричит:
– Андрей!
Он поворачивает голову.
– Андрей!
Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью.
– Андрюша! Дорогой!
Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широкоплечий человек.
– Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвертак»?
(Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.)
Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише:
– Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия».
Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол. Барабанит пальцами по пластине.
– Берегись, Андрей! – слышен крик. – Не заносись! Я погублю тебя, Андрей…
Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город.
– Против кого ты воюешь, негодяй? – говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком. – Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда. Я велю тебя аре-стова-а-ать!
– До свидания, – раздается внизу.
Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок?), вежливость его аффектированна. Андрея на балконе уже нет; человечек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы.
– Вот! – кричит на меня Бабичев. – Вот, полюбуйтесь. Братец мой Иван. Какая сволочь!
Он ходит, кипя, по комнате. И вновь кричит на меня:
– Кто он – Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!
(Чернявый юноша на портрете улыбается. У него плебейское лицо. Он показывает особенно, по-мужски, блестящие зубы. Целую сверкающую клетку зубов выставляет он – как японец.)
VIВечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку.
– Моя молодость совпала с молодостью века, – говорю я.
Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне.
– Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба – правда? – если так совпадает: молодость века и молодость человека.
Слух его реагирует на рифму. Рифма – это смешно для серьезного человека.
– Века – человека! – повторяет он. (А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова, – он не поверит.)
– В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы… У нас нет пути для индивидуального достижения успеха. Правда ведь?
Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова, – ну и звучи. И звучание мое ему не мешает.
В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами… Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то что твоя, – самая замечательная личность – ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю даже так: ну, вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату… Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя… А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям, – вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел.
Он ничего не слышит.
– Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас под подъездом.
– Повесьтесь лучше под подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.
В той комнате, где жил я до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее, как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове на Благовещенском базаре, в голодный год. Баба торговала пирогами. Они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не испустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились, как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в тот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время шло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя.
Теперь я сплю на отличном диване.
Умышленным шевелением я вызываю звон его новых, тугих, девственных пружин. Получаются отдельные, из пружины бегущие, капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство. Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловение от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями и, еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания, – уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плоть, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанные виноградные гроздья; путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной…
Мне двадцать семь лет.
Меняя как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом. В действительности такого сходства нет. Я вспомнил: родительская спальня, и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым, он уже готов, закончен, уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это было сходство форм, – нет, нечто другое: я бы сказал половое сходство: как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции. И как бы кто-то сказал мне: ты готов. Закончен. Ничего больше не будет. Рожай сына.
Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине – плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце – маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.
Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.
Вдова Прокопович – символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалею. А?
Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.
Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!
Я засыпаю на бабичевском диване.
Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем, чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше, – что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит:
– О, не беспокойся. Всего четвертак.
Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках.
– Это французский президент Карно, раненный анархистом, – объяснил мне отец.
Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачарованный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.
Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:
В учрежденье шум и тарарам,Все давно смешалось там:Машинистке Лизочке КапланПодарили барабан…А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:
НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ
И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал – и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление…»
VIIС Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.
Маленький человечек в котелке шел впереди меня.
Сначала я подумал: он спешит, – но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще.
Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.
Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.
Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машину для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался.
«Правда, похоже?» – едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову.
Котелок.
Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке – подушка.
Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом.
Я наблюдаю из-за выступа.
Он позвал вазочку:
– Валя!
Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.
– Валя, – сказал он, – я за тобой пришел.
Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз.
– Смотри, я принес… Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. (Он засмеялся.) Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу «Офелию». Не хочешь?
Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились.
По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути.
– Я прошу тебя, Валя, вернись! Просто: сбеги по лестнице.
Он подождал.
Остановились зеваки.
– Не хочешь? Ну, до свидания.
Он повернулся, поправил котелок и пошел серединой переулка в мою сторону.
– Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!
Он ускорил шаги, побежал. Мимо меня. Я увидел: он не молод. Он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек бежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного.
Окно опустело.
Она бросилась в погоню. Она добежала до угла, – там кончалось безлюдье переулка; она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, текла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав:
– Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.
Вечером я корректирую:
«…Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы – на изготовление съедобных жиров: сала, маргарина, искусственного масла, и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий…»
Он говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:
– Это не жестокость.
Я прислушиваюсь.
– Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, Нет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? – Унижается? Что? Ходит под окнами? – Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю. – Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала. – Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову. Офелия? Какая? А… Плюнь. Офелия – это бред. – Как хочешь. Но я говорю: ты поступаешь правильно. – Да, да. – Что? Подушка? Неужели? (Хохот.) Воображаю. Как? Как? На которой ты спала? Подумаешь. – Что? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения. Что? – Да-да! (Тут он замолчал и долго слушал. Я сидел на угольях. Он разразился хохотом.) Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? Это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании.
VIIIПредставьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.
Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.
– Здорово? – вопрошал он, обращаясь ко всем сразу. – Нет, вы посмотрите… Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните…
Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.
– Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесете, – пусть он посмотрит и звонит мне.
Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.
– Да, да, – ревел он, – да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины. Большая победа… Нет, не полтинник, чудак вы… Полтинник! Хо-хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица!
Он уехал.
Смеющееся лицо – румяный горшок – качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. «Колбаса! – звучит во многих кабинетах. – Именно та… я же говорил вам. Анекдот!..» Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:
– Несут ее вам! Соломон, увидите! Лопнете…
– Еще не принесли? Хо-хо, Соломон…
Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.
Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.
Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала: обладатель руки прислушивался к ощущениям.
– Ах, – вздохнул он, проглотив. – Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда, он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса – знаете, это даже невероятно.
Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.
– Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.



