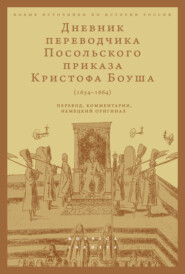
Полная версия:
Дневник переводчика Посольского приказа Кристофа Боуша (1654-1664). Перевод, комментарии, немецкий оригинал
27 апреля вечером около восьми часов Его Царское Величество тайно принял датского посланника Ганса Ольделанда и попрощался с ним. Его Царское Величество ныне совершенно уверился в том, что Его Величество король Дании вынужден был заключить мир сo Шведской короной без ведома и согласия своих союзников в противоречии с заключенным союзом. Его Царское Величество весьма оплакивал эту неудачу своего доброго друга и соседа, не желая, однако, чтобы она заставила его прекратить или хоть в малейшей степени уменьшить добрую ссылку и доверие, которые он имел с Его Величеством королем Дании, и заверяя Его Королевское Величество в своем намерении сохранять их впредь по-прежнему.
30 апреля шведский посол Густав Бьельке со своими товарищами был на переговорах с назначенными боярами и советниками, а именно с ближним боярином и наместником астраханским Никитой Ивановичем Одоевским, боярином и наместником смоленским Петром Васильевичем Шереметевым и т. д. Обе стороны договорились о заключении общего перемирия на условии прекращения боевых действий с 21 мая, так что войска прекратят свое продвижение и крепости, занятые до того, будут неприкосновенны. Комиссарам же с обеих сторон надлежит явиться 12 июня к устью Плюссы на место, отведенное для переговоров, чтобы установить мир по приказу и велению обоих государей, споспешествуя ему во имя Божье. Если же переговоры останутся бесплодными и господа комиссары принуждены будут разойтись, не исполнив своего дела, следует соблюдать нерушимым перемирие, заключенное в Москве, в течение целого месяца после их отъезда с места переговоров, не предпринимая в это время враждебных действий с обеих сторон.
7 мая русские комиссары[237], ближний боярин и наместник астраханский князь Никита Иванович Одоевский, боярин и наместник смоленский Петр Васильевич Шереметев и боярин и наместник муромский Федор Федорович Волконский, думный дьяк Алмаз Иванов и дьяк Иван Патрикеев, равным образом и назначенные комиссарами на переговоры со шведами, были у руки Его Царского Величества в соборе Богоматери в замке[238]. Русские комиссары, назначенные на переговоры с поляками, отбыли в Вильну, другие же – на переговоры со шведами в Ливонию[239].
21 мая король и Польская республика уведомили Его Царское Величество через своего посланника Григория Беницкого[240] о том, что они устроили сейм, от которого намереваются, в соответствии с желанием Его Царского Величества, отправить своих комиссаров, снабженных добрыми полномочиями, в Вильну для переговоров. Равным образом они желали, чтобы и русская сторона наделила комиссаров достаточными полномочиями.
29 мая в Смоленск прибыл боярин и наместник севский князь Юрий Алексеевич Долгоруков, которому надлежало двинуться под Вильну с войском в сорок тысяч человек и ожидать исхода съезда.
10 июня в Борисов из Москвы от Его Царского Величества прибыл дворянин Андрей Самарин. Он привез комиссарам их полномочия и наказ, гласивший, что русским комиссарам надлежит ожидать польских на съезд в Вильне до 5 августа. Если же те не явятся в этот срок, следует вернуться обратно в Москву, генералу Долгорукому же надлежит, соединившись с Волынским и Сукиным в Жемайтии, выступить, с тем чтобы привести оставшуюся часть Великого княжества Литовского под власть Его Царского Величества, сбив с поляков их спесь, дабы они чем скорее, тем лучше, когда все Великое княжество Литовское будет завоевано, отдали корону Его Царскому Величеству.
2 июля Никон, патриарх Московский, отказался от своего епископского сана, поскольку царь не выказывал ему послушания в некоторых вещах, и, покинув патриарший престол, удалился для уединенной жизни в свой новопостроенный монастырь на Истре, называемый Воскресенским[241].
6 июля хорунжий ковенский Николай Скорульский[242] прибыл от генерала Гонсевского посланником к русским комиссарам в Вильну, чтобы узнать, намереваются ли они заключить мир или вести войну и для чего предназначено их сильное войско. Ему ответили, что Вильна принадлежит Его Царскому Величеству и тот может держать на своей земле и почве столько войск, сколько захочет.
11 июля дворянин Денис Астафьев, посланный к великому генералу Сапеге, чтобы побудить его перейти под покровительство Его Царского Величества, прибыл в Вильну, совершенно не преуспев в этом деле, с холодным ответом.
19 июля к русским комиссарам прибыл хорунжий смоленский Парчевский с посольством от генерала Гонсевского и предложением встретиться с генералом Гонсевским для продолжения мирных переговоров, поскольку тот обладает теми же полномочиями и является уполномоченным комиссаром в той же степени, что и прочие, которые до сих пор пребывают в Варшаве до завершения своего сейма и собрания.
22 июля в Вильну прибыл из Варшавы посланец польских комиссаров Иоганн Шембель[243] с известием, что польские комиссары скоро прибудут и уже готовы к выезду из Варшавы.
28 июля в Вильну прибыл из Варшавы посланный из Москвы гонец Ларион Иванов с сообщением, что сейм распущен из-за начавшейся в Варшаве вспышки чумы.
4 августа в Вильну прибыл польский поручик Игнатович, называвшийся также Любаньским, с посольством от генерала Гонсевского. Его не приняли из-за известия о свирепствовавшей в Варшаве чуме.
5 августа комиссары держали совет с генералом Долгоруковым и его товарищами, представив свое предписание, которое явно требовало ожидать польских комиссаров в Вильне до 9 августа. Если же те не появятся до этого срока, комиссарам надлежало возвратиться в Москву, а генералу Долгорукову выступить с войском в Жемайтию. Поскольку, однако, комиссары, послав в Москву многих гонцов, не получили от Его Царского Величества иного приказа, кроме того, что им настойчиво велели не начинать съезд с польскими комиссарами после 5 августа, даже если те прибудут, то было решено известить Его Царское Величество и выступить из Вильны на следующий день. Хотя они уже знали и получили известие о том, что польские комиссары прибыли на расстояние лишь пяти миль, но не могли действовать наперекор предписанию и начать съезд.
6 августа русские комиссары со свитой отбыли из Вильны в Москву, оставив генералу Долгорукову из числа своих сопровождающих полк конницы под началом полковника Штробеля. Долгоруков же в тот же день выступил из своего лагеря под Вильной и направился со всеми своими силами на Ковно, чтобы вторгнуться оттуда в Жемайтию.
19 августа русские комиссары, находясь на Бобре[244], получили посреди ночи приказ из Москвы от Его Царского Величества возвращаться в Вильну и вести переговоры с польскими комиссарами согласно предыдущему наказу. Тот же гонец немедля поскакал в Жемайтию, чтобы отозвать генерала Долгорукова с войском.
29 августа комиссары вновь прибыли в Вильну и нашли это место в крайнем запустении.
31 августа от польских комиссаров прибыли в Вильну Комар, Пузына и Раковский, чтобы условиться с русскими комиссарами о месте и сроке переговоров и заключить предварительное соглашение.
6 сентября польские посланники вновь прибыли в Вильну и заключили предварительное соглашение.
7 сентября дворянин Иван Афанасьев сын Желябовский и писарь Иван Микулин с русской стороны и Ян Пузына и Раковский с польской стороны поклялись о соблюдении предварительного соглашения и пунктов о безопасности.
9 сентября генерал Волынский, 10-го – Долгоруков, 11-го – Сукин вернулись со своими войсками в Вильну из Жемайтии, где они продвинулись до Кейдан, и расположились в своем прежнем лагере под Лукишками.
13 сентября от поляков прибыли каноник Котовский и Матеуш Закревский с вопросом о квартирах[245]. Наши, как прежде, указали им черные избы в Немеже, в двух милях от Вильны.
16 сентября была первая встреча в шатрах, на том же месте, что и два года назад. Стороны, однако, держались с большой неприязнью по отношению друг к другу, в особенности поляки, весьма уязвленные вторжением в Жемайтию несмотря на обещанное перемирие, о котором им сообщил посланный стольник Иван Телепнев. Они весьма порицали вероломство русских, которые якобы под предлогом переговоров вторглись с войском в их земли и нарушили перемирие, а сами, зная об их приезде, отбыли отсюда. В этот раз поляки не желали ни обещать, ни предпринимать ничего важного.
18 сентября следующая встреча равным образом принесла с собой столь много жалоб и возражений, что никак не могли договориться о том, чтобы начать и перейти к настоящему делу. Вместо этого обе стороны расстались неудовлетворенными и намеревались дать знать друг другу о дальнейших встречах.
19 сентября прибыл агент генерала Гонсевского Самуил Венцлавский, прося русских комиссаров о том, чтобы они соизволили встретиться с генералом отдельно. Те вначале решительно отказались, поскольку поляки ни в коем случае не позволили бы этого, и ответили Гонсевскому, чтобы тот явился на переговоры вместе со своими товарищами, другими комиссарами, и помог им установить мир. Наша сторона, однако, сам не знаю почему, возлагала большие надежды на то, что генерал Гонсевский особенно поспособствует передаче Великого княжества Литовского, ради чего и к генералу Сапеге послали из Москвы дворянина Дениса Астафьева, и, вероятно, поскольку Гонсевский изъявил желание вести переговоры отдельно, перейдет на сторону Его Царского Величества с княжеством Жемайтия. В конце концов с его агентом Венцлавским условились о личной безопасности его и прибывших с ним войск и заключили, что генерал прибудет под Вильну с тремястами всадниками и явится для переговоров к каменному мосту на ту сторону реки Вилия.
20 сентября об условиях безопасности между русскими и генералом Гонсевским поклялись дворянин Иван Сильверстов и писарь Василий Мыконкин с русской стороны и два гусарских товарища, Понятовский и Гурский, со стороны генерала.
23 сентября была встреча с польскими комиссарами, которые весьма жаловались на то, что русские желали вступить в отдельные переговоры с генералом Гонсевским, что пришлось им весьма не по нраву.
27 сентября была четвертая встреча с польскими комиссарами, которые в конце концов, после долгих споров, согласились на отдельные переговоры русских с генералом Гонсевским на тех условиях, что прежде двое из их числа переговорят и уладят это с генералом. Обе стороны согласились с этим решением.
28 сентября генерал Гонсевский прибыл под Верки, в миле от Вильны, с отрядом в тысячу всадников. Генерал Долгоруков весьма возражал против этого, жалуясь русским комиссарам, что генералу Гонсевскому позволили расположиться там без ведома и желания его и его товарищей.
29 сентября в ночи поднялась тревога, будто бы генерал Сапега прибыл со своим войском и уже напал на Долгорукова[246].
1 октября боярин князь Федор Федорович Волконский и посольский думный дьяк Алмаз Иванович со стороны русских комиссаров встретились с генералом Гонсевским в шатре на той стороне Вилии у каменного моста[247]. Их спрашивали, какие привилегии и свободы ждут Великое княжество Литовское, если оно, совершенно порвав с Польской короной, отдастся под покровительство Его Царского Величества? Русская же сторона отвечала на это лишь, что Великое княжество Литовское уже полностью завоевано Его Царским Величеством и русским народом мужественным и счастливым образом и должно вечно оставаться в русском государстве в соответствии с его правами и свободами, генералу же надлежит уговорить на это свою армию и перейти с ней под высокую руку Его Царского Величества, за что их ждет великая награда от его щедрот. После этого переговоры завершились ничем. Ни одна из сторон не желала более встречаться подобным образом, расставшись без дальнейших договоренностей.
4 октября состоялась встреча с польскими комиссарами, которая после многих споров, жалоб и возражений также окончилась ничем.
6 октября вновь условились о встрече, но поляки не явились, так что русские комиссары прождали в шатре до вечера и уже собирались отбыть в город, когда от поляков прибыл дворянин по имени Протасевич. Он сообщил от их имени, что они не решаются более явиться для съезда на это место из-за некоторых причин, а именно из-за того, что русские войска стоят слишком близко и генерал Долгоруков ежедневно угрожает польским послам. Поэтому они намеревались перенести шатры на иное, безопасное для них место, попрощаться через своих дворян и затем явиться для дальнейших переговоров, так что русским пришлось вновь отправиться в город, не добившись своего.
8 октября по желанию польских комиссаров шатры были перенесены на другое место, а именно на проселочную дорогу в сторону Лиды, в полумиле от города, в местности, которую занял со своими войсками генерал Сапега, о чем русские комиссары не знали. Комиссары с обеих сторон встретились там в самом ожесточенном настроении, так что все войско Сапеги тотчас же предстало в полном боевом порядке на ровном поле, где прежде стояли шатры. Комиссары мало говорили о мире, но лишь об открытой войне и мести и разошлись в несогласии.
9 октября устроили седьмую встречу, чтобы изыскать, осталось ли еще довольно средств, чтобы добиться чего-либо путного и удержать в этот раз войска друг против друга без пролития крови. Поскольку, однако, после кратких переговоров казалось, что надежды нет, и русские войска и армия Сапеги выступили в поле и построились по обе стороны от шатра в боевом порядке. На этом съезд был распущен, не принеся плодов. Шатры свернули в величайшей спешке, и комиссары расстались в великом страхе, не попрощавшись друг с другом. Войска же после отъезда комиссаров несколько часов показывали себя в поле друг против друга, но никто не хотел начинать битву первым. В конце концов они вынуждены были в этот раз отступить в лагерь, не дав волю своей вражде.
В тот же вечер генерал Гонсевский отправил к русским комиссарам посланника Лоховского, чтобы узнать, не решились ли они еще раз явиться для съезда с ним. Генералу Гонсевскому не только отказали в этом, но и недвусмысленно передали, что данное ему обещание безопасности более не имеет силы, поскольку польская сторона во всем действовала наперекор, так что ему следует убираться отсюда чем скорее, тем лучше, ибо генерал Долгоруков ни в коем случае не потерпит дольше его присутствия. С этим Лоховский ускакал к генералу Гонсевскому, наши же перепугались настолько, что намеревались требовать охрану у генерала Сапеги и вымаливать у поляков свободный выезд в соответствии с клятвами о безопасности. Однако воевода Долгоруков не дал им знать о своих намерениях.
В ночь с 10 на 11 октября генерал Долгоруков двинулся на лагерь генерала Гонсевского и, хотя поляки мужественно защищались, преуспел после короткой стычки, к полудню взяв в плен генерала Гонсевского, заняв его лагерь и разгромив все сопровождавшие его войска численностью в полторы тысячи всадников. Около шестисот человек остались мертвыми на поле боя, около семидесяти знатных офицеров и товарищей[248] были взяты в плен вместе с генералом.
19 октября, после того как генерал Сапега со своим войском также отступил от Виленских полей и укрылся в укрепленных местах, русские комиссары, а с ними и генерал Долгоруков со своей соединенной армией отошли от Вильны, опасаясь нападения сапежинцев, и, пока те медлили у Ошмян, направились через Сморгонь, Радошковичи и Логойск к Борисову. Во время похода, пока не прибыли в Борисов, постоянно были в непрерывной тревоге, поскольку войска Сапеги теснили наших со всех сторон и многие столь устали, что отставали, а также погибали от рук неприятеля в разъездах за пропитанием.
30 октября генерал Долгоруков подошел к Борисову, ведя с собой пленного генерала Гонсевского и всех людей, захваченных вместе с ним. За ним уже после захода солнца последовал младший генерал[249] Осип Сукин с арьергардом, состоявших из двух полков конницы, одного полка драгун и одного полка пехоты.
8 ноября русские комиссары прибыли в Оршу, где встретили гонца Богуслава Сварацкого с письмами от польских комиссаров, которые весьма оплакивали несправедливость, допущенную по отношению к генералу Гонсевскому. Они требовали его освобождения, поскольку он, доверившись клятве, находился под Вильной в качестве комиссара без войск лишь со своим отрядом и желал в соответствии с клятвой, обеспечивавшей его безопасность, предотвратить дальнейшее кровопролитие. Этот гонец, однако, принужден был сопровождать русских до Смоленска и был отпущен оттуда с отрицательным ответом.
20 декабря комиссар и великий и полномочный посол, боярин и наместник тверской Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин и наместник шацкий Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, стольник и наместник елатомский Иван Афанасьевич Прончищев и дьяки Герасим Дохтуров и Ефим Юрьев с русской стороны, барон Фресветтен, советник и надворный судья Его Королевского Величества и его шведского государства, а также Бенгт Хорн, барон Оминне, господин Экебюхольма, Мустилы и Виха, генерал-майор пехоты Его Королевского Величества и губернатор Ревеля и Эстонии; господин Иоганн Зильберштерн, барон Ледгенен и Нигален, надворный советник Его Королевского Величества; господин фон Крузенштерн, барон Виммен[250], надворный советник Его Королевского Величества и бургграф Нарвы со шведской стороны заключили в Валиесаре трехлетнее перемирие между Москвой и Швецией.
27 декабря в Москву доставили пленного литовского генерала Гонсевского вместе с другими пленниками из его войска при большом стечении простого люда и всеобщем ликовании, не выказывая ему никакого почтения в сравнении с остальными. Его содержали и относились к нему наравне со всеми прочими, и сам он не требовал для себя ничего особенного.
Дополнение к 1658 году
Его Величество, король Шведский Карл Густав, покинув Польшу и прибыв в Голштинию, восстановил свои силы в Дании, перешел через замерзший Бельт и после весьма короткого сопротивления завоевал Фюн и Сконе. В конце концов он вступил в Зеландию с армией, весьма усилившейся за счет насильно набранных в нее датских войск, и принудил Датскую корону к миру, который был устроен по прошествии нескольких часов во Фридрихе, тотчас заверен Его Величеством королем Дании и вступил в силу без ведома и согласия союзников[251].
Литовские дворяне и многие из запорожских казаков, понуждаемые жестокостью и бесчеловечным обращением со стороны губернаторов и воевод к неверности русским, не могли более терпеть невыносимое иго и бежали толпами к своим прежним властям, умоляя о прощении и милостивом забвении совершенных ошибок, каковое им весьма охотно давали по княжескому милосердию и доброте. Татары также начали искать поводы к вражде с русскими, поскольку и их уже раздражала гордость тех и нечеловеческое коварство. Они требовали запретить донским казакам набеги вниз по реке Дон на собственные и турецкие границы. В противном случае они собирались ответить силой на силу и встретить своих друзей так, чтобы те узнали, что они ни в чем не уступают своим предкам, жившим за сотню лет до того.
Польская корона в этом году несколько собралась с силами и вскоре начала снова распрямлять утомленные и совершенно уже расслабленные члены против своего врага и отвоевывать потерянные города. Литовский генерал Павел Сапега отбил у русских Новогрудок и Гродно[252]. Дворяне и простой люд Минской области свергли русского воеводу и уничтожили гарнизон, предав минский замок литовским войскам. Жемайтийцы провели всю зиму[253] под замком Ковно, но принуждены были отступить в беспорядке, оставив крепость в руках русских.
Шведский фельдмаршал граф Дуглас действовал со своей армией в Курляндии, предпринимая многие вылазки в Жемайтию. Поляки, однако, не желая уступать, вначале разорили Курляндию и в конце концов переправились через Двину в Ливонию и завоевали Вольмар. Генерал Дуглас же, не имея возможности победить поляков, обратил свои ухищрения против невинного герцога Курляндии и, пообещав ему нейтралитет, потребовал добровольную дань с его герцогства, подкрепляя это многими ложными свидетельствами и письмами. Он хитростью овладел замком в Митаве, сделал своими пленниками Его Княжескую Милость с супругой, принцами и принцессами, разграбив всю их казну и имущество, и отослал их со всеми их дворянами, которых он захватил, в плен в Ригу. Там они пребывали под стражей вплоть до заключения в Оливе мира между поляками и шведами[254]. Наконец, он завоевал Голдинген в Курляндии. Бауск и другие маленькие замки вынуждены были сдаться ему, частью по принуждению, частью из-за измены. Там он приобрел большие сокровища, поскольку в это военное время дворяне свозили все свое имущество в замки, которые были достаточно безопасны из-за нейтралитета, обещанного многими государями. Наибольшие богатства, принадлежавшие Его Княжеской Милости и дворянам, они нашли в Митаве.
Генерал-цейхмейстер Комаровский принял командование над армией генерала Гонсевского, когда тот попал в плен к русским, и нанес генералу Дугласу большой ущерб во многих крепостях на вылазках и в открытом сражении, совершенно измотав шведов в Курляндии и принудив их отступить. Поляки же, достаточно оправившись, разорили и разграбили всю страну много хуже врага, вычистив все до крошки.
1659 год
3 января в Москву из Ливонии прибыли комиссары, заключившие перемирие со шведами. Его Царское Величество принял их в предместье за Тверскими воротами.
12 января у руки Его Царского Величества был боярин и воевода казанский князь Алексей Никитич Трубецкой со своими товарищами. Их отправили с мощным войском на Украину, чтобы успокоить растущие несогласия между запорожскими казаками и призвать генерала Выговского к исполнению его обязанностей.
31 января у руки Его Царского Величества был поручик Михайло Майоров. Ему надлежало отправиться в Швецию с грамотой Его Царского Величества к Его Королевскому Величеству и объявить, что великие послы с обеих сторон должны явиться в назначенный срок для подтверждения договора о перемирии, заключенного в Валиесаре.
2 февраля боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков получил за победу под Вильной великую награду из казны Его Царского Величества, а именно шесть тысяч рейхсталеров наличными, много ценных соболиных шуб и серебряной посуды еще на тысячу дукатов, а также двести крепостных в вечное владение себе и своим наследникам.
6 февраля Его Царское Величество велел выехать в Швецию великими послами для утверждения договора о перемирии думному дворянину и наместнику шацкому Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину, дворянину и наместнику кадомскому Богдану Ивановичу Нащокину, дьяку Герасиму Семенову сыну Дохтурову и Ефиму Юрьеву.
9 февраля прибыл в Москву стрелецкий голова Абрам Лопухин, посланный к запорожскому генералу Выговскому, и доложил о его недовольстве и дурных намерениях. Тот передал, что губернаторы и воеводы ни в чем не соблюдают условия, обещанные ему Его Царским Величеством в отношении казацкой вольности, а, напротив, всячески нарушают и отступают от них.
25 марта на приеме у Его Царского Величества были вновь прибывшие посланники, а именно датский посланник господин Ольделанд и бранденбургский посланник[255].
26 марта для переговоров пригласили датского посланника. Ему пришлось совсем не по нраву, что Москва заключила перемирие со Шведской короной в противоречие с устроенным с Данией союзом. Поскольку, однако, король Дании год назад поступил таким же образом, с этим пришлось смириться. Вечером его тайно принял Его Царское Величество, объявив свои дружеские чувства по отношению к Его Величеству королю Дании как к своему другу и соседу[256].
9 мая мирно и кротко упокоилась в Бозе царевна Анна Алексеевна, бывшая на четвертом году своей жизни. Ее предали земле в тот же день, поскольку в этой стране не сохраняют тела на протяжении долгого времени, в Вознесенском монастыре[257], где погребают всех девиц царского рода, совершенно скромно и без какой-либо роскоши по местному обычаю.
16 мая попрощались с датским посланником Ольделандом.
13 июня на дворе Шеина в Китай-городе возник пожар, уничтоживший более тысячи дворов богатых бояр.
22 июня на приеме у Его Царского Величества был шведский секретарь Адам Мюллер[258]. Он сообщил, что шведские великие послы готовы прибыть в Москву с подтверждением Его Королевского Величества относительно перемирия в Валиесаре и что Его Царскому Величеству остается лишь отправить таким же образом своих великих и полномочных послов.
8 августа русские великие послы прибыли в город, называемый русскими Царевичев-Дмитриев[259], встретив там думного дворянина и губернатора пограничных ливонских городов Нащокина.
4 сентября в Кокенгаузен из Риги прибыл поручик Адам Кивиц с письмами от шведских комиссаров. Он сообщил, что шведы готовы встретиться на границе, в соответствии с мирным договором в Валиесаре[260], предоставить и увидеть воочию утвержденные грамоты и продолжить свой путь в Москву к Его Царскому Величеству. Для этого в Риге уже приготовили корабль для переправы русских комиссаров, но те, страшась моря, не имели охоты отправиться с утвержденной грамотой от Его Царского Величества к Его Величеству королю Швеции.

