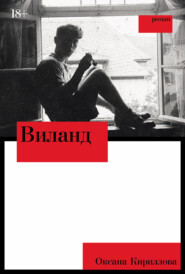
Полная версия:
Виланд
Жаль, что мне не забыть об этом, в отличие от них, кричавших «никогда не забудем». Хотел бы, отчаянно жаждал, но не способен. Я, как евреи, не забываю. А евреям нужно отдать должное. Виртуозы. Все свели исключительно к себе. В лагерях сгинули коммунисты, социалисты, гомосексуалисты, политически неблагонадежные, цыгане, поляки, русские, черт, да кто там только не сгинул, долгое время евреи даже не составляли большинства среди заключенных. Но останови сейчас любого на улице и скажи ему «концлагерь», он в ответ бросит «евреи». Эта короткая ассоциативная цепочка прочно обвила людское сознание. В массовом восприятии общий геноцид, о котором говорилось в Нюрнберге, постепенно истаял до одного лишь холокоста. В Нюрнберге они были одними из, но позже затмили собой других напрочь, всё замкнули на себе и прочно заняли нишу мученичества, не позволяя кому-либо еще претендовать на нее. Сцена страданий стала принадлежать лишь им.
И вся суть того периода свелась лишь к одному горькому пониманию – мы верили, трудились и закладывали свои души лишь для того, чтобы впоследствии отчаянно разочароваться. Сейчас любое воспоминание тех вымороченных, безнадежных лет вызывает во мне не гордость, в которой я тогда пребывал, но болезненные ощущения. «Вымороченные, безнадежные годы» – как страшно говорить так о своей молодости, надеждах и истовой вере, о том, что тогда казалось поворотным моментом истории, пиком всего человеческого существования и свершением чего-то грандиозного. Еще страшнее… не признать этого. Есть и такие, кто не способен сделать этого до сих пор, как и тогда находились такие, кто еще на заре происходившего осознал, что нация не воспаряет, но летит в пропасть. Да, были примерившие на себя роль непрошеной совести, насмехавшиеся над триумфом, который все мы интуитивно предчувствовали. Я ненавидел их тогда. Я ненавидел собственного отца. Я был прилежным, педантичным и верным исполнителем, что вызывало у него лишь насмешку. «Покорность, возведенная в ранг добродетели, – суть и основа диктаторского государства, которое всех нас погубит» – кажется, так он тогда сказал мне. Но по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью. За идеи, которым был предан, я готов был работать без устали, не жалея себя, потому что у меня были идеалы, видит бог! Ради них я готов был пожертвовать собственной жизнью без раздумий. А вместо этого жертвовал чужими жизнями. Также, впрочем, без раздумий. Но это не шло вразрез с законом, ибо закон сказал вначале: «Можно». А затем: «Нужно!» Тем самым превратив нынешних патриотов и законопослушных граждан в будущих преступников. Необходимо понимать, что новое клеймо прилепили новые обстоятельства, понимаете? То, что считалось законом, потом стало злодеянием. Так сложилось. Вот и все. Мне просто чертовски не повезло – я родился не в том месте не в то время. Кстати, я не один в своем убеждении касательно невезения. «Гражданину, у которого хорошее правительство, повезло, гражданину, у которого правительство плохое, не повезло. Мне удача не сопутствовала» – так говорил на суде и Эйхман. Что ж, не раскаялся, но хотя бы пожалел.
Черт бы побрал эту немощь, даже усмехнуться больно. Без ложной скромности скажу, я был талантлив, да, определенно талантлив, сообразителен, исполнителен, энергичен, я обладал всеми качествами, чтобы сделать блестящую карьеру. И что же? Все это было бездарно сожрано реалиями времени и места и похоронено под толстым слоем мирового осуждения и презрения. Да, не повезло. Говорил уже? Возраст, ничего не попишешь. Я думал, что рожден для того, чтобы построить мир, в котором хочется жить и любить, заложить фундамент безбрежного счастья для своих детей, а вместо этого стал архитектором могильника, с которого кровь стекала потоками. Разрушенные и горящие дома, невспаханные поля, разлагающиеся трупы, люди, потерявшие веру во все, живущие ожиданием скорой и неизбежной смерти, – вот мои достижения. Если уж на то пошло – будь моя воля, я бы никогда не родился. Но нет на такое воли нашей, без спросу выплевывают в эту жизнь. Нашей воли ни на что, собственно, не было, ни на жизнь, ни тем более на смерть. И я говорю не только о выборе, умирать ли, но и о выборе, убивать или нет. Это много страшнее собственной смерти. Когда ты не убийца по сути своей, но руки твои по локоть в крови. Ведь с этим надо жить. Хоть бы и по приказу. Только оглянувшись назад, можно увидеть, где свернул не туда. Ведь дело в том, что тогда история еще не рассудила, а творилась. Момент тонкий. Это для вас Гитлер теперь как некая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла, понятного лишь по прошествии десятилетий. Для нас он был реальным человеком, нашим избранным правителем, способным одним лишь словом вознести или уничтожить – действительным образом влиять на наши жизни здесь и сейчас, понимаете? Сложно все проанализировать и понять «во время», а не «спустя». Такой проницательностью немногие могут похвастаться, а ведь к этой проницательности необходима еще и какая-никакая смелость. Впрочем, это проблема всех времен, даже тех, когда существует видимость выбора.
Но снова подчеркиваю, что это не попытка оправдаться, я не на суде, и надо мной не завис карательный меч, от которого надо увертываться. Напротив, я в теплой и чистой койке, и за мной заботливо ухаживают, так что есть время поразмыслить: действительно, какого черта я исполнял те приказы, преступные по своей сути? Почему только теперь понял, что они нарушали все законы человеческого бытия? Ломали всякую нормальность того, что мы называем цивилизацией? Почему только время и итоги способны развеять наши заблуждения, что то был триумф, а не время попустительства и слепоты? Но я продолжаю рассуждать дальше: да, на своем уровне я подчинялся приказу, уровнем выше тоже были приказы, но если дойти до вершины этой страшной пирамиды, то там будет лишь… пустота. Теперь уже нам известно, что он сознательно никогда не давал четких приказов уничтожать столько и так. Он лишь рисовал картину идеального в его понимании мира, а свита кидалась претворять ту картину в жизнь способами… разными способами, сообразными их возможностям и фантазии. И поскольку та картина идеального мира отменяла существование миллионов людей, то эти способы были страшными. Он обсуждал цели, но от их реализации абстрагировался, заставив свою свиту осознать, что залог успеха не только в выполнении приказов, но и в их предвосхищении. А потому это зло растекалось от всех них… нас, с самого верха до самого низа, оно было общим, от каждого по вкладу согласно должности и чину, что вместе явило миру нечто неимоверное в своей ужасности и огромности. Оно не могло быть плодом мысли и действий лишь одного человека. Либо не человека вовсе, а истинного дьявола во плоти. Но, узрев, весь мир вздрогнул, ошибочно судив, что все это идет от него и только от него, и наделил его поистине дьявольской личиной и мифологизировал, табуировав даже имя его. Но он был настолько обычен, мелок, малодушен и труслив, что боялся даже произнести вслух то, что претворилось в жизнь от его имени, но нашими силами – силами обыкновенных людей, которые не были ни злыми по своей сущности, ни тем более убийцами. Не погрешу, если скажу, что он и не знал тонкостей, что да как там происходило в тех душевых. Понимаете? Не он сыпал гранулы в трубу, не он закрывал заслонку, его там никогда и не было. Это делали те, кто уверовал в то, что правда за ним. Человек убивал человека по слову другого человека – вот что в сухом схематичном остатке. Как и всегда, на протяжении истории всего того человека. И оттого тошно, что схема-то немудреная, а видишь, попался на нее, как болван необразованный. А ведь был неглуп, да, совсем неглуп. Но попался, черт бы побрал, попался! Как и тысячу лет до того человек попадался.
Как же горько осознавать, что моя жизнь пошла под откос, потому что я уверовал в обычного провокатора, сумевшего прорваться наверх. В этом суть зла – оно до тошноты обыденное, трусливое, сонное и ленивое. Нужно признать, что в Нюрнберге на скамье подсудимых мир ожидал увидеть высокорослых светловолосых монстров, с кровью в глазах, в которых навсегда застыло надменное господское выражение, со сжатыми кулаками, с набухшими жилами, возможно, даже с пеной у рта, страшных, психически больных людей, извращенцев с явной садистской патологией. Вместо этого мир увидел самых обыкновенных людей, со своими проблемами, страхами и недомоганиями, с расстроенным стулом, неприятным запахом изо рта, плохим зрением и выпадающими от нервов волосами, стареющих, с незаладившейся карьерой, не представляющих, что их ждет, и от этого еще активнее портящих воздух. И у половины из них были степени докторов, полученные в лучших и старейших университетах Европы. В конечном итоге люди увидели таких же, как они сами. И вот эти-то обыкновенность и посредственность делали ситуацию еще страшнее. Ведь если они такие же, как и все, то не способны ли и все на то, что делали они, в соответствующих обстоятельствах? Задавайте себе этот вопрос почаще. Ведь беда в том, что ни одна кара, ни одно решение какого-то суда никогда не обретут абсолютную сдерживающую силу, необходимую для предотвращения злодеяния, уже когда-либо случившегося на этой земле. Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека. И, несмотря на все нелепые потуги Гиммлера, страдавшего тягой к мистицизму и недугом «великой избранности», в СС не было ничего инфернального. Вопреки общему восприятию, массовое уничтожение не было каким-то страшным судом над неугодными. Все было до тошнотворности буднично и регулировалось исключительно с практической точки зрения. Мы пришли к тому, что всего лишь решали вопросы экономического и социального характера, возможно, еще земельного, что, правда, можно отнести к экономическому сектору. Не более. Закупки сотен килограммов «Циклона Б»[6] шли в накладных рядом с канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Истребление целого народа стало делом рутинным и, пожалуй, само собой разумеющимся. Никто не осознавал, что поступает неправильно, потому что все происходящее стало новой обыденностью. Нормой, если угодно. И неудобный факт таков: самые ужасные преступления в истории человечества на счету не кровавых маньяков и умалишенных убийц, а простых интеллигентных людей, получивших достойные по меркам своего времени воспитание и образование. Не демоны, не вампиры, не людоеды, не ведьмы и даже не психически больные, увы. Самые обычные люди, жившие по перевранным понятиям: мы не уничтожали, не истребляли, не воевали – но проводили «чистки», «особые акции», «умиротворение недовольных», «борьбу с партизанами», «реализовывали свое природное право на Востоке», действовали в рамках «особого режима», по «особому приказу», «решали еврейский вопрос». Такая подмена понятий помогала верить, что наш образ мыслей и наши действия по-прежнему соответствуют всем нормам права. Так же как и везде, от нас требовали высоких показателей, и мы их давали, полагая, что труд всякий бывает. А потом цифры, факты, методы, весь масштаб содеянного тобою вскрывают, словно гнойный нарыв, смердящий за многие километры. И только тогда все осознаешь. Но с убийственной четкостью осознаешь лишь итоги, не умея понять и объяснить причины или хоть немного приблизиться к их логическому обоснованию.
Были хотя бы единичные проблески в нашем сознании? Очевидно, что-то было. Я помню доктора Зиверса, секретаря «Аненербе» – общества, изучавшего древнюю германскую историю, он подбирал в Аушвице для профессора Августа Хирта заключенных, которым предстояло стать частью анатомической коллекции в институте в Страсбурге. Изучив черепа этих заключенных, профессор Хирт должен был дать детальную характеристику «еврейско-большевистским человекоподобным существам» и подготовить материал для школьных пособий. Та идея была горячо поддержана самим Гиммлером, а потому я тогда помогал Зиверсу в организации транспорта. Мне прислали подробные указания по транспортировке: голова заключенного не должна была ни в коем случае быть повреждена, ее следовало аккуратно отделить и прислать в специальном жестяном ящике, заполненном жидкостью, исключающей процессы гниения. Каждый образец должна была сопровождать подробная анкета, содержащая данные о месте и времени сбора материала, антропометрические данные, дату рождения и все прочее, что можно было установить, а также, по возможности, предварительно сделанные снимки. К счастью, я тогда отвлекся на исполнение другого распоряжения и не успел отправить эти инструкции в Аушвиц, так как спустя несколько дней Зиверс сообщил мне, что профессор Хирт передумал насчет транспортировки, теперь он хотел, чтобы бо́льшую часть пути материал преодолел «в первоначальном виде». Признаться, я тогда несколько растерялся, не понимая, что имелось в виду. «Живыми, – уточнил Зиверс, видя мое замешательство, – привезем их в Нацвайлер, а там уже заспиртуем и расфасуем под личным руководством профессора». В итоге сто пятнадцать человек – семьдесят девять евреев, тридцать евреек, два поляка и четыре среднеазиата, каждый с подробной спецификацией, – отправились в лагерь Нацвайлер, что недалеко от Страсбурга, «в первоначальном виде». Так вот, уже уходя, Зиверс сказал мне словно между делом, но сейчас понимаю, что это было главное: «Они еще где-то ходят, дышат, а для них уже подготовлены застекленные тумбы и таблички с описанием костей. Черт бы меня побрал, если это когда-нибудь уложится в голове…» И он повел своими залихватскими усами, гордо топорщившимися в стороны, подкрученными и густо сдобренными блестящим воском, который позволял им весь день держать свою смехотворную форму. На процессе в Нюрнберге эти усы уже, конечно, не выглядели столь роскошно. Тогда британский обвинитель Джонс изрядно попотел, пытаясь взять Зиверса за эти самые усы и за жабры заодно, но тот, словно угорь, ловко ускользал от всех неудобных вопросов, ссылаясь на плохую память и невозможность восстановить детали дела. Он с тупым упрямством доказывал, что не помнит о важных мероприятиях военного периода, одновременно с легкостью вспоминая незначительные события, случившиеся до войны. Тем самым он выдавал себя с потрохами, но, в общем-то, это была единственно верная линия защиты для тех, кто еще питал какие-то надежды в Нюрнберге. С проклятой отчетливостью осознав, что натворили, все с яростью кинулись искать формальные оправдания, чтобы не получить приговор от мира и в первую очередь не вынести его самим себе.
И тут у угрей, сидевших на скамьях Нюрнберга, проявилась еще одна любопытная черта – менять свою значимость в зависимости от обстоятельств. Вначале все стремились перещеголять друг друга в цифрах, после – в их преуменьшении. Насколько важными и влиятельными персонажами все желали казаться прежде, настолько громко кричали о преувеличении собственной роли в залах суда. Так и Зиверс: «Я лишь передавал приказы и распоряжения дальше, пересылал отчеты, не вдаваясь в подробности. Я не мог иметь своего мнения в этом вопросе. Я не имел никакого отношения к непосредственному убийству тех людей. Я выполнял роль почтальона. Я уже не помню…» А между тем штандартенфюрер СС Вольфрам Зиверс был единственным человеком, который каким-то непостижимым образом умудрился пережить глобальную чистку «Аненербе» в тридцать седьмом, когда полетели головы всех, вплоть до руководителя общества доктора Германа Феликса Вирта. Зиверс же не только сохранил свою должность, но и пошел в гору. Гиммлер лично поручил ему создать и возглавить при «Аненербе» Институт военных исследований, который должен был взять на себя создание всей технической и хозяйственной базы, необходимой для исследовательских лабораторий в концлагерях. Я готов дать руку на отсечение, что Зиверс до самой последней минуты своей никчемной жизни помнил все детали, даже самые незначительные. Хотел бы забыть, но не мог. Как и все мы. Как и все, он пытался убедить обвинителей, что был лишь частью механизма, выполняя какую-то роль пересыльного, снабженца, производителя, доставщика, роль, которая ничего не значила, и, откажись он ее выполнять, ничего бы не изменилось. «Всего лишь звание, всего лишь должность, никакой реальной власти, я лишь винтик… Я лишь перевез тела… Я лишь доставил печи… Я лишь произвел синильную кислоту… Я лишь сконструировал газваген…[7] Я лишь предоставил помещение…» Понимаете, роль была у всех, к слову, не только у немцев, но каждый утверждал, что именно он не нес конечной ответственности, поскольку и без его вклада случилось бы то, что случилось. «Я лишь сопровождал поезд до польской границы, а там уже транспорт переходил в немецкие руки. Что они с ними делали далее, не ведаю…» – так говорил словацкий солдат Глинковой гвардии, тоже винтик без персональной ответственности, не забывший, правда, по пути до этой границы отобрать у евреев все самое ценное. Тот самый, который, по воспоминаниям одной словацкой еврейки, испражнялся на пол, а потом заставлял их убирать это голыми руками, приговаривая: «Мы научим вас, еврейских шлюх, работать».
Вершиной этого «я лишь» были слова Эйхмана на собственном процессе касательно той самой конференции в Ванзее[8] в январе сорок второго, запустившей историю нашей нации в обратном направлении. «Я молча сидел там со стенографисткой в углу, и никто о нас не побеспокоился, никто. Мы были слишком маленькими людьми». Великий архитектор механизма «окончательного решения», один из главных нацистских преступников приравнял себя к стенографистке. Я бы рассмеялся, если б не чертова боль в груди.
А как вам интервью бывшего начальника одной из канцелярий Рейхсбана[9] на востоке в нашумевшем документальном фильме?[10] Он занимался планированием железнодорожных маршрутов. Железные дороги Восточного фронта в разгар войны – знаете, что это значит? Он был вершителем сотен тысяч судеб. Своего рода царь на местах. Мощный винтик механизма, скажу я вам. Такой винтик не мог не знать. Но он настаивал: «Я всего лишь занимался координацией движения поездов. Были среди них и специальные, да, но я понятия не имел, кто в них. Моей задачей было скоординировать их путь из точки А в точку Б. Откуда мне было знать, что точка А – это дом, из которого их увезли насильно, а Б – лагерь, в котором их ждет газовая камера? Я был всего лишь простым чиновником в департаменте по планированию маршрутов. Шла война, понимаете, а после, когда все раскрылось, это стало для меня полнейшей неожиданностью, я не имел ни малейшего…» Ни малейшего, понимаете? Каждый день он переводил стрелки на своей подотчетной железной дороге в сторону лагеря, отправляя туда тысячи узников, каждый день с осознанием того, что происходит, с осознанием того, что он непосредственно причастен к этому, упокой, господи, идиота. Ему тоже пришлось нелегко, еще один калека нашего восхождения. Как он сказал, «специальные»? А другие их называли «поезда смерти» – те, другие, кто ехал в них. Но в одном тот царек, быстро отрекшийся от своего железнодорожного престола, был прав – ему пришлось складывать путевой пазл изо всех поездов, и из обычных пассажирских, и из «специальных». Всеми ведала самая обычная транспортная компания – «Центральноевропейское трансагентство» – та самая, в которой мы с тетей Ильзой покупали билеты на отдых в Бад-Хомбург. Кто-то в лагеря смерти, а кто-то на лечебные курорты, и все через одно агентство. Цинично? Удобно. Что ж, железнодорожный царек выкрутился, переведя стрелки. Сила профессиональной привычки, если позволите такой каламбур. На вопрос «А кто знал?» его стрелка указала на Эйхмана. Но тому, в принципе, должно было быть все равно – стрелкой больше, стрелкой меньше, когда на тебя устремлены копья всего послевоенного мира. Отчаянно отбиваясь от них на собственном процессе, Эйхман тоже заверял, что не отдавал ни приказаний, ни распоряжений, не указывал, кого гнать в газ, а кого расстреливать. «С этим я никогда, никогда, никогда, никогда дела не имел», – заверил он суд. И ведь не соврал: затворку в душевую он «никогда, никогда, никогда» не открывал, «Циклон» не закидывал, это верно. Просто усердно гнал эшелон за эшелоном со всей Европы. А потом, спустя годы, заявил в глаза дознавателю Авнеру Лессу, чей отец, фронтовик Первой мировой, кавалер ордена Железного креста, был умерщвлен в газовой камере Аушвица: «Мы же с этим не имели никакого дела, совершенно никакого. Мы не имели с этим никакого дела», – будто Лесс не понимал с первого раза, – «нисколько, нисколько, нисколько… Это же ужасно, что там делалось… Как же можно вот так просто палить в женщин и детей? Как это возможно? Ведь нельзя же… Я был сыт по горло таким заданием! Доложил группенфюреру Мюллеру: это не решение еврейского вопроса… Пожалуйста, не посылайте меня туда. Пошлите кого-нибудь другого, кто покрепче. Ведь хватает других, кто может на это смотреть, кто не свалится в обморок. А я не могу такое видеть, я ночью не сплю…»
Тут Эйхман не врал, таких действительно хватало, кто не валился в обморок. Я, например. Даже в свой первый раз. Стоял и смотрел, борясь с дурнотой, подкатившей к горлу, а позже и того не было. Были мысли исключительно об отчете, который мне предстояло подготовить. Возможности своего вестибулярного аппарата Эйхман тоже, конечно, принизил. Он был крепким парнем. Лживым, как оказалось, но крепким. «Заказ ста килограммов синильной кислоты – никакого, никакого понятия не имею! Я не знаю об этом, не знаю!» «Может, Гюнтер заказал?» – услужливо подсказывали бывшему оберштурмбаннфюреру на процессе. И он, как ребенок, радостно хватался за эту соломинку. Конечно же, это Рольф Гюнтер, его сотрудник, заказал почти центнер яда у главного гигиениста рейха доктора Герштейна, руководителя технической службы дезинфекции в Главном управлении СС. Но дело в том, что Гюнтер без ведома Эйхмана и опорожниться не смел, не то чтоб по собственной инициативе заказать такое количество яда. В принципе, не мне осуждать Эйхмана: он пытался спасти свою шкуру, но как-то слишком уж нелепо у него выходило. Неужели у него была хоть капля надежды на то, что он выберется из этой передряги живым? Что евреи дадут ему и дальше дышать тем же воздухом, что и они? Дурак. Шансов на том представлении у него не было: все свидетели защиты – немцы были исключены, ведь, ступи кто-то из них на землю обетованную, их бы тут же арестовали и судили вместе с Эйхманом. Большинство свидетелей обвинения были евреи из Израиля, и тут был элемент шоу, ведь всех их отбирали по заявкам, которых были сотни. Каждый жаждал личного триумфа справедливости над «исчадием ада». Но где они его искали? В суде? Серьезно? Если я что и понял наверняка в своей бесцельно прожитой жизни, так это то, что суд человеческий – гнилое заведение, не дай вам бог попасть туда, потому как правосудие – это последнее, что влияет на приговор в этой конторе, и это одинаково погано как для подсудимого, так и для остальных сопричастных, им же потом с этим жить. Я знаю, что говорю. Но продолжим: еще пятьдесят три человека приехали на суд из Польши и Литвы, я специально это подчеркиваю, ведь именно там Эйхман фактически не имел никаких полномочий. Что могли рассказать те пятьдесят три человека? О своей боли, ужасе пережитых страданий? Безусловно. О непосредственной вине Эйхмана? Уверен, половина из них даже не знала о нем в то время, когда все происходило. Им нужно было выплеснуть свою боль, и не важно, кто сидел на скамье подсудимых: Эйхман ли, Гиммлер, Хёсс, Гитлер… я. Им нужно было еще раз проговорить это: нельзя было переживать молча то, что с ними случилось. Я молчал – ничего хорошего из этого не вышло. Надеюсь, ни у кого не повернулся язык укорить их в показаниях, совершенно не относящихся к делу. У них было право на тот грандиозный сеанс психотерапии. И это самое большее, что мог дать им тот суд. В конце концов, не думает же кто-то, что хоть один из них мог удовлетвориться смертной казнью подсудимого? Уверен, что ни один не почувствовал себя отомщенным. Переиграть Эйхмана в сфере наказания человека человеком невозможно. Уж простите. Да и в целом затея тухлая. Даже если бы тот суд бесстрастно решал вопрос исключительно в правовом поле, без эмоциональных составляющих, вопрос Эйхмана выходил далеко за его пределы. Он сдерживался лишь границами сознания тех, кого он загнал в эшелоны, шедшие в лагеря смерти. Желали ли они просто вздернуть его – вопрос.
Увы, Эйхман тоже был обыкновенным. Маленький человек, карьерист-неудачник. Не редкость среди нас. И как враг он был не опасен, и как друг бесполезен. Говоря об убийстве в классическом понимании, он действительно не лукавил – лично он никого не убивал, думаю, ему бы не хватило духа собственноручно лишить человека жизни. Я познакомился с ним в Дахау, где он служил в австрийском полку. В тот период он изнывал от однообразия службы. Его предприимчивую натуру раздражало каждодневное ползание по-пластунски, и он жаждал стать частью чего-то нового и перспективного. Узнав его лучше, я понял, что в этом и была суть его натуры – он постоянно вступал в какие-то общества и организации, в детстве это было Общество христианской молодежи, затем движение юных туристов «Перелетная птица», позже каким-то образом нарисовалось молодежное отделение Германо-австрийского объединения фронтовиков. Когда на горизонте замаячили СС, Эйхман был уже одной ногой в масонской ложе «Шлараффия», как гордо именовала себя группа бездельников, собиравшаяся ради хорошего вина и юмористических выступлений. СС стали для него лишь одними из. В конце концов, почему бы и нет, если с масонами не задалось? В этом был весь он – вступал не по убеждениям, а потому, что надо было быть частью какого-то движения, потока, который рано или поздно куда-нибудь да вынесет, и желательно на сытые и благополучные берега. И, собственно, таких было большинство, и именно из таких получались самые надежные и исполнительные наци. Он постоянно говорил о будущем, строил планы, его деятельный мозг не знал покоя, впрочем, как не знал и партийной программы НСДАП[11]. Это выяснилось совершенно случайно в разговоре, тогда он пожал плечами и сказал, что позже изучит. Не уверен, что он в итоге сделал это. Как это ни парадоксально, но на заре нашей дружбы он не был хоть сколько-нибудь одержим антисемитизмом. Основными мотивами его поступков были банальный карьеризм и здоровое служебное рвение. Как любой рядовой бюргер с типичным воспитанием и без преступных наклонностей, он не испытывал какого-то явного наслаждения от осознания власти над жизнью и смертью. Тот, кого мир назовет одним из главных архитекторов смерти, стал им исключительно под влиянием условий, в которые поместили не только его одного, но весь Германский рейх. И лишь случай решил, что в этих условиях именно ему пришлось оказаться на слуху. Если бы Гитлер так же люто возненавидел, к примеру, протестантов и гневно указал своим перстом на них, то история содрогалась бы от имени штурмбаннфюрера Эриха Рота, ведавшего в РСХА[12] отделами IV B-1 и IV B-2 – делами католиков и протестантов соответственно. Но был избран народ избранный, а значит, и Эйхман, возглавлявший еврейский отдел IV B-4. Еще большей значимости ему придал Нюрнбергский процесс, на котором его… не было. Воспользовавшись этим, большинство обвиняемых постарались переложить именно на него всю ответственность, он же ничего не отрицал по банальной причине отсутствия. Тогда и появились первые эпитеты, придавшие «неуловимому» Эйхману ореол демоничности: «архитектор смерти», «дьявол во плоти, ответственный за отправку на смерть миллионов» и прочие, которые с радостью подхватила охочая до подобной дешевой крикливости пресса. Что ж, как бы иронично это ни звучало, тут Эйхман наконец-то получил свою порцию славы, которая ранее всегда проходила мимо него, недооцененного сверху и воспринимаемого мелким чином на местах, из-за чего он чрезвычайно страдал. Впрочем, новые обстоятельства, в которые его опрокинула жизнь, заставили Эйхмана с легкостью отказаться от той славы: «Это не я» – квинтэссенция всего допроса Эйхмана. «Я получил приказ от группенфюрера Мюллера». Мюллер от Гейдриха[13], Гейдрих от Гиммлера, Гиммлер – намек от Гитлера. Кто виноват? Очевидно, все. Никакой персонификации – это и пытался доказать Эйхман в суде, это же делала и вся послевоенная Германия. Он действительно не отдавал приказа уничтожать тех, кто попадал в его эшелоны, – ему попросту не надо было этого делать. Машина исправно работала и без его слов. Механизм был запущен однажды, и все молча обеспечивали его действие как нечто само собой разумеющееся. Не один, так другой действовал бы точно так же, как он, на основе распоряжений и приказов сверху – и вот в этом я склонен ему верить. Мне до сих пор сложно понять, какую часть персональной ответственности за это несет каждый из нас. Я сейчас не говорю о моральных уродах, действия которых имеют лишь одну возможную оценку, такие, безусловно, тоже были. Взять хотя бы дегенерата Глобочника[14]. После совещания в Ванзее, на котором Гейдрих окончательно дал понять, что отныне мы добиваемся не эмиграции евреев, а их истребления, в Люблин бригадефюреру Глобочнику полетел приказ подвергнуть этому решению сто пятьдесят тысяч евреев. Глобочнику пришлось в срочном порядке испрашивать себе еще один приказ с новыми цифрами, ведь к тому времени он умертвил уже не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Но сейчас речь не о таких, а об остальных, не проявлявших инициатив, но лишь исполнявших. Как я уже говорил, когда подобные действия совершает вся нация, они перестают трактоваться как преступление, но становятся новой нормой. И с таким подходом любая, даже самая извращенная мораль начинает усваиваться мозгом как нормативная. Именно поэтому основной целью было вовлечь в процесс каждого. И каждый стал крохотным, но винтиком целого механизма, каждый просто существовал и даже не осознавал, что спустя десятилетия его будут рассматривать не как единицу массы, которая всего-то хотела достойно и сытно прожить свою жизнь, но как часть движущего процесса истории. Как часть, которая осознает, что ничто не делается само по себе, но все итог какого-либо действия человека или бездействия. Которая ответственна, которая творила, потворствовала, не воспрепятствовала и тому подобное. Тот винтик не осознавал, что его персона в принципе удостоится того, чтобы быть рассматриваемой, настолько он считал себя не влияющим ни на что, но исключительно выполняющим то, что должно. Тот винтик считал все происходящее естественным процессом, которого просто не может не быть, для него это было обычное течение жизни, закономерность. Но истина в том, что без того винтика, сколь бы крохотным он ни был, весь огромный механизм мог дать сбой. И потому все эти «я лишь…» не были оправданием. Кто-то был этим винтиком осознанно, кто-то – бессознательно, кто-то только делал вид, что бессознательно. Но цель была достигнута – в окончательное решение так или иначе была вовлечена вся нация, все общество. Когда в Заксенхаузене в сентябре сорок первого начали расстреливать по три сотни советских военнопленных в день, полноценного крематория в лагере еще не было. Трупы жгли в передвижном, не удерживавшем ни дым, ни смрад. Все это быстро достигло домов Ораниенбурга. Я помню одного белобрысого, в коротеньких коричневых шортиках, лет пяти, не больше. Он подошел ко мне и деловито осведомился: «Герр офицер, а когда снова будут жечь русских?» Все знали. Это просто началось с малого, не как нечто грандиозное и невероятное, а просто как очередной процесс, которых сотни тысяч происходят в любом государстве. И если кого-то это покоробило в самом начале, то он оглянулся по сторонам, убедился, что все молчат, и решил, что ему показалось, будто в этом есть что-то дьявольское, нечеловеческое, противное нашему естеству. Но дело в том, что точно так же оглянулись все и подумали то же самое. Все молчали и прилежно трудились, как если бы это была обувная фабрика или машинный завод. Взять хотя бы тех же врачей. О медицинских экспериментах в лагерях заговорили после войны с придыханием, с расширенными от ужаса глазами, тоном, в котором сквозило откровенное неверие. Но разве были они для кого-то секретом во время войны? Я говорю о медицинских кругах. Их широко обсуждали на различных врачебных и фармацевтических конгрессах, где горделивые публичные доклады о проведенных исследованиях зачитывались один за другим, где на трибунах в открытую сообщалось, кто был использован в этих экспериментах и что с ними стало. Но хоть кто-то в зале выразил озабоченность этической стороной вопроса тогда? Многие профессора, которым был дан полный карт-бланш на их лагерные изыскания, печатались в научных журналах. Я лично помню восторженного специалиста из «Байера»[15], который приезжал к нам в Дахау тестировать сульфаниламиды на заключенных. Тестировал самозабвенно. Благодарил за подаренную возможность. Потом еще раз приезжал во время эпидемии тифа, привозил очередную партию препаратов.



