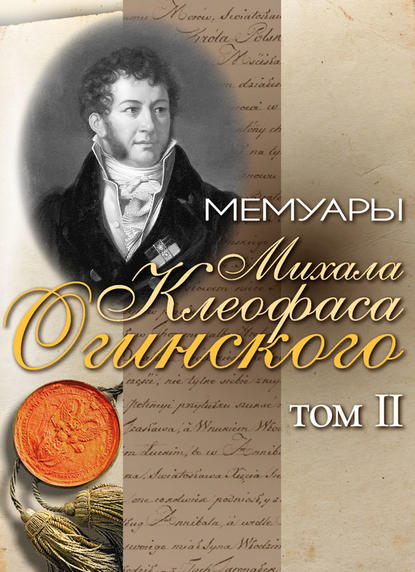
Полная версия:
Мемуары Михала Клеофаса Огинского. Том 2
По правде говоря, у меня было много и других причин для беспокойства по поводу переезда в Санкт-Петербург, но поскольку я пишу эти заметки, как будущие мемуары, лишь для своих детей, которые должны знать решительно все, что я думал и чувствовал в разную пору жизни, я не могу отказать себе в том, чтобы не рассказать им об этих причинах.
Прошло шестнадцать лет с тех пор, как перестала существовать Польша, и, потеряв свою страну, я принял решение отказаться от самых блестящих карьерных возможностей. Я знал, что должность в сенате Санкт-Петербурга, которую мне предстояло занять по воле императора Александра, не будет приятной сама по себе.
После того, как на родине я прошел через многие государственные должности, работая вместе с родственниками, друзьями и земляками, чьи жизненные принципы, привычки и настроения мало чем отличались от моих, мне предстояло перенестись в другую страну, завести там новые знакомства, изучить новый язык, стать неприметным и бездеятельным для одних либо предметом недоверия и зависти – для других.
Я никогда не был придворным. Признавая в людях лишь заслуги и талант, я презирал даже в годы бедствий умение льстить фаворитам и выслуживаться перед влиятельными министрами, окружать их постоянной заботой и вниманием. Словом, я не был создан для жизни при дворе, однако место, которое я собирался занять, обязывало меня к такой жизни. Мне предстоял выбор: заслужить расположение императора и тогда стать предметом зависти окружающих и городских пересудов или стать незаметным для двора и, в этом случае, оказаться в положении полного ничтожества, с которым высокомерно обходится начальство, оскорбляют подчиненные и подвергают притеснениям при каждом удобном случае.
Муки честолюбия никогда не терзали меня, поэтому никакие награды, звания и прочие возможные милости не смогли бы компенсировать неприятности, которым я подвергал себя. Могли ли эти временные преимущества заменить мне независимость, которой я собирался пожертвовать, и счастливые дни уединения, проведенные в Залесье, или на берегах Арно и Бренты?
Размышляя таким образом и не предаваясь особым иллюзиям на предмет своего будущего положения в Санкт-Петербурге, я, чтобы заранее не потерять всякий интерес ко всему тому, что меня ожидало, тешил себя надеждой, что смогу послужить своей стране и принести пользу соотечественникам.
Однако это еще не все. Я знал, что многие из моих соотечественников неправильно поймут меня. Одни обвинят меня в амбициозности, другие сочтут, что я перешел на службу России исключительно ради выгоды. Большинство же упрекнет меня, по меньшей мере, в непоследовательности и не поймет, как я, будучи одним из самых заметных польских патриотов, который сражался против России в 1794 году, подвергался на протяжении многих лет опасностям в Константинополе, Италии, Германии, Франции и, находясь под покровительством французского правительства, прилагал столько усилий для восстановления Польши и освобождения страны от трех разделивших ее между собой держав, мог так неожиданно изменить своим взглядам и вместо того, чтобы сбросить ярмо России, оставаясь на стороне Наполеона, предпочел полякам власть Александра.
Я презирал подозрения в амбициозности и личных выгодах, которые не могли задеть человека, ни разу не уличенного во лжи, но я не мог оставаться безразличным к обвинениям в непоследовательности, так как в моем возрасте непозволительно быть противоречивым. И все же я подвергал себя риску в глазах родственников, друзей и земляков, чье уважение для меня было особенно дорого… Это меня удручало, однако в душе я не мог упрекнуть себя ни в чем, и совесть оправдывала и одобряла мои поступки.
Я всегда был истинным поляком и всеми своими заслугами обязан тому, что всякий раз стремился заслужить это имя. Я взялся за оружие в 1794 году и не был осужден за это, поскольку боролся за независимость и сохранение целостности своей страны. Те, кто сегодня позволяет себе порицать меня за привязанность к императору Александру и веру в него, не поверят, что как-то в его кабинете в разговоре с ним я сказал, что, если бы был уверен, что Польша сможет обрести независимость без перехода под власть Франции или России, то непременно вступил бы в ряды войска польского в герцогстве Варшавском… Они еще меньше поверят в то, что император не осудил меня ни за эту откровенность, ни за мои намерения.
Даже после революции меня не оставляла мысль о восстановлении Польши, и я полагал, что французская революция, которая потрясла устои многих европейских держав, сможет оказать помощь и поддержку польским патриотам, вернуть их страну на место, которое она прежде занимала в Европе. Увлеченность и смелость, горячий патриотизм и либеральные идеи поляков снискали им повсюду поддержку приверженцев свободы. Комитет общественного спасения, а затем Директория, хотя и обманывали, но энергично поощряли их усилия обещаниями. Швеция и Турция тоже кормили их надеждами, а когда веришь в желаемое, то кажется очевидным, что, если две державы – естественные противники России – нападут на нее и французские республиканские легионы займутся армиями Австрии и Пруссии, то поляки, ведомые своими патриотическими чувствами, при поддержке союзников смогут увидеть, как Польша возродится из пепла и освободится от иноземного ига.
В ту пору я как раз работал в Венеции, Константинополе и Париже и разделял идеи, надежды и иллюзии своих соотечественников, а моя переписка и воспоминания, безусловно, свидетельствуют о моей преданности Родине и чистоте намерений. Тогда я находился под протекцией французского правительства, потому что для истинного поляка, который не был русским, австрийским или прусским, не существовало никакого другого. Я мог заблуждаться в своих подходах и взглядах на политику, но я не стану отрекаться от своих поступков, потому что никогда не склонялся в пользу той или иной партии и желал лишь свободы и независимости Польши.
И она могла обрести ее в силу стечения обстоятельств и избежать ужасов французского террора, который, разрушив принципы нравственности, чести и разумной свободы, вынудил правителей Европы принимать меры против распространения революционной заразы. Возможно, и даже вероятно, что совместные интересы трех держав, поделивших между собой Польшу, заставили бы их рано или поздно восстановить эту страну в том виде, как она существовала ранее. И произошло бы это не в результате реституций, а по причине необходимости восстановить барьер, разрушение которого слишком приблизило друг к другу соседние державы, что в один прекрасный день могло стать причиной их ссоры.
Впрочем, если о свободной Польше можно было так или иначе мечтать до пришествия Бонапарта во Франции, то после этого злосчастного для всего человечества явления любая возможность воплощения этой мечты в реальность отпадала.
Завоеватель, как известно, все разрушает и не желает ничего восстанавливать. Это убеждение, равно как и многие другие доводы, которые я изложил в записке, представленной императору Александру 15 мая 1811 года, не поколебали моего решения высказаться более определенно. Не имея возможности увидеть Польшу такой, как я хотел ее видеть, я смел по меньшей мере надеяться на восстановление имени поляка при покровительстве императора Александра. И если мои просьбы будут удовлетворены, то это как-то компенсировало бы мои обиды радостью видеть тех соотечественников, что несправедливо осуждали мое доверие к императору, разубежденными и счастливыми.
Глава II
Я прибыл в Санкт-Петербург 9 апреля 1811 года. Утром следующего дня я отправил записку графу Толстому с просьбой назначить день, когда я мог бы быть представлен Их императорским величествам. Я получил приказ явиться на ужин к императору 13 апреля и принести с собой два пакета, которые мне передали в Париже для царствующей императрицы и императора: в одном – либретто новой оперы Паэра, в другом – две брошюры и письмо от де Лагарпа[86].
Встретили меня очень любезно, и во время ужина император вел самые разные разговоры, не напоминая о Париже, Наполеоне и путешествии, которое я проделал. После ужина он пригласил меня в свой кабинет, где мы оставались довольно долго. Еще раньше я решился быть с императором до конца откровенным при первой же встрече, говорить прямо и начистоту. Я был твердо убежден, что если разговор не понравится Александру, то буду предан забвению и наперед лишен возможности ставить перед ним вопросы, ну а если меня выслушают, то я сохраню надежду принести пользу соотечественникам, заслужить в будущем уважение императора и никогда не опровергать своими поступками суждений, выраженных мною не только откровенно, но и доверительно.
Я начал разговор, сказав, что предупрежден о том, что император недоверчив и подозрителен, однако, дескать, решился проверить это на себе, поскольку должен сообщить ему чрезвычайно важные сведения, которые он мог и не знать, поведать ему о причинах, побудивших меня излить перед ним свою душу. Я заметил, что после первых моих слов лицо императора оживилось, но он тут же принял свой обычный приветливый вид и велел мне говорить откровенно, не стесняясь его присутствия, и заверил, что выслушает меня с большим интересом.
Я очень кратко описал ему то, что видел и на что обратил внимание в Париже за те восемь месяцев, как, покинув Санкт-Петербург, расстался с императором. Я провел параллель между тем, что предпринял и осуществил Наполеон за это время с целью усиления своей власти и расширения границ Франции за счет присоединения Голландии и северной Германии, и беспечностью, которая царила по этому поводу в России, а также идущей вразрез с интересами империи политикой, от которой страна никак не желает отказаться, продолжая неразумную и разорительную войну с турками и продолжая держать на запоре российские порты для англичан.
Я прошелся по деятельности Наполеона, начиная с прихода к власти, говорил о коалициях, указал на военные просчеты завоевателя, чтобы подчеркнуть, что там было больше постоянно сопутствующего ему везения, слабости и недостатка талантов со стороны противостоявших ему сторон, нежели непогрешимости, которая вознесла его на столь высокую ступень власти. Я утверждал, что не пройдет и года, как Наполеон обрушит всю свою мощь на Россию, что он уже ведет активную подготовку к войне и возлагает при этом особые надежды на помощь поляков. Я рискнул предположить, что после того как он заключит союз с императором Австрии, вряд ли австрийский двор станет противиться его планам. Пруссия слишком слаба, чтобы предотвратить события, которые могут вызвать ее окончательное падение, а все другие государства Германии находятся в подчинении у Наполеона, и тот, имея возможность добавить к своим франко-итальянским армиям по меньшей мере столько же иностранных войск, сможет неожиданно напасть на Россию со значительными силами, в надежде уничтожить империю, которая стала единственным препятствием на его пути к установлению всемирной монархии.
Император перебил меня: «Я согласен с вами во всем, что вы только что сказали мне о Наполеоне, кроме того, что он пожелает уничтожить Россию, ибо у него должно быть достаточно здравого смысла, чтобы понять всю недостижимость этого замысла… Что до остального, то я получаю из Парижа сведения о подготовке к войне без уточнения, против кого она затевается. Думаю, что Наполеону действительно не терпится начать войну с Россией, но я буду, пожалуй, единственным, кто так думает, и вы вряд ли найдете кого-либо еще в Петербурге, кто придерживается такого же мнения. Именно поэтому я прошу вас ни с кем кроме меня не откровенничать и отвечать уклончиво на вопросы о вашем пребывании в Париже».
Продолжая разговор на ту же тему, император заметил, что с некоторых пор поменял свое положительное суждение о Наполеоне и, буквально несколькими штрихами, он показал мне, что ему многое известно, и что он уже хорошо знает характер Наполеона. «Однако, – добавил император, – несмотря на совершенные им военные просчеты, нельзя не согласиться, что это великий полководец. Было бы неразумно настраивать его против себя и провоцировать войну, которая для России может иметь пагубные последствия, если не найти своего военачальника, способного противостоять Наполеону… и, к тому же, разве можно отрицать превосходство и военный талант французских генералов и офицеров, совершенство их артиллерии, мужество и доблесть простых солдат, привыкших побеждать вместе со своим не только искусным, но и удачливым военачальником, и т. д., и т. п.»
Утверждая, что не желает войны и не хочет прослыть агрессором, император, дал мне тем не менее понять, что он готов к любому повороту событий, и что с некоторых пор в России производится много вооружения, а склады пополняются запасами продовольствия.
Когда я перечислял поводы, которыми Наполеон может воспользоваться, чтобы порвать с Россией, то упомянул о Тильзитском договоре, на что император живо возразил: «А разве Наполеон уже не нарушил Тильзитский договор своими недавними действиями с герцогом Ольденбургским?»
Через какое-то время император, приветливо улыбаясь, промолвил:
«Но вы ничего не рассказываете мне о Польше… Уверен, однако, что именно это беспокоит вас больше всего и, не опасаясь за Россию, которая сумеет постоять за себя, вы боитесь, что ваша страна превратится в театр военных действий». «Должен признаться, что это так, Государь, – ответил я. Именно поэтому я дерзаю надеяться, что войска Вашего императорского величества выдвинутся вперед, пересекут территорию герцогства Варшавского и войдут в Пруссию. В этом случае, прусские войска, вместо того, чтобы усилить армию Наполеона, присоединились бы к русским и сражались за общее дело против французского вторжения. Также в этом случае, если Ваше императорское величество объявят себя королем Польши и пообещают жителям Варшавы присоединить к их герцогству Литву, то будут иметь в своем распоряжении население в двенадцать миллионов преданных поляков, способных на любые жертвы ради возродителя своей страны. Однако после того, как Ваше императорское величество со всей определенностью изволили дать мне знать, что не поступятся своими принципами и не превратятся в агрессора, начав войну, мне остается лишь промолчать и отказаться от исполнения прекрасной мечты, в которую я верил».
«Почему мечты? – возразил император? – Разве это не может произойти позднее и без того, чтобы я объявлял войну?»
Затем он довольно подробно говорил о герцогстве Варшавском и с большим интересом отозвался о поляках в целом. Он сказал, что своими обещаниями создать польское королевство Наполеону удалось довести их до состояния восторженного возбуждения, и сейчас не лучшее время, чтобы призывать поляков к голосу разума. Что касается его самого, то он не обещает ничего такого, что не может выполнить, и что поляки в один прекрасный день поймут, как он их уважает и насколько заинтересован в их судьбе. В настоящее время, сказал император, я желаю лишь того, чтобы польские подданные, которые находятся под моим управлением, были счастливы и довольны, и если у вас есть какие-либо планы, которые смогут помочь мне осуществить эти намерения, я с удовольствием займусь ими».
Я тотчас же воспользовался этой возможностью, чтобы предложить в качестве административной меры организацию восьми российских губерний из числа воеводств бывшей Польши.
Я, безусловно, знал, что эта мера не может произвести воздействие, сравнимое с манифестом о восстановлении Польши, но то было единственное, о чем я мог просить. Я смел надеяться, что, получив часть, получу и остальное после того как разразится война. Пока же мне была предоставлена возможность облегчить участь своих соотечественников, уберечь их от произвола нынешних чиновников, обеспечить отправление правосудия и дать всем проблеск надежды на политическое существование под эгидой и протекцией Александра.
Если император решится объединить восемь губерний, которые ранее входили в состав Польши под названием «Великое княжество Литовское», и согласится дать литвинам то, что я просил у него, то у меня отпали бы сомнения в том, что после неизбежной войны он восстановит и Польшу, присоединив к этим губерниям и герцогство Варшавское.
Не стану повторять все то, что я сказал ему по поводу устройства Литвы, поскольку все подробности об этом можно найти в Записке, что я направил императору в мае. Добавлю лишь, что в тот документ не вошло мое предложение поставить во главе администрации восьми литовских губерний великую княжну Екатерину.
Выслушав меня с большим интересом и доброжелательным вниманием, император сказал: «Я очень рад, что у нас схожие мнения. Вот уже полгода, как я работаю над проектом, который во многом совпадает с тем, что вы мне предлагаете… Как только он будет завершен, я передам вам его, и будьте уверены, я стану обращаться к вам каждый раз, когда надо будет обсудить вопрос из тех, что вы здесь поднимали, и без вашего ведома не будет принято ни одного решения».
Император тем не менее сделал несколько возражений и, думается, не ради того, чтобы сгладить обсуждаемый вопрос, а показать свою заинтересованность и желание рассмотреть его с разных сторон. Так, он отметил, что восемь губерний составят слишком большую территорию для одного правителя. Он полюбопытствовал, захотят ли жители Волыни, Подолии и Киевской губернии добровольно называть себя литвинами. Император поинтересовался, какую пользу может принести реорганизация для финансовой системы империи, увеличения армии, роста торговли и т. д.
Он, как мне показалось, не был против моего предложения доверить общее управление восьмью губерниями великой княжне Екатерине, поскольку еще до того, как назвать ее имя, я предложил императору назначить на это место кого-нибудь из трех его братьев, на что он заметил, что великие князья Николай и Михаил еще слишком молоды, а великого князя Константина интересует лишь военная карьера.
Перед тем, как расстаться, император приказал мне изложить письменно ту часть предложений, что я сделал в устной форме, заметив, что не имеет значения, в каком виде они будут оформлены – записки или обзора всего того, на что я обратил внимание в Париже, а также вероятных, на мой взгляд, событий. Но самое главное, он попросил меня подготовить проект необходимых усовершенствований для находящихся под управлением России польских провинций, заверив, что это никак не сможет меня скомпрометировать, ибо все данные, которые я смогу передать ему, будут храниться в его кабинете.
Я провел у императора три часа и покинул его полный надежд и благодарности. С того дня меня не мене двух раз в неделю приглашали на ужин к Его Величеству и всякий раз, поднимаясь из-за стола, император расспрашивал меня о новостях из Литвы и об оставшейся в Париже моей семье, приезда которой я ждал со дня на день. Я воспользовался одним из этих приглашений, чтобы сообщить императору о том, что предводитель дворянства Гродненской губернии князь Ксаверий Любецкий вот уже несколько месяцев находится в Петербурге с поручением от жителей губернии и безуспешно пытается донести до сведения Его Величества просьбы своих избирателей. Император выразил свое удивление и недовольство столь длительной задержкой. Он указал способ, как князю лучше передать информацию о целях своей депутации, добавив, что без промедления займется запросом и отдаст распоряжение подготовить быстрый и удовлетворительный ответ.
Примерно в ту же пору в Петербург прибыл князь Казимир Любомирский – богатый помещик с Волыни, который, предвидя разрыв между Францией и Россией, а также связанные с этим благоприятные последствия для Польши, хотел воспользоваться обстоятельствами, чтобы принести пользу своим соотчинникам. Этот образованный, остроумный и энергичный молодой человек был счастлив найти во мне разделяющего его мнения соплеменника, которому он мог довериться. Я посвятил его в свои планы, подробно рассказал о первых аудиенциях с императором и зачитал подготовленную для императора записку, от которой князь пришел в восторг.
Несколько дней спустя после своего приезда князь Любомирский был представлен ко двору. Император вручил ему ключ камергера, поинтересовался настроениями жителей Волыни, был очарован взглядами князя и оказал доверие, возложив на него тайное поручение в Лондоне, куда тот намеревался отправиться в путешествие проездом через Стокгольм.
В то время как император раскусил поведение Наполеона и не скрывал своего к нему отношения в ходе наших бесед, мне казалось, что у его окружения не возникало и мысли, что эти два государя могут внезапно рассориться. Во всех петербургских салонах не скупились на похвалу французскому императору, вели разговоры о великолепии его двора, соблазнительной и привлекательной жизни в Париже, преимуществах мира, который пришел на смену многочисленным кровавым войнам, и, как многие предполагали, навсегда.
Казалось, что само отношение императора к французскому послу Коленкуру лишь подтверждало это общее настроение. Послу оказывали самые высокие почести. Единственного из всех иностранных посланников его часто приглашали на ужин к императору. Он занимал место в кругу императорской семьи во время театральных представлений в Эрмитаже, а почтительное с ним обращение императора служило примером для первых лиц империи, которые с усердием обхаживали посла.
14 мая император передал через обер-гофмаршала графа Толстого, что хотел бы ознакомиться с порученной мне работой, и велел явиться к нему для доклада на следующий день к ужину. Так 15 мая, после того как мы встали из-за стола, император пригласил меня в свой кабинет, чтобы выслушать чтение записки, содержание которой я привожу ниже.
Глава III
Памятная записка, представленная Его Величеству императору всея Руси в мае 1811 года в г. Санкт-Петербурге«Были ли у императора Наполеона намерения возродить свободную и независимую Польшу и превратить ее в заслон против России?… Всякий, кто без пристрастия и предвзятости наблюдал за характером этого правителя через его политические и военные деяния, может с легкостью ответить на этот вопрос.
Чтобы возродить государственную независимость, Наполеон должен был бы обладать либеральными взглядами и такими качествами, как воздержанность, бескорыстие и великодушие, никак не совместимыми с жадностью завоевателя, потребностью ослабить, разделить и уничтожить государства Европы, пренебрежением к благополучию и внутреннему спокойствию народов.
Для создания постоянного заслона против России нужно было бы, чтобы его беспокойный характер, равно как живое воображение, постоянно рисующее картины новых завоеваний, в конце концов успокоились, и тот, кто не привык ограничивать свои амбиции, прекратил захватнические войны.
Можно ли было предположить, что этот баловень судьбы, считавший себя посланцем Бога, призванным решать мировые проблемы, этот предприимчивый деятель, который разрушил столько монархий и подорвал основы все еще существующих, кто возвышал отдельных людей лишь для того, чтобы укрепить собственное величие, кто не оставил ничего нетронутым и менял свои решения и планы с такой же легкостью, как и создавал их, кто никогда не занимался благополучием людей, разве что тех, кто мог предложить свою поддержку в осуществлении его замыслов, можно ли было предположить – снова спрашивал я себя, что этот невообразимый человек, равнодушный к бедствиям потрясенной им Европы, вдруг сможет проникнуться сочувствием к печальному положению поляков и пожелает возродить их отечество путем создания свободного и независимого государства.
Наполеон не поддался на проявленный по отношению к нему общий восторг среди жителей герцогства Варшавского. Он знал, что, за исключением военных и должностных лиц, его здесь не любят, в особенности, составлявшие основную массу населения и терпевшие всяческие притеснения мелкие землевладельцы и крестьяне. Он также знал, что дворяне на его стороне лишь потому, что надеются на возрождение своей страны, и, если не питать их надеждами, он потеряет у них любовь и доверие. Также, надо полагать, зная эту истину, Наполеон постоянно обнадеживал поляков, что восстановит Польшу и тешит их этой мыслью вплоть до сегодняшнего дня, тщательно оберегая их от любых других влияний на этот счет.
Во все времена французское правительство всячески стремилось влиять на дела Польши и иметь здесь своих сторонников. Не уходя вглубь истории, достаточно вспомнить роль, которую оно сыграло в выборах Станислава Лещинского, в официальной поддержке и финансировании барских конфедератов, в тайных интригах против России. Последняя держава имела явное преимущество в политических делах Европы, поэтому в интересах Франции было организовать здесь смуту и направить усилия России на устранение беспорядков внутри Польши. Было бы неправильно, однако, полагать, что революционное правительство Франции подтолкнуло Костюшко и его сторонников к восстанию 1794 года. И хотя польские патриоты отстаивали правдивость такого суждения, чтобы увеличить число своих сторонников и внушить им больше доверия и уверенности в успехе, однако на основании всего того, что мне было известно в то время, а затем стало известно в Константинополе и Париже, я могу поручиться, что иностранное влияние не имело никакого отношения к восстанию 1794 года, вызванному лишь патриотическим подъемом и отчаянием масс. Я не говорю здесь о влиянии французских якобинцев на польских, потому что это не имеет ничего общего с восстанием, единственной целью которого было избавление от иностранного засилья и обеспечение независимости Польши, но я хотел бы лишь засвидетельствовать то, что мне было точно известно: французское правительство не могло и не хотело помогать и поддерживать действия Костюшко.

