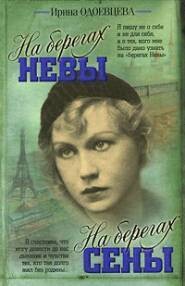
Полная версия:
На берегах Невы. На берегах Сены
Вот, взятое почти наугад, наудачу, одно из воспоминаний.
Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника – чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекций в Диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой.
– Ничего нет приятнее «нежданной радости» случайной встречи, – говорит Гумилев.
Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, «нежданная радость». Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду.
– Есть у кого-нибудь папироса? – задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму.
– Скорей, скорей закуривай. А то вся сера выйдет.
Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным задыхающимся клекотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз.
– Удалось! Опять удалось, – торжествует Гумилев. – В который раз. Без промаха.
Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу:
Спички шведские,Головки советские,Пять минут вонь,Потом огонь!Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Мандельштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и «природной жадности», по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает. К общему веселью.
– А я вам сейчас прочту свои новые стихи, – говорит Георгий Иванов.
Это меня удивляет. Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи. И, написав их, не носится с ними, не в пример Гумилеву и Мандельштаму, готовым читать свои новые стихи хоть десять раз подряд.
– Баллада о дуэли, – громко, важным, несвойственным ему тоном начинает Георгий Иванов.
И сразу становится ясно, что стихи шуточные. На них Георгий Иванов «великий маг и волшебник», по определению Лозинского.
Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет. Существовала и особая разновидность их – «античная глупость». Никогда, впрочем, к недоумению Гумилева, восхищавшегося ею, не смешившая меня. Приведу три примера из нее:
Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:– Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.Соль этого двустишья заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством. Или:
– Ливия, где ты была? – Я лежала в объятьях Морфея. – Женщина, ты солгала. В них я покоился сам.И:
Пепли плечо и молчи,Вот твой удел, Златозуб! —отмечающее привычку Мандельштама засыпать пеплом папиросы свое левое плечо, когда он сбрасывает пепел за спину. Предложение молчать подчеркивало его несмолкаемую разговорчивость.
– Баллада о дуэли, – повторяет Георгий Иванов и кидает насмешливый взгляд в мою сторону. Я краснею от смущения и удовольствия. «Баллада» значит подражание мне, – и это мне очень лестно.
Георгий Иванов с напыщенной серьезностью читает о том, как в дуэли сошлись Гумилев и юный грузин Мандельштам.
…Зачем Гумилев головою поник,Что мог Мандельштам совершить?Он в спальню красавицы тайно проникИ вымолвил слово «любить».Взрыв смеха прерывает Иванова. Это Мандельштам, напрасно старавшийся сдержаться, не выдерживает:
– Ох, Жорж, Жорж, не могу! Ох, умру! «Вымолвил слово “любить”!»
Только на прошлой неделе Мандельштам написал свои прославившиеся стихи: «Сестры тяжесть и нежность». В первом варианте вместо «Легче камень поднять, чем имя твое повторить» было: «Чем вымолвить слово “любить”».
И Мандельштам уверял, что это очень хорошо как пример «русской латыни», и долго не соглашался переделать эту строчку, заменить ее другой: «Чем имя твое повторить», придуманной Гумилевым.
Мы выходим на тихую, пустую улицу. Ветер улегся. Все небо в звездах, и большие снежные сугробы сияют в полутьме. Мандельштам молча идет рядом со мной и, закинув голову, глядит на звезды не отрываясь. Я начинаю скандировать:
Я ненавижу бредОднообразных звезд.И, оборвав, перескакиваю на другое стихотворение, меняя ритм шагов:
Что, если над модной лавкой,Сияющая всегда,Мне в сердце длинной булавкойОпустится вдруг звезда?Мандельштам всегда с нескрываемым удовольствием слушает цитаты из своих стихов. Но сейчас он не обращает внимания и продолжает молчать. О чем он думает? И вдруг он говорит приглушенным грустным голосом, как будто обращаясь не ко мне, а к звездам:
– А ведь они не любят меня. Не любят.
От неожиданности я останавливаюсь.
– Да что вы, Осип Эмильевич? Никого другого так не любят, как вас!
Он тоже останавливается. Теперь он смотрит прямо мне в лицо широко открытыми глазами, и мне кажется, что в них отражаются звезды.
– Нет. Не спорьте. Не любят. Вечно издеваются. Вот и сегодня эта баллада!
– Но ведь это лестно, – убеждаю я.
– Про Гумилева никто не посмеет.
– Как не посмеет? Разве не про него «откушенный нос»? Это же нос Гумилева. Ваш зуб, а его нос.
Мандельштам качает головой.
– И все-таки больше всего смеются надо мной. Я и Златозуб и «юный грузин». Неужели я уж такой шут гороховый, что надо мной нельзя не издеваться? Скажите, только правду, я вам тоже кажусь очень смешным?
– Нет, совсем нет. Напротив, – с полной искренностью почти кричу я: – Я восхищаюсь вами, Осип Эмильевич!
Он недоумевающе разводит руками.
– Неужели? Ну спасибо вам, если это правда. Спасибо. Не ожидал от вас. – Он берет меня под руку. – Но знаете, – продолжает он доверчиво, – они действительно не любят меня. Прежде любили, а теперь нет. В особенности Гумилев. И Жорж тоже разлюбил меня. А как мы с ним прежде дружили. Просто не разлучались. Я приходил с утра. Он всегда вставал поздно. Вместе у него пили чай и отправлялись вместе на целый день. Всюду – в «Аполлон», и в гости, и на вернисажи, и в «Бродячую собаку». Если поздно возвращались, я у него ночевал на диване. Ни с кем в Петербурге мне так хорошо не было, как с ним. Он замечательный. Я его совсем не за его стихи ценил, нет. За него самого. А теперь внешне все как будто почти по-прежнему, но настоящей дружбы уже и в помине нет. Они все очень изменились. Я пытаюсь найти объяснение.
– Может быть, не только они, но и вы изменились за это время? Я сама совсем другая, чем два года тому назад.
Но он не слушает меня. Какое ему дело до того, какая я была прежде?
Он вдруг неожиданно начинает смеяться.
– У Жоржа была прислуга. Она меня терпеть не могла. Меня почему-то все прислуги не выносят, как собаки почтальонов. Жорж как-то повесил у себя над диваном портрет Пушкина. А прислуга возмутилась: «Эх, мало вам, что ваш Осип тут с утра торчит. Еще, чтобы любоваться, его богомерзкую морду на стенку повесили». И так и не поверила, что это не моя богомерзкая морда. Все же хоть и дурой-бабой, а лестно быть принятым за Пушкина.
– Конечно, лестно.
– А вот в Киеве, – продолжает он, оживляясь, – там меня действительно любили. И еще как! Нигде мне так приятно не жилось, как в Киеве. Сначала приняли сдержанно и даже холодно. Киевляне народ гордый. Перед петербуржцами не низкопоклонничают. Пригласили меня в какой-то поэтический кружок. Я пошел. Квартира барственная. Даже чересчур. И ужин соответствующий. Все чинно и чопорно. И я стараюсь держаться важно и надменно. Смотрю поверх их голов и делаю вид, что не замечаю соседей за столом. Будто здесь пустые стулья. И отвечаю нарочно невпопад. Перешли в гостиную пить кофе. Хозяин просит меня почитать стихи. А у меня от смущения и застенчивости – я ведь очень застенчив – все из головы вылетело. Дыра в мозгу. И чтобы не потерять лицо, я заявляю: «Я сегодня не расположен читать».
И вдруг один молодой человек робко спрашивает меня: «Тогда, может быть, позволите нам за вас?» И начал читать наизусть «Дано мне тело» и потом «Есть целомудренные чары». А за ним другой уже запевает без передышки «Сегодня дурной день». И так по очереди они весь «Камень» наизусть отхватили, ничего не пропустив, ни разу не споткнувшись. Я просто своим ушам не верил. Сижу обалдев, красный, еле сдерживаю слезы. Когда кончили, стали меня обнимать и признаваться в любви. С этого вечера и началась у нас теснейшая дружба. Как они обо мне все заботились! Мы ежедневно встречались в кафе на Николаевской улице, и каждый приносил мне подарок. Про банку варенья вы уже знаете. Да, там мне жилось отлично. Там я в первый раз почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым. И никто не смел со мной спорить. Тамошний мэтр Бенедикт Лившиц совсем завял при мне. Должно быть, люто мне завидовал, но вида не подавал.
И Мандельштам неожиданно заканчивает:
– А может быть, вы и правы. Я там изменился. Хлебнул славы и поклонения. Отвык от насмешек. Я в Киеве княжил, а тут Гумилев верховодит. И не совсем, сознайтесь, по праву. Вот мне иногда и обидно.
Мы дошли до моего дома.
– Спокойной ночи, Осип Эмильевич.
Мандельштам торопливо прощается:
– Спокойной ночи. Побегу, а то они без меня все морковные лепешки съедят.
И он действительно пускается почти бегом не по тротуару, а по середине улицы, увязая в рыхлом снегу.
Я вхожу в подъезд, ощупью добираюсь до лестницы и в темноте, держась за перила, медленно поднимаюсь. Как я устала. Как мне грустно. Мне жаль Мандельштама. До боли. До слез. «Бедный, бедный! Я не сумела утешить его. Вздор! – уговариваю я себя. – Он не нуждается в моем утешении. И что я могла ему сказать?» Но сердце продолжает ныть. Нет, никакого предчувствия его страшного конца у меня, конечно, не было ни тогда, ни потом.
Не только у меня, но и у него самого не было. Скорее напротив. Ему казалось, что он всех должен пережить, что другие умрут раньше его. Так, он писал о Георгии Иванове:
…Но я боюсь, что раньше всех умретТот, у кого тревожно красный ротИ на глаза спадающая челка.А о себе:
Неужели же я настоящий,И действительно смерть придет?Я как-то, еще в самом начале знакомства, спросила его:
– Осип Эмильевич, неужели вы правда не верите, что умрете?
И он совершенно серьезно ответил:
– Не то что не верю. Просто я не уверен в том, что умру. Я сомневаюсь в своей смерти. Не могу себе представить. Фантазии не хватает.
Нет, это не было предчувствие. Но жалость к Мандельштаму осталась навсегда.
Через несколько дней я решилась сказать Гумилеву:
– Николай Степанович, знаете, мне кажется, Мандельштаму обидно, что его называют Златозуб и постоянно высмеивают.
Но Гумилев сразу осадил меня:
– Экая правозаступница нашлась! С каких это пор цыплята петухов защищают? И ничего вы не понимаете. Мандельштаму, по-вашему, обидно, что над ним смеются? Но если бы о нем не писали шуточных стихов, не давали бы ему смешных прозвищ, ему было бы, поверьте, еще обиднее. Ему ведь необходимо, чтобы им все всегда занимались.
Я не стала спорить, и Гумилев добавил примирительно:
– Его не только любят и ценят, но даже часто переоценивают. И как не смеяться над тем, что смешно? Ведь Мандельштам – ходячий анекдот. И сам старается подчеркнуть свою анекдотичность. При этом он по-женски чувствителен и чуток. Он прекрасно раскусил вас. И разыгрывает перед вашей жалостливой душой униженного и оскорбленного. Что же, жалейте его, жалейте! Зла от этого не будет ни ему, ни вам…
И вот еще одно воспоминание. Трагикомическое воспоминание. Мандельштам был чрезвычайно добр. Он был готов не только поделиться последним, но и отдать последнее, если его об этом попросят. Но он был по-детски эгоистичен и по-детски же не делал разницы между моим и твоим.
Это была очень голодная зима. Хотя я и научилась голодать за революционные годы, все же так я еще не голодала. Но делала я это весело, легко и для окружающих малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире – в Петербурге квартирного кризиса тогда не было и никого не «уплотняли» еще. Я была всегда очень хорошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, «вдохновенно». Мне действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, что это от голода
…Так близко подходит чудесноеК покосившимся грязным домам.Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что и небо, и стены домов, и снег под ногами – все дышит вдохновением и что я сама растворяюсь в этом общем вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинающее звучать в моей голове.
В один из таких моих особенно «вдохновенных» дней, когда вечером предстояло собрание Цеха, я по пути в Диск, где заседал Цех, зашла в Дом литераторов за своей кашей, составлявшей для меня сразу и завтрак, и обед, и ужин. Я решила, что перед Цехом необходимо поесть попозже. В вестибюле Дома литераторов меня встретил Ирецкий.
– Вас-то мне и надо! – приветствовал он меня. – Пойдемте ко мне в кабинет, решим, когда вы будете выступать на следующем вечере. В первом или втором отделении?
Мне так хотелось есть, что я стала отказываться, ссылаясь на необходимость идти скорее в Цех.
– Завтра решим. А сейчас мне надо стать в хвост за кашей. Я ужасно тороплюсь.
Но Ирецкий настаивал:
– Успеете. Вот и Осип Эмильевич еще здесь. Он, пока мы будем с вами разговаривать, похвостится за вашей кашей. Ведь свою он уже съел. Вы не потеряете ни минуты. Идемте!
Мандельштам с полной готовностью согласился «похвоститься» за меня. А я пошла с Ирецким.
Он действительно не задержал меня. Я торопливо вошла в полукруглую комнату с окнами в сад, где перед столом с огромным котлом выстроилась длинная очередь. Мандельштама в ней не было. Я облегченно вздохнула: «Значит, уже получил и ждет меня в столовой».
Мандельштам действительно уже сидел в столовой. Но перед ним вместо моей каши стояла пустая тарелка.
– Отчего же вы не взяли каши, ведь вы обещали? – начала я еще издали с упреком.
– Обещал и взял, – ответил он.
– Так где же она? – недоумевала я.
Он сладко, по-кошачьи зажмурился и погладил себя по животу.
– Тут. И превкусная кашка была. С моржевятиной.
Но я не верила. Мне казалось, что он шутит. Не может быть!
– Где моя каша? Где?
– Я же вам объясняю, что съел ее. Понимаете, съел. Умял. Слопал.
– Как? Съели мою кашу?!
Должно быть, в моем голосе прозвучало отчаяние. Он покраснел, вскочил со стула и растерянно уставился на меня.
– Вы? Вы, правда, хотели ее съесть? Вы, правда, голодны? Вы не так, только для порядка, чтобы не пропадало, хотели ее взять? – сбивчиво забормотал он, дергая меня за рукав. – Вы голодны? Голодны? Да?..
Я чувствую, что у меня начинает щекотать в носу. О Господи, какой скандал: я – Одоевцева, я – член Цеха и плачу оттого, что съели мою кашу!
– Скажите, вы, правда, голодны? – не унимался Мандельштам. – Но ведь это тогда было бы преступлением! Хуже преступления – предательством. Я оказался бы последним мерзавцем, – все больше волнуясь кричал он, возмущенно теребя меня за рукав.
Я уже кое-как успела справиться с собой. Нет, я не заплакала.
– Успокойтесь. Я шучу. Я хотела вас попугать. Я только что дома ела щи с мясом и жаренную на сале картошку.
И – что бы еще придумать особенно вкусного?
– И селедку! И варенье!
– Правда? Не сочиняете? Я ведь знаю, вы буржуазно живете и не можете быть голодны. А все-таки я готов пойти и сознаться, что я утянул вашу кашу. Пусть меня хоть из членов Дома литераторов исключат. Пусть!
Но я уже смеюсь.
– За это вас вряд ли исключили бы. Но говорить ничего не надо. Пойдемте, а то мы опоздаем в Цех. И это уже будет настоящим преступлением. Не то что кашу съесть.
Всю дорогу в Цех Мандельштам продолжал переживать эпизод с кашей, обвиняя не только себя, но и меня.
– Как вы меня испугали. Разве можно так шутить? Я бы никогда не простил себе, если бы вы правда были голодны. Я страшно боюсь голода, страшно.
В эту ночь, засыпая, я подумала, что я сегодня совершила хороший поступок и за него мне, наверное, отпустится какой-нибудь грех, очень тяжелый грех.
Правда, ни одного хорошего поступка по отношению к Мандельштаму мне больше, к сожалению, совершить не удалось.
Костюмированный бал в Доме искусств в январе 1921 года – «гвоздь петербургского зимнего сезона», как его насмешливо называют.
Мандельштам почему-то решил, что появится на нем немецким романтиком, и это решение принесло ему немало хлопот. Костюм раздобыть нелегко. Но Мандельштам с несвойственной ему энергией победил все трудности и принес откуда-то большой пакет, завернутый в простыню.
– Не понимаю, – говорит Гумилев, пожимая плечами, – чего это Златозуб суетится. Я просто надену мой фрак.
«Просто». Но для того, чтобы надеть «мой фрак», ему требуется длительная и сложная подготовка в виде утюжки, стирки и наведения предельного блеска на башмаки – лакированных туфель у него нет. Все это совсем не просто. А в облаченном в «мой фрак» Гумилеве и подавно ничего простого нет. Напротив. Он еще важнее, чем обыкновенно.
– Всегда вспоминаю пословицу «L’habit fait le moine»[31], как погляжу на себя офраченного, Николай Степанович, – говорит Лозинский. – Только тебя habit не монахом делает, а монархом. Ты во фраке ни дать ни взять – коронованная особа, да и только.
Гумилев притворно сердито отмахивается от него:
– Без острословия ты уж не можешь, Михаил Леонидович!..
Но я по глазам его вижу, что сходство с коронованной особой ему очень приятно.
Я надела одно из бальных платьев моей матери: золотисто-парчовое, длинное-предлинное, с глубоким вырезом, сама как умела ушив его. На голове вместо банта райская птица широко раскинула крылья. На руках лайковые перчатки до плеча, в руках веер из слоновой кости и бело-розовых страусовых перьев, с незапамятных лет спавший в шкатулке.
Я постоянно закрываю, открываю его и обмахиваюсь им. Я в восторге от него и еще дома, одеваясь, сочинила о нем строфу:
Мой белый веерТак нежно веет,Нежней жасминовых ветвей,Мой белый веер, волшебный веер,Который стал душой моей.Нет, я не прочту ее Гумилеву. Мне, эпическому поэту, автору баллад, она совсем не идет. Она из цикла жеманно-женственных стихов, тех, что Гумилев называет: «Я не такая, я иная» – и «до кровоотомщения» ненавидит.
В этом необычайном наряде я очень нравлюсь себе – что со мной бывает крайне редко – и уверена, что должна всем нравиться. Я останавливаюсь перед каждым зеркалом, любуясь собой, и не могу на себя наглядеться.
Костюмированных на балу – кроме пасторальной пары Олечки Арбениной и Юрочки Юркуна, пастушки и пастушка, Ларисы Рейснер, Нины из «Маскарада» Лермонтова, и романтика Мандельштама – почти нет.
Поздоровавшись с Мандельштамом, я, даже не осведомившись у него, кого именно из немецких романтиков он собой представляет, спрашиваю:
– А где ваша жаба?
О жабе я узнала от Гумилева, когда мы с ним шли на бал. Не ехали на бал в карете или в автомобиле, а шли пешком по темным, снежным улицам.
– У Мандельштама завелась жаба!
И Гумилев рассказывает, что они с Георгием Ивановым встретились сегодня перед обедом в Доме искусств. Ефим, всеми уважаемый местный «товарищ услужающий», отлично осведомленный о взаимоотношениях посетителей и обитателей Дома, доложил им, что «Михаил Леонидович вышли, господин Ходасевич в парикмахерской бреются, Осип Эмильевич на кухне жабу гладят».
– Жабу? – переспрашивает Жоржик.
– Так точно. Жабу. К балу готовятся.
– Я-то сразу смекнул, в чем дело. Жабу гладит – магнетические пассы ей делает.
Гумилев многозначительно смотрит на меня из-под оленьей шапки и продолжает, еле сдерживая смех:
– Чернокнижием, чертовщиной занимается. Жабу гладит – хочет Олечку приворожить. Только где ему жабу раздобыть удалось? Мы с Жоржиком решили молчать до бала о жабе.
Так жаба, по воле Гумилева и Георгия Иванова, материализировалась и стала реальной. А став реальной и зажив своей жабьей жизнью, не могла остаться невоспетой.
И вот мы с Гумилевым, хохоча и проваливаясь в снежные сугробы, уже сочинили начало «Песни о жабе и колдуне».
Слух о том, что у Мандельштама завелась жаба и он ее гладит, молниеносно разнесся по залам и гостиным. Жабой все заинтересовались.
Мандельштам в коротком коричневом сюртуке, оранжевом атласном жилете, густо напудренный, с подведенными глазами, давясь от смеха, объясняет, тыкая пальцем в свою батисто-кружевную грудь:
– Жабо, вот это самое жабо на кухне гладил. Жабо, а не жабу.
Ему никто не хочет верить.
– С сегодняшнего дня, – торжественно объявляет ему Гумилев, – тебе присваивается чин Гладящий жабу. И уже разрабатывается проект Ордена жабы. Шейного, на коричневой ленте. Поздравляю тебя! Жаба тебя прославит. О ней уже складывают песню. Слушай!
И Гумилев с пафосом читает сочиненное нами по дороге сюда начало «Песни о жабе и колдуне»:
Маг и колдун МандельштамЖабу гладит на кухне.Блох, тараканов и мух неМало водится там. —Слопай их, жаба, распухниИ разорвись пополам!..Все смеются, не исключая и самого «мага и колдуна». Но смех его не так безудержен и заразителен, как всегда. Неужели он обиделся?
А приставанья и расспросы о жабе продолжаются беспрерывно и назойливо.
– Брось, Осип! Не лукавь, признавайся, – убеждает его Георгий Иванов. – Я ведь давным-давно догадался, что ты занимаешься магией, чернокнижием и всякой чертовщиной – по твоим стихам догадался.
Я очень люблю танцевать, но ни Гумилев, ни Мандельштам, ни Георгий Иванов не танцуют – из поэтов танцует один Оцуп. Но танцоров на балу все-таки сколько угодно.
Между двумя тустепами я слышу все те же разговоры о жабе. Мандельштам продолжает отшучиваться, но уже начинает нервничать и раздражаться.
– Я на твоем месте отдавал бы жабу напрокат, внаем, – говорит Гумилев. – Я сам с удовольствием возьму ее на недельку-другую для вдохновения – никак не могу своего «Дракона» кончить. Я хорошо заплачу. Не торгуясь заплачу и в придачу привезу тебе из Бежецка банку варенья. Идет? По рукам? Даешь жабу?..
Мандельштам морщится:
– Брось. Довольно. Надоело, Николай Степанович!
Но когда сам Лозинский – образец такта и корректности – осведомляется у него о драгоценном здоровье Жабы Осиповны и просит передать ей почтительный привет, Мандельштам не выдерживает:
– Сдохла жаба! Сдохла! – кричит он, побагровев. – Лопнула! И терпение мое лопнуло. Отстаньте от меня. Оставьте меня в покое! – И он, расталкивая танцующих, бежит через зал и дальше, через столовую и коридор, к себе, в свою комнату.
Лозинский разводит недоумевающе руками и, глядя ему вслед:
– Гарун бежал быстрее лани. Что же это с юным грузином стало? Обиделся?
Но мы смущены. Мы понимаем, что перетянули нитку, не почувствовали границы «jusqu’où on peut aller trop loin»[32] и безнаказанно перемахнули через нее.
Спешно снаряжается делегация. Она должна принести Мандельштаму самые пламенные, самые униженные извинения и во что бы то ни стало, непременно привести его.
После долгих стуков в запертую дверь, после долгих бесплодных просьб и уговоров Мандельштам наконец сдается – с тем «чтобы о проклятой жабе ни полслова».
Его возвращение превращается в триумф. Его встречают овацией.
– Не вернись ты, Осип, – Гумилев обнимает его за плечи, – бал превратился бы в катастрофу.
– А теперь, – громко и радостно заявляю я, – так весело, так весело, как еще никогда в жизни не было!
– Неужели? – спрашивает меня Лозинский. – Сколько уж раз мне приходилось слышать от вас это самое: «Сегодня так весело, как еще никогда в жизни» – и всегда с полной убежденностью и искренностью. Объясните, пожалуйста, как это возможно?
За меня отвечает Гумилев:
– Потому что это всегда правда, сущая правда. Как и кузминское:
И снова я влюблен впервые,Навеки снова я влюблен, —сущая правда. Это каждый из нас сам, по своему личному опыту знает.
И все опять смеются.
Так веселились поэты. Так по-детски, бесхитростно, простодушно. Смеялись до слез над тем, что со стороны, пожалуй, даже и смешным не казалось.
А «Песня о колдуне и жабе» осталась незаконченной. Ведь мы обещали Мандельштаму – «о проклятой жабе ни полслова». А жаль!
Мандельштам относился к занятиям в литературной студии «без должного уважения», как он сам признавался.
– Научить писать стихи нельзя. Вся эта «поэтическая учеба», в общем, ни к чему. Я уже печатался в «Аполлоне», и с успехом, – рассказывал он, – когда мне впервые пришлось побывать на Башне у Вячеслава Иванова по его личному приглашению. Он очень хвалил мои стихи: «Прекрасно, прекрасно. Изумительная у вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать ваши анапесты или амфибрахии». А я смотрю на него выпучив глаза и не знаю, что за звери такие анапесты и амфибрахии. Ведь я писал по слуху и не задумывался над тем, ямбы это или что другое. Когда я сказал об этом Вячеславу Иванову, он мне не поверил. И убедить его мне так и не удалось. Решил, что я «вундеркиндствую», и охладел ко мне. Впрочем, вскоре на меня насел Гумилев. Просветил меня, посвятил во все тайны. Я ведь даже удостоился чести быть объявленным акмеистом. Сами понимаете, какой я акмеист? Но по слабости характера я позволил наклеить себе на лоб ярлык и даже усердно старался писать по-акмеистически – хотя бы это, помните?



