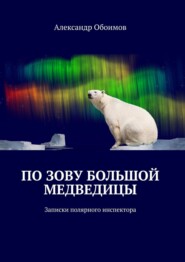скачать книгу бесплатно
Мрачное помещение, наполненное шумом работающего двигателя, выглядело очень солидно, несмотря на то, что там давно не проводился ремонт, ведь именно здесь бьется сердце станции. Кстати говоря, почти любой обитаемый объект в Арктике можно определить издалека именно по звуку работающих дизелей: там, где есть работающий двигатель, там есть жизнь. В дальнем углу стоял токарный станок, сделан еще в начале прошлого века. И вполне в работоспособном состоянии, рядом еще один такой же раритет – сверлильный станок от ручного привода. Рядом со станцией стоит еще трактор «СТЗ» 1936 года выпуска.
Около служебного дома есть баня, которую построили в 2010 году. Сделали добротно, но вот печка уже через два года прогорела, требуется замена, теперь только на следующий год. Погода наладилась, и я обследовал местные окрестности, не забывая, что белых мишек здесь хватает. Начальник станции предложил доехать на «Буране» до небольшого озера, где неплохо ловится голец и палия. Услышав данную информацию, у меня сразу загорелись глаза. Быстренько собрали снасти, взяли с собой термос с чаем и Наташиных блинов, отправились в путь.
На рыбалке
Через двадцать минут мы уже пробурили первые лунки, лед на озере был около 20 см. Я опустил блесну на дно, чуть приподнял, тихонько поигрывая, и тут же ощутил резкий удар. Сделав стремительную подсечку, не давая слабины перебирая леску, быстро вытащил сильную рыбину на лед. Палия была очень красивой, от обыкновенного гольца ее отличает более красочный наряд – буровато-зеленоватая чешуя с золотистым отливом, солнечно-золотыми крапами и просто пылающим брюшком! Еще несколько удачных подсечек и на льду появились гольцы другой раскраски.
Как мне пояснил Владимирович, что в этом озере другой рыбы не ловится. Размерами почти не отличаются, но нерестятся в разное время, палия – намного позднее и икра у нее крупнее. Клев ослабел, мы сменили место и через несколько минут были вознаграждены за свои труды. Рыба без разбора брала на любые блесна, а ведь по размерам озеро меньше километра в длину и метров триста в ширину, лужа просто говоря. Какой же клев здесь на больших озерах? Можно только представить. Очень короток ноябрьский день в Арктике, пора и домой возвращаться. Вытащив напоследок еще парочку рыбин, мы тронулись в обратный путь.
На косе, недалеко от станции увидели громадную тушу мертвого моржа. Песец с неохотой отбежал от нее и лег в ста метрах, недобрым взглядом посматривая на нас. Туша была слегка припорошена снегом и сливалась с местным ландшафтом, следов медведей вокруг не было. «Ну, теперь, как прознают, отсюда не уйдут мишки, мяса-то сколько, не меньше тонны. До станции меньше километра, теперь ухо надо держать востро!», – качал головой начальник станции.
Белый медведь по праву считается в Арктике «царем зверей». Это самый крупный и самый опасный хищник на планете. Размеры взрослого медведя-самца достигают 3,5 метров в длину и до метра в высоту, а вес его может составлять более тонны. На коротких расстояниях он может развивать скорость до 40 км/ч, т.е. скорость, с которой бежит олимпийский чемпион Усейн Болт (да и то по снегу вряд ли убежит от него). Прыжок мишки с места составляет более шести метров. Являясь по своей природе хищником, он в своем рационе мясо предпочитает растительной пище, на свою жертву охотится в любое время года и суток и практически при любой погоде. Зрение, обоняние и слух позволяют ему выслеживать добычу на расстоянии несколько километров. Как правило, и внезапная, случайная встреча с жертвой заканчивается нападением. Человек воспринимается им только, как желанная добыча, либо, как угроза.
– В этом году они часто наведывались на станцию? – спросил я начальника.
– Особо не докучали, но весной и летом несколько раз приходили и в окно даже один пытался залезть. Погремели кастрюлями, убежал. Предварительно мы его сфотографировали.
– Наверное, что-то вкусное готовили?
– Это точно. А так живности у нас хватает, треска прямо под окном ловится, самую большую почти на 4 кг вытащил, моржи частенько приплывают, тюлени, прилетают на лето больше сотни видов птиц, зайцев не перечесть. А как красива тундра летом, как здесь сочетаются приморские луга с необыкновенно яркими для тундры цветами и вечная мерзлота? Сам удивляюсь. Высоких гор тут нет, но на острове скалистый рельеф, есть каньоны, водопады. Одним словом – лепота. Зима в этом году очень мягкая -10°, а летом было до +24° была, минимальная температура чуть ниже – 20°. Про нас можно сказать – санаторно-курортная станция с метеорологическим уклоном, хоть бы районный коэффициент не убрали, – смеясь, говорит Анатолий Владимирович. Был бы моложе, то непременно еще бы не один год позимовал здесь.
Есть такая байка. Всякого, кто оказывается в Арктике, рано или поздно начинает интересовать один сугубо практический вопрос – что делать при встрече с белым медведем? Подразумевается, что винтовку вы оставили дома, а медведь заинтересовался вашей особой. Другими словами, можно ли убежать от белого медведя? Есть один ненецкий способ единоборства с белым медведем. Этот способ исключительно прост: нужно бросить на снег между собой и медведем какой-нибудь предмет (чем больше, тем лучше), например, шапку или рюкзак. Медведь ни за что не переступит через него, обежит кругом, а вы – от него. По кругу белый медведь бегает гораздо медленней, чем по прямой, так что вам не трудно будет увертываться от его тяжелых лап до тех пор, пока у него не закружится голова, и он не свалится к вашим ногам. Но не рекомендую это пробовать на практике.
Немного мистики
Берег острова Вайгач
Станция находится на мысу, который называется Болванский Нос. Когда-то здесь стояли ненецкие идолы – «болваны», здесь приносили в жертву оленей. На кончик мыса можно попасть, перейдя по доске глубокую расщелину. Зимой делать это нужно с большими предосторожностями. Сейчас от святилища осталась лишь горка камней. Единственный приметный ориентир – геодезическая тренога, а раньше располагалось святилище старухи-Ходако. На юге острова – старика-Вэсако. Есть еще главное святилище – Болванская гора в губе Долгой. Вайгач – это для ненцев такая же святыня, как Мекка для мусульман.
Современные исследователи приходят к выводу, что Вайгач – это единственный в своем роде «священный остров» коренных народов Севера. Здесь они поклонялись своим божествам, просили у них «разрешения» на промысел рыбы и зверя. Вплоть до 20-х годов прошлого века люди предпочитали тут не селиться. Аборигены верили, что только божества могут здесь находиться, что людям, осмелившимся нарушить их покой, грозит смерть. Первооткрывателями Вайгача были представители северных народов – югра и самоядь, или самоеды. Вслед за ними сюда пришли русские, но документальных свидетельств о первых посещениях отдаленного острова они не оставили. Лишь во второй половине XVI века публикуются свидетельства западноевропейских мореплавателей, которые встречали здесь русских (поморов) и ненцев. В 1594 году голландская экспедиция, искавшая новый торговый путь в Индию и Китай, обследовала Вайгач и на мысе, получившем позднее название «мыс Идолов», обнаружила более 400 идолов.
Идолы острова Вайгач
Этот «северный Рай» до ХХ века был пристанищем богов. Люди сюда приезжали только, чтобы поклониться обитавшим здесь богам. Здесь археологи нашли уникальные артефакты, принадлежащие III веку до н. э. Сравнивают остров Вайгач с островом Пасхи. Кроме того, Вайгач – уникальный географический объект. Здесь огромное множество озер, красивейшие скалы и водопады, а также древние святилища ненцев. Туристы рассказывают, что рядом с Вайгачем часто ломается техника. А иные гости острова видят призрак. Человек в малице, бывает, так мелькает перед путешественником, что он понимает: дух острова размышляет о том, пускать ли его на священную землю. Ту землю, о которой полярный исследователь Валерий Демин, к примеру, говорил, что именно здесь зародилась цивилизация.
Не секрет, что многие туристы стараются прихватить что-то на память из своего путешествия – камешек от пирамиды Хеопса, Стоунхенджа, или Великой китайской стены. Но не всегда эти трофеи безобидны. Несколько лет назад на Вайгаче работала морская арктическая комплексная экспедиция под руководством профессора Петра Боярского. Обнаружив Семиликого идола, москвичи решили, что артефакт требует реставрации, и забрали его в столицу. Но, как оказалось, вайгачский кумир сам может о себе позаботиться, и ученые сполна расплатились за своеволие. В реставрационной мастерской идол провел всего около года. Но с того момента, как он там поселился, на реставраторов начали сыпаться разнообразные неприятности: обваливался потолок, самовозгорались электробытовые приборы, люди стали часто болеть, несколько человек угодили в автокатастрофу. История напоминала известный случай с местью древнеегипетской мумии. Катаклизмы валились на москвичей со столь завидной регулярностью, что они поспешили избавиться от артефакта, даже не закончив толком реставрацию.
Хранитель Семиликого идола Андрей Вылко
Идола упаковали в коробку и отправили в адрес Пустозерского музея с просьбой вернуть раритет на остров. Работники музея, наученные горьким опытом столичных коллег (те поведали им о свалившейся на них беде), даже не стали распаковывать посылку. И при первой же возможности переправили артефакт на Вайгач. Такая оказия представилась, когда в Ненецкий округ приехал польский журналист, мечтавший попасть на священный для ненцев остров. Он-то и вернул раритет на родную землю, где передал местному жителю – Андрею Вылке. С помощью поляка тот установил идола на прежнее место.
Здесь хочется замереть от красоты вечных льдов, от тайн арктических пустынь. Вдохнуть морозный пронзительный воздух в тёмной полярной ночи и часами любоваться северным сиянием.
Там, где рождается рассвет
Остров Врангеля
В последние годы НЭС «Михаил Сомов» регулярно совершает рейсы к самым восточным рубежам нашей Родины – к берегам Чукотки, в частности на остров Врангеля. Другого такого острова в Арктике нет. Недаром его называют осколком древней Берингии и оазисом жизни: здесь, далеко за Полярным кругом, сохранились до наших дней редчайшие виды растений и животных. Этот остров – крупнейший в мире «родильный дом» белых медведей и единственное в стране гнездовье белых гусей. Именно здесь находятся лежбища моржей и птичьи базары, именно здесь обитают стадо акклиматизированных недавно овцебыков и легендарные розовые чайки.
Наша справка: остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Находится на стыке западного и восточного полушарий и разделяется 180-м меридианом на две почти равные части. Отделен от материка (северное побережье Чукотки) проливом Лонга шириной в самой узкой части около 140 км. Входит в состав одноименного заповедника. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первым, кто официально сообщил правительству Российской империи и миру о существовании острова, стал лейтенант Российского флота Фердинанд Петрович Врангель. Эти сведения были получены им от аборигенов Чукотки, по гражданскому статусу – подданных Российской империи. Право открытия и государственная принадлежность острова Врангеля долгое время оспаривались Канадой и США на том основании, что первыми, увидевшими остров Врангеля и высадившимися на нем, были американцы. В 1926 году для обеспечения государственного присутствия Советского Союза на острове Врангеля на нем под руководством советского исследователя Арктики, Георгия Алексеевича Ушакова было основано постоянное российское (советское) поселение. С этого момента началось систематическое изучение и освоение острова.
Как обычно, нашей основной задачей было обеспечение местной метеостанции и работников заповедника жизненно необходимым грузом для зимовки. Надо сказать, что с прибытием «Сомова» на этот край земли жизнь островитян заметно оживилась. Ко мне подошел человек индейской наружности с повязкой на голове. – Вы здесь старший? – безошибочно угадал он во мне начальника экспедиции. Я кивнул головой и представился. Он протянул мозолистую руку, также назвал себя: – Я, Гриша Каургин, может быть, слышали?
– Григорий, я же Вам диск привез с видеоклипом, помните, наши ребята в прошлом году снимали Вас?
Последний шаман острова Врангеля
Григорий Каургин живет тем же укладом, каким много лет назад жили его предки. Приезжающих с «большой земли» он не чурается, но природа здешних мест ему куда ближе, чем люди. И встреча с хозяином Арктики – белым медведем – пугает его меньше, чем современная цивилизация. Он – последний обитатель некогда большого поселка Ушаковский.
А еще его – чукчу с индейскими корнями – считают последним представителем древней шаманской династии, который знает язык животных. – После распада совхоза, когда заповедник здесь появился, и власти запретили охоту на моржей и белых медведей, наши все уехали на Чукотку, – рассказывает шаман. – Кто куда, главное, чтобы можно было охотиться и вести привычный образ жизни. Ему тоже много раз предлагали переехать на материк, но Григорий отвечает категорическим отказом. Говорит, в тундре весь смысл его жизни. Выжить «последнему шаману» в совершенно пустом поселке помогают сотрудники заповедника и метеостанции, хотя Григорий Каургин уверяет, что обошелся бы и без этой помощи – на острове есть все необходимое для его жизни. Тут мое внимание привлекла очень красивая лайка черного окраса с белым галстуком на груди. Григорий перехватил взгляд и опередил вопрос: – Это Чук, удивительно преданный и умный пес. Сколько раз меня выручал. Вот смотри: Чук, где медведь?
Собака насторожилась, начала оглядываться, вставать на задние лапы, стараясь расширить для себя горизонт, потом залаяла. – Чук очень хорошо чует медведя, ни за что не пропустит. Я по острову спокойно передвигаюсь, когда собака со мной. Знаете, как называют наш остров эскимосы? Умкылир Медвежий остров.
Еще на судне я познакомился с доктором биологических наук Никитой Овсяниковым, который известен в научном мире, как самый главный специалист по белым медведям. Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» – это его вотчина, здесь он начинал полевые исследования в Арктике еще в 1977 году, а сейчас занимает должность заместителя директора заповедника по науке. Всю свою профессиональную жизнь Никита Гордеевич работает в Арктике, изучая популяционную структуру и поведение арктических хищников – сначала песцов, затем, с 1990 года, белых медведей. Впервые он ступил на землю острова Врангеля, будучи студентом биологического факультета МГУ. Затем приехал сюда заниматься исследованием песцов и тринадцать лет посвятил этому делу. Посвятил – красиво сказано, литературно. На деле это значит полевую жизнь в тундре, тринадцать сезонов, с весны по осень, в любую погоду, по 6—10 часов беспрерывного наблюдения за маленькой полярной лисицей. Как живет, как умирает, в чем находит свой жизненный успех, почему плачет, отчего страдает, как защищается, какие «песни» поет, встречая весну, и еще массу всего столь необходимого для научного познания мира, сколь непонятного и «ненужного» простому смертному.
Через тринадцать лет Никита Гордеевич понял, что тему песца для себя исчерпал. Пятнадцати минут наблюдения за одной особью ему было достаточно, чтобы рассказать о ее жизненных устремлениях в данный исторический момент. Он читал хищника, как открытую книгу. «Как живет большой хищник?» – был следующий вопрос. И он отправился изучать белых медведей. Можно сказать, что начал жить сначала. Месяцами живет он один среди самых свирепых хищников Арктики, проводя наземные наблюдения за ними.
Каждый год, начиная с августа, к берегам острова собирается множество медведей всех возрастов, самцов и самок, одиночных зверей и семейных групп – медведиц с медвежатами.
В течение всего года медведи охотятся вокруг островов, в прибрежных акваториях, при исчезновении льдов остров Врангеля служит убежищем для переживания белыми медведями периода открытого моря на суше. С исчезновением дрейфующих льдов Арктики под воздействием глобального потепления эта роль острова Врангеля существенно возрастает. Примерно 80 процентов всех медведиц, обитающих в этом районе Арктики, залегают в берлоги на островах Врангеля и Геральд, поэтому эти острова еще называют «родильным домом» белых медведей. – Никита Гордеевич, практически все в один голос твердят, что белые медведи – самые опасные хищники на нашей планете, а вы столько времени проводите с ними рядом, буквально бок о бок. Неужели не страшно? Вы, кстати, в курсе, что за рубежом вас называют «человек-медведь»? Никита заразительно смеется: – Слышал, конечно. А насчет опасности, так каждый мишка – индивидуальность, со своим характером и даже со своей мимикой. Да-да, не смейтесь, я всех медведей на острове Врангеля знаю лично, каждому даже дал имя. Конечно же, моя работа очень опасна, трижды я чуть не поплатился жизнью, но был виноват в этом сам, так как повел себя неправильно, не заметил знак. Они ведь почти всегда предупреждают о нападении. Медведь – существо очень умное, но добродушное. Раз, получив от человека что-то хорошее и вкусное, например, сгущенку, он будет приходить снова, вот и возникают потом проблемы. В мире уже везде запретили медведей прикармливать, а у нас полярники все еще развлекаются, а потом жалуются, что медведи их достают. Да и отходы нужно уничтожать, а не бросать около станции.
– А что делать, если столкнулся с медведем нос к носу, так сказать?
– Хищник необязательно стремится немедленно сожрать непрошеного гостя. Сначала он выясняет, кто перед ним, степень его уверенности и свободы. И отступает, когда чувствует ее высокой, соразмеренной собственной. Инстинкт сохранения не дает лезть в непонятной ситуации.
Меры безопасности в Арктике – вопрос исключительно важный не только для людей, но и для сохранения белых медведей. Некомпетентные рекомендации не просто бесполезны – они могут быть смертельно опасными.
Как-то мне в руки попалась методичка, разработанная для сотрудников системы Росгидромета, работающих в Арктике. Там говорилось, что если белого медведя не удалось отпугнуть, то нужно лечь на землю и притвориться мертвым. Другими словами, презентовать себя хищнику в образе его основной добычи – нерпы.
Тут главное – выработать стратегию поведения, и ее принцип – среди медведей вести себя по-медвежьи. С волками жить – по-волчьи выть, в данном случае – по-медвежьи шипеть. И это вовсе не шутка! Чтобы избежать конфликтных ситуаций, необходимо дать им понять, что мы можем быть опасны для них. А как доходчиво объяснить, если не на привычном для медведей языке? Первый же медведь, на которого я зашипел, позорно пустился наутек. С тех пор громкое шипение позволяло мне держать медведей на безопасной дистанции в большинстве случаев. Звери определенно принимают меня за своего, хотя немного и непохожего на них, – смеется Никита. – Наибольший эффект шипение дает в сочетании с резким выпадом на медведя, в два-три шага с длинной палкой в руках, при этом зверь должен находиться не далее, чем в 10 – 12 метрах. В 90 процентах случаев психика нормального медведя не выдерживает подобного стресса. Да, кстати, малоизвестный факт: медведицы нередко принимают в семью детенышей, потерявших маму или заблудившихся среди ледяных торосов.
В возрасте трех лет медвежата переходят к самостоятельной жизни, а бывает, что уходят раньше. Эти звери живут как нахлебники – на остатках чужой добычи, сами эффективно охотиться они еще не умеют».
В возрасте трех лет медвежата переходят к самостоятельной жизни, а бывает, что уходят раньше. Эти звери живут как нахлебники – на остатках чужой добычи, сами эффективно охотиться они еще не умеют».
В возрасте трех лет медвежата переходят к самостоятельной жизни, а бывает, что уходят раньше. Эти звери живут как нахлебники – на остатках чужой добычи, сами эффективно охотиться они еще не умеют».
Кроме того, что остров Врангеля знаменит своими белыми медведями, есть у него еще одна изюминка – овцебык, или мускусный бык. Умингмак (бородатый) – так его называют эскимосы острова Нунивак, откуда в 1975 году их в количестве 20 особей переселили на остров Врангеля. И они замечательно прижились. Сейчас ученые заповедника насчитывают более 800 голов. Несколько тысячелетий назад овцебыки были обычными обитателями Евразии. Они паслись бок о бок с мамонтами, первобытными бизонами и волосатыми носорогами на огромной территории от Испании до Чукотки. Однако из-за изменений климата большинство представителей так называемой «мамонтовой» фауны вымерли. Овцебык оказался одним из самых стойких. Его многочисленные стада сохранились до нашего времени в тундрах Северной Америки и Гренландии, куда он когда-то проник по «берингийскому мосту». Встретить этих длинношерстных великанов на острове Врангеля теперь обычное дело. Они спокойно относятся к присутствию человека, да и белый медведь не слишком охоч до их мяса, которое по сравнению с нерпой все-таки жестковато. А волки – единственные естественные враги овцебыка – очень редко посещают остров. Так что североамериканским переселенцам тут полное раздолье.
Кроме того, что остров Врангеля знаменит своими белыми медведями, есть у него еще одна изюминка – овцебык, или мускусный бык. Умингмак (бородатый) – так его называют эскимосы острова Нунивак, откуда в 1975 году их в количестве 20 особей переселили на остров Врангеля. И они замечательно прижились. Сейчас ученые заповедника насчитывают более 800 голов. Несколько тысячелетий назад овцебыки были обычными обитателями Евразии. Они паслись бок о бок с мамонтами, первобытными бизонами и волосатыми носорогами на огромной территории от Испании до Чукотки. Однако из-за изменений климата большинство представителей так называемой «мамонтовой» фауны вымерли. Овцебык оказался одним из самых стойких. Его многочисленные стада сохранились до нашего времени в тундрах Северной Америки и Гренландии, куда он когда-то проник по «берингийскому мосту». Встретить этих длинношерстных великанов на острове Врангеля теперь обычное дело. Они спокойно относятся к присутствию человека, да и белый медведь не слишком охоч до их мяса, которое по сравнению с нерпой все-таки жестковато. А волки – единственные естественные враги овцебыка – очень редко посещают остров. Так что североамериканским переселенцам тут полное раздолье.
Овцебык в пос Ушаковское
С такой шубой им не страшна даже суровая местная зима. Кстати, в 2010 году «Михаил Сомов» вывез в Певек десять овцебыков для дальнейшей отправки в Московский зоопарк. Так что популяция «бородатых» уже известна далеко за пределами Чукотки.
А еще в конце июля – начале августа к острову Врангеля приплывают тысячи тихоокеанских моржей, мигрирующих на север после зимовки в Беринговом проливе. Каждое лето у берегов острова появляются серые киты. Осенью мимо острова проходят стада белух. Острову Врангеля везло: в последние ледниковые периоды он ни разу полностью не покрывался льдами, а в глобальные потепления не бывал полностью затоплен морскими водами. Именно поэтому здешние почвенные покровы и растения дают нам уникальное представление о том, как выглядела тундра в эпоху плейстоцена. Когда попадаешь на остров Врангеля, словно переносишься в прошлое на сотни тысяч лет. Биологическое разнообразие здесь и по сей день остается таким же богатым, как в древности. По мнению палеонтологов, остров Врангеля был еще и последним оплотом шерстистых мамонтов. Когда совсем недавно ученые принялись изучать кости мамонтов, найденные на острове Врангеля, они сделали удивительное открытие: оказалось, что последние мамонты жили там менее четырех тысяч лет назад. Точнее – три тысячи семьсот лет. Это значит, что последние мамонты острова Врангеля были современниками египетских пирамид и Вавилонской башни.
В 2010 году заповедник объявил акцию «Чистый остров», цель которой – очистка территории заповедника от антропогенных загрязнений, оставшихся со времен функционирования на острове отделения оленеводческого совхоза, поселка Ушаковское и военных баз. Жемчужиной Арктики называют остров Врангеля, осталось только навести лоск, чтобы название соответствовало. Ведь согласно легенде, на этом острове за мысом Уэринг рождается рассвет…
Прекрасное место под названием Несь
Село Несь
Если кому-то доведется побывать на Европейском Крайнем Севере, то он обязательно услышит о таком селе с необычным названием Несь. И живут там несяне. Слово-то какое, нежное. Получив задание на командировку от нашего родного Управления, я первым делом позвонил в аэропорт, чтобы узнать – когда ближайший рейс. Девушка по телефону спросила мои паспортные данные и попросила перезвонить через два дня. Объяснила, рейс будет, но обязательно мне нужно уточнить – во сколько вылет. И вот я в аэропорту Васьково. Лететь меньше 500 км, а цена туда и обратно, как горящая путевка в Турцию. Наконец-то, закончились томительные минуты ожидания, мы прошли контроль и сели в вертолет.
Позади, остался Архангельск, через час приземлились на лугу рядом с какой-то деревней, к нам подсели еще два человека – взмыли ввысь, полетели. Вот и Мезень, еще полчаса полета и люди на борту вертолета заметно оживились, это явная примета, что подлетаем. И точно, посмотрев в иллюминатор, увидел, как вертолет начал снижение. Приземлившись на летном поле, которое больше напоминало большой луг, мы вышли из вертолета. Начали подходить встречающие и просто зеваки. Прилет вертолета в эти места всегда большое событие.
– Вы на метео? – спросил меня мужчина, безошибочно угадав во мне инспектора.
– Не ошиблись, – утвердительно ответил я, улыбнувшись.
– Начальник метеостанции Лочехин Павел Брониславович, – представился мне встречающий.
Я также назвал себя, и поинтересовался насчет гостиницы. Брониславович засмеялся: «Дом большой, остановитесь у меня, а гостиницы у нас нет, хотя село немаленькое – около двух тысяч населения». Мы зашли в здание местного аэропорта, маленькое деревянное строение, узнали расписание, я записался на ближайший рейс и Брониславович, несмотря на мои протесты, взял мою сумку, повел меня к своему дому.
Начальник метеостанции с усмешкой посмотрел на мои кроссовки, покачал головой: «Здесь-то дорог нет, Вы это сейчас увидите. Поэтому обувь не для нашего села. Хотя по мосткам пройти можно, но чуть в сторону по щиколотку, а, то и по колено в грязи. Ничего подберем вам обувку». Говорил он «окая», немного похоже на вологодский говор, но оттенок был другой, как-то нежнее и певуче, растягивая слова.
По дороге Павел Брониславович рассказал о себе. Родился здесь же, в с. Несь. На станции он уже работает 27 лет, после армии бывший начальник Судзиловский Владимир Петрович, позвал к себе на станцию, через год поехал на учебу в Ростовскую гидрометеорологическую школу, еще через год вернулся с багажом знаний, которые стал применять на практике в должности техника-метеоролога. Два с половиной года назад Судзиловский трагически погиб и Павел Брониславович принял станцию. В этом году отмечает полувековой юбилей, воспитал сына и дочь, есть уже внук и внучка. Заядлый рыбак и охотник. Услышав эти слова, я оживился, времени на инспекцию станции до следующего рейса вертолета, у меня было предостаточно. Поинтересовался, будет ли у нас возможность порыбачить в этих краях. На что начальник станции ответил: «Проблем не будет!» Жена начальника станции – Лена (просила называть ее по имени) потчевала нас каждый день деревенскими блюдами и разносолами. Меню за неделю не повторилось ни разу. Тетерев тушеный, суп из куропаток, оленина отварная, оленина тушеная, грибы с картошкой, «губы» соленые (по-нашему волнушки), различные яства из дикого гуся, окуни запеченные, хариус жареный, салаты из моркови и дикого лука, морсы и варенье из северных ягод – морошки, черники, клюквы и брусники… Сейчас вспоминаю это с легким сожалением, что не все успел попробовать. Лена сказала, что в магазине мало чего покупают, сын и муж все добывают сами. Рядом лес, река, болото, тундра – они кормят.
С раннего утра и до позднего вечера пропадал я на метеорологической станции. Сама работа несложная, но скрупулезная, нельзя было упустить ни одной мелочи. Все замечания и предложения были внесены мною в акт.
Незаметно пробежали напряженные дни работы на станции, с раннего утра до позднего вечера. Наступил долгожданный день, когда Павел Брониславович объявил, что завтра едем на рыбалку вчетвером. С нами еще поедут сын Игорь и брат Петр. Предупредил, что вставать придется в 4 утра. Меня это нисколько не пугало. Вечер прошел в сборах и подготовке, проверен был лодочный мотор. Накопали «шуров», так местные жители называют дождевых червей, настроили удочки и спиннинги. В рюкзаки уложен провиант и все необходимое, что может понадобиться нам. Я спросил у Лены пшена и репчатого лука, люблю пшенную кашу, приготовленную в котелке на костре. И мне очень хотелось угостить ее моих новых знакомых.
Вроде бы приготовлено, осталось лечь пораньше и выспаться, потому, как нам завтра силы будут нужны.
Утром, услышав скрип половиц, мгновенно проснулся. Брониславович с одобрением посмотрел на меня: «Молодец, даже будить не пришлось!»
Мотор почихав, с неохотой завелся и наш «Прогресс» понес нас вверх по течению. Я поинтересовался, сколько по времени плыть по реке. Игорь снисходительно посмотрел на меня и с видом знатока оценил уровень реки: «Вода большая, доберемся быстро. Часа через полтора будем у цели. Тем более за рулем профессионал» (это он про себя). Я достал свою безотказную «Лейку» и сделал свои первые снимки на реке Несь. Дышать полной грудью» – эти слова я в полной мере оценил именно здесь. На многие сотни километров нет заводов и других предприятий. Воздух чистейший, с нежной примесью запаха цветущей черемухи (а в Архангельске она уже давно отцвела). Кругом стояла первозданная тишина, и только звук нашего двадцатипятисильного «Вихря» нарушал гармонию природы.
И вот мы прибыли в конечную точку нашего плавания. Ручей Ёлгуй, который впадает в реку Несь. Местные названия мелких речушек и ручьев с ненецким колоритом. По-другому местные жители называют их «виски» (не путать с крепким алкогольным напитком, а вообще, может местным аборигенам еще нужно брать деньги с иностранцев за это, надо предложить). Местами лежал снег, а ведь уже середина июня.
Речная гладь, как зеркало. Комары еще не проснулись, поэтому защита от них пока нам не понадобилась.
– Сейчас чайку сообразим, и будем сплавляться потихоньку, только успевай смотреть, где хариус играет. Заметили, быстренько пристаем к берегу и облавливаем это место. Хариус любит тень, чтобы ручьи рядом были. Поклевка у него резкая, только успевай подсекать, слабину не давай, – учил меня Брониславович. Сплавляться будем с тобой на «Прогрессе», а сын с братом на резиновой лодке. Я решил сварить кашу на костре, тем более время у нас в запасе было. В трехлитровый котелок кроме пшена добавил репчатый лук и пару банок тушенки. Воду брали из ручья. Кстати, ее пьют все здесь сырую, кипятить не обязательно, такая она чистая. Через пятнадцать минут к костру на запах подтянулись все, кроме Петра, который уже забросил удочку и, не дожидаясь завтрака, принялся за дело. По всему видно, что ему очень хотелось открыть счет первому. В чем он и очень скоро преуспел.
Буквально через минуту мы услышали его торжествующий возглас, и через мгновение он показался из-за кустов с хариусом в руке. Граммов триста, не больше. Но ведь первый!
Быстро покончив с кашей, попили чаю, схватили удочки и вперед облавливать реку и ручей. Увы, полчаса и ни одной поклевки. Даже щука не польстилась на блесну.
– Будем сплавляться вниз по реке, Петрович, (это касалось меня) ты на веслах и смотри по сторонам, увидишь всплеск, сразу к берегу, – давал мне наставления Брониславович.
– Вода большая, клев будет слабый, – резюмировал Игорь.
Но для меня-то самое главное – процесс. Хотя поймать своего первого хариуса на реке Несь мне очень хотелось. Вот уже «обрыбился» Брониславович, вытащил двух приличных хариусков из-под куста, Игорь тоже не заставил себя ждать, Петр достал еще двух, а у меня ни одной поклевки. Обидно, честное слово. Но вот мы заметили сильный всплеск, пристали к берегу в пяти метрах и стали забрасывать удочки. Сильный удар сотряс мое удилище. Леска натянулась как струна. «Не давать слабину!», – вспомнил наставления и осторожно дрожащими руками я подтягивал к берегу сильную рыбину.
Первый хариус
И вот он мой первый трофей. С гордостью я посмотрел на заядлых рыболовов. Мой-то экземпляр был не меньше их. Задача минимум была выполнена. А потом дело пошло у всех. Решили пристать к берегу пообедать, тем более Игорь сделал «скоросолку» из хариуса. Только мы развели костер, как услышали звук мотора. Кто бы это мог быть? – подумалось мне. Через несколько минут из-за поворота, которыми изобилует река, показалась «Казанка».
– Это мой зять Николай, но он же, никогда на моторке за рулем не ездит, – удивленно сказал Брониславович.
Спустя мгновение все прояснилось, напарник, который был с ним в лодке, был просто мертвецки пьян. Николай поздоровался со всеми, мы представились друг другу.
После обеда мы порыбачили еще немного на реке, но клев, как отрезало, и было принято решение дойти до озера Листвиги, благо идти нужно было от берега метров триста. Я поинтересовался, какая рыба там водится. Оказалось, только окунь, но черный, как уголь.
На озере я понял, что такое клев! Окунь брал непрерывно и действительно почти черный, полоски еле просматривались. Стандартного размера чуть больше ладони. Комаров было тут просто тучи, спасали противомоскитные сетки и репелленты. Через час клев, как отрубило, но рыбы уже поймано предостаточно.
– Лена опять будет ругаться, что окуней привезли. Придется мне их чистить, – горестно усмехнулся Брониславович.
А я был доволен, хороший клев, неплохой улов, масса впечатлений и в теле была приятная усталость, проблемы, с которыми сталкиваемся мы, городские жители, чужды жителям таких сел и деревень. Поужинали у костра на берегу, потравили рыбацкие и охотничьи байки, наш смех то и дело раздавался над рекой. Я слушал их – этих, ставших мне за короткий срок близких людей и понимал, что если будет возможность, то обязательно еще напрошусь сюда в командировку. Чтобы еще раз ощутить всю прелесть этого края, подышать этим чистым воздухом, услышать неповторимый говор местных жителей, неиспорченных цивилизацией, увидеть великолепные закаты над рекой и просто отдохнуть от городской суеты…
Остров, где живет ветер
На Белом море уже нет моржей, а топонимией они отражены. И в этом удивительного ничего нет: они были раньше и встречались здесь совсем недавно, а окончательно исчезли лишь в ХIХ веке. На беломорских моржей регулярно охотились, и скорее всего это стало причиной того, что названия островов Моржовец и Моржовый превратились в надгробные памятники морским гигантам. Пусть же это послужит нам предостережением в отношении других видов, обитающих в самом Белом море и на его берегах.
Остров Моржовец
Неподалеку от острова Моржовец, на Зимнем берегу, есть место – Абрамовский берег. Меня заинтересовало: «Откуда такое название?»
Вот, что мне удалось отыскать в источниках. Оказывается, раньше поморы молодых моржей звали абрашками. На берегу, моржихи выводили своих детенышей на лежбищах. Так и пошло: Абрашкин берег. Потом окультурили до Абрамовского. Такая вот интересная топонимика.
На острове Моржовец, я бывал неоднократно, но мои посещения ограничивались совсем коротким промежутком времени. Вдобавок, все мои прилеты сюда были уже поздней осенью или зимой, когда наступает полярная ночь, и всех красот уже не увидишь. А мне очень хотелось не просто посетить нашу метеорологическую станцию, которая находится на юго-западном берегу, но и по возможности побывать в центре острова, увидеть обрывистые берега его северной оконечности. И вот, после короткой экспедиции на НЭС «Михаил Сомов» в центр Арктики на остров Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа, меня вертолетом с корабля доставили на остров.
На небе ни облачка, легкий ветерок, горизонт просматривался на многие десятки километров. С воздуха хорошо были видны сотни озер этого небольшого острова.
В 1843 году на острове Моржовец были организованы метеорологические наблюдения. До 1895 г. происходили перерывы в работе, с 1895 года начались регулярные наблюдения по программе II разряда. До 1938 года станция называлась Моржовский Маяк, с января 1938 г. – Моржовец. Первыми наблюдателями были служители маяка: Большаков М. И. (1896—1901), Зыков М. Т. (1902—1910), Редрухин В. Г. (1919—1921). В последующие годы штат наблюдателей станции постоянно менялся (Судзиловский Т. И., Редрухин С. В., Малыгин С. В., Фомин В. С. и др.). В 50-е годы прошлого века начальником МГ-2 Моржовец был Иванюха В. А., который вместе с женой Иванюха Е. И. отработал на станции около 15 лет. В период с 1966 по 1984 гг. станцией руководил Вдовкин Игорь Иванович, который также работал со своей женой Вдовкиной Г. И. С 1984 по 2010 год в качестве начальника на станции трудился Востряков Б. Н. Сейчас станцию возглавляет Мороз В. А. Метеорологическая площадка неоднократно переносилась в зависимости от нахождения маяка: с 1953 г. станция находится в северо-западной части острова.
На станции постоянно усложнялась программа наблюдений. С 1906 г. начались наблюдения за температурой воды, степенью волнения моря, удельным весом воды, ледовые наблюдения. Позже дополнилась наблюдениями за снежным покровом, за солнечным сиянием, за температурой почвы, за гололедно-изморозевыми отложениями. Это одна из старейших метеостанций России.
Встреча с островитянами
На станции меня ждали еще две недели назад, но в виду незапланированной для меня экспедиции на остров Греэм-Белл, я немного задержался.
Чесноков И.П, Мороз В. А., Мороз В.И (слева направо)
Встречали меня мои старые знакомые: начальник метеостанции Мороз Владимир Альбертович, его супруга Вера Ивановна и старожил станции Чесноков Иван Павлович, который провел здесь уже четырнадцать зимовок. Я прекрасно понимал, что навигация еще не началась в Белом море и поэтому, попросил на корабле дать мне два мешка картошки и мешок лука в подарок аборигенам. Надо было видеть благодарные лица островитян за эти привычные для нас продукты, которые мы спокойно можем купить в любом магазине.
Времени на инспекцию было больше, чем достаточно – ближайшая оказия для снятия меня с острова будет не ранее чем через две недели, но я времени даром терять не стал. Сделать дело и потом наслаждаться рыбалкой и исследованием острова.
Вера и Владимир (они просили называть их по именам, без отчества) здесь уже два года. Уехали на остров сразу же после свадьбы. И именно столько уже длиться их медовый месяц. Вера, правда, скучает иногда по городу, по родным, но любимый муж рядом быстро развевает ее грусть-печаль. С гордостью хозяйка показала мне свой дневник, который регулярно ведет. В нем досконально записаны все события – сколько они заготовили дров, когда прилетели лебеди, гуси и утки, сколько собрали грибов, морошки, брусники, черники и клюквы. «А сколько Володя наловил рыбы в прошлом году! – восклицает Вера. – Заготовили на всю зиму, еще и маячникам отдали много. А вот мой огород, – на подоконнике в ящике росли огурцы, укроп, зеленый лук, петрушка. Под окном дала первые ростки редиска. – Еще в прошлом году ведро картошки посадили, ведро и собрали, зато молодой и свежей. Грибы разные здесь растут. Очень много груздей, подосиновиков, а в один удачный день нашли три десятка белых грибов. Ходить далеко не нужно и искать тоже, издалека видно. Маринуем, солим, сушим их. С оказией отправляем детям и знакомым в Архангельск. Вам тоже с собой дадим, не переживайте, без гостинцев от нас не уедете.
На мой вопрос, много ли летом на острове комаров и мошки, Вера улыбнулась и сказала: «На нашем острове живет ветер, и он всех комаров сдувает».
Иван Павлович в этом году собирается в отпуск, но как он говорит, что через неделю уже начнет скучать по острову. Очень устает от городской суеты, а здесь чистый воздух, красивая природа. Он просто не представляет себе другой жизни и чувствует себя частичкой этого укромного уголка Беломорья. Ему в этом году исполняется 67 лет, но он бодр и полон сил, поэтому покидать станцию и уходить на заслуженный отдых пока не собирается.
Надо сказать, что кроме метеорологов на острове живут еще работники маяка, которые его обслуживают. Живут, в принципе, с соседями дружно, но иногда и бывают ссоры, о которых быстро забывают, понимая, что в согласии всегда лучше. Примечательно, что один из маячников, Дмитрий Михеев, здесь уже в четвертом поколении. Его прадед начинал службу на маяке еще на заре Советской власти. А бабушка ему рассказывала, как у них часто гостил на маяке знаменитый полярный летчик М. С. Бабушкин. Работники маяка жаловались, что техника у них очень старая, постоянно ломается.