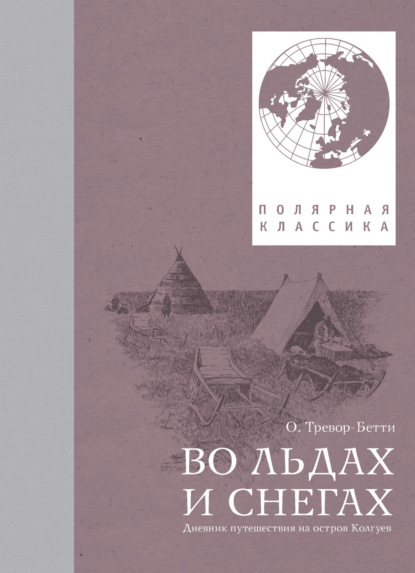
Полная версия:
Во льдах и снегах. Дневник путешествия на остров Колгуев
1826. – В этом году была снаряжена русская экспедиция – для снятия на карту части океана к востоку от Белого моря до устья Печоры, включая Колгуев. Эта экспедиция под начальством подштурмана Бережных объехала остров кругом в четыре дня и тем исполнила свое поручение[46].
1841. – Этот год памятен в истории Колгуева, так как тогда была сделана первая попытка высадки на него с целью научного его исследования. Профессор Савельев в сопровождении д-ра Рупрехта (консерватора Ботанического музея Императорской С.-Петербургской академии наук) дважды, в июле и августе упомянутого года, посетил этот остров. В очень интересной статье[47], в которой Савельев излагает результаты их поездки, он говорит: «Сначала мы высадились на южной его оконечности у устья р. Васькиной, откуда Рупрехт совершил экскурсию вовнутрь острова на оленях. Проведя здесь десять дней, мы решили объехать кругом острова и поплыли на парусах вдоль западного его берега, высаживаясь мимоходом у небольшой речки Гусиной (69°26′ сев. шир.) и у р. Конькиной. Но, достигнув северной оконечности острова, мы должны были вследствие неблагоприятных ветров повернуть и направиться к Святому Носу на Тиманском берегу. В августе мы опять посетили Колгуев и, желая проехать вдоль восточного берега, направились в Становой Шарок, где оставались шесть дней, которыми Рупрехт опять воспользовался для экскурсии вовнутрь острова. Нужно, однако, заметить, что наше пребывание на Колгуеве совершено было при самых неблагоприятных обстоятельствах. Из шестнадцати дней, проведенных нами у устья р. Васькиной и в Становом Шарке погода в течение десяти из них была такова, что нечего было и думать об исследованиях или экскурсиях на острове. Сильные штормы не позволяли нам даже оставить палатки».
Так говорит проф. Савельев. Работа, сделанная ими в течение шести дней, имевшихся в их распоряжении, как бы она ни была превосходна, не могла быть, конечно, обширной, и так как я провел на острове не шесть дней, а три месяца, то мне удалось прибавить многое к их исследованиям.
В наше время многие арктические путешественники проходили к северу и северо-востоку от Колгуева, но я нигде не мог найти никакого упоминания, чтобы кто-нибудь из них посетил его.
1858. – В этом году С. Максимов напечатал в «Морском сборнике» то, что он слышал от поморов о Колгуеве. Этот коротенький отчет, написанный оригинальным, образным языком и вошедший впоследствии в сборник Максимова «Год на Севере», я не могу удержаться, чтоб не привести здесь почти целиком.
По три дня молебную совершал, накануне отъезда Св. Тайн Господних приобщихся… Пять дней боролись мы с морскою стихией, преодолевая ее напор и волнения, и на шестые сутки – Богу поспешествующу! – узрели наконец вожделенный брег о. Колгуева. За все страдания, о коих считаю за благо промолчать, вознаградил себя тем святым делом, на которое уготован и освящен: съезжая с пустынного Колгуева, не оставил на нем ни единого из живущих там самоедских семейств неокрещенным, в Христа Спасителя неверующим.
Вот что слышал я про Колгуев с одной стороны, а с другой, от промышленников: что остров этот не страшней Матки (Новой Земли); что если промышленнику брезгать Колгуевым, то незачем было ему и на свет Божий родиться.
На печи лежа, кроме пролежней, мало чего другого нажить можно, а с морем игру затеешь – умеючи да опасливо – в накладе не будешь. Нам, поморам, в морских плаваниях не учиться стать, мало того, что малый ребенок умеет веслом править, баба, самая баба – уж чего бы, кажись, человека хуже?! – а и та, что белуга, что нерпа, лихая в море… Колгуев этот – все равно что дом наш родной; полтораста этих верст мы на попутничке и в сутки отработаем.
К показаниям мезенцев можно прибавить еще то, что остров Колгуев можно считать более гостеприимным и удобным к заселению, чем два других принадлежащих России океанских острова: Новая Земля и Вайгач… Правда, что и Колгуев долгое время носил незаслуженное им имя негостеприимного и даже пагубного для заселения острова, но позднейшие факты решительно говорят противное. Правда, что 85 лет назад, Бармин, архангельский купец-раскольник выселил на собственное иждивение на остров Колгуев сорок человек мужчин и женщин, желавших основать там скит, но все переселенцы эти вымерли в один год (спаслось только четверо), но правда также и то, что раскольники эти большею частью были люди престарелые и принадлежали к строгой аскетической секте, допускавшей из набожности в некоторые установленные ими месяцы прием пищи только один раз в неделю. Академик Озерецковский, спутник Лепехина в его ученом путешествии по северным берегам России, в 1772 году встретил на реке Снопе (впадающей в океан на Канинском берегу) двух из барминских прозелитов, до того зараженных уже (до переселения еще на Колгуев) скорбутом, что вонь из их ртов оттолкнула меня к дверям избы (как пишет он сам), лица их были пребледные, крепости в теле никакой не находилось, и я с сожалением смотрел, что бедные люди пылают суеверием и на Ледовитом океане.
Между тем в настоящее время на Колгуеве живут более ста самоедов, лет двадцать назад тому выселившихся сюда, или на правах оленьих пастухов по найму от мезенских богачей, или наконец по доброй воле (хотя это, впрочем, и меньшая часть). Переселенцы эти прекратили всякое сношение с материком и уже успели значительно обсемениться. Посещавшие остров береговые жители видали там и грудных детей и подростков и, не замечая в них никаких проявлений особенных болезней, на себе самих не испытали ни малейшего признака всегда ненавистной и всегда погибельной цинги, но, даже вернувшись домой к осени, неизбежно встречали такого рода приветствие: «Разнесло тебя, сват, раздобрило, уж и впрямь, тебе одно надобно сказать: либо с Мурмана тебя принесло, либо с Колгуева. Хорош островок – дай ему Господи многие годы!..
Высокое скалистое положение острова, пять значительных по величине рек с пресной водой (Великая, Пушная, Кривая, Васькина и Гусиная), также несколько пресных озер близ середины острова и самая середина эта, значительно поднятая над окраинными берегами, стало быть, обусловливающая постоянно передвижение воздуха морскими ветрами, отсутствие значительных высот скал, громоздящихся на других островах плотными стенами, допускающими частый застой воздуха, который заражается там летнею порою зловредными испарениями гниющей морской туры (морского гороха), наконец, сильное течение океана, прямо направляющееся мимо этого острова на Новую Землю – вот те видимые причины, которые обусловливают возможность существования на острове Колгуеве жителей, помимо всех тех несчастных случаев, могущих ослабить дух предприимчивости даже и терпеливых поморов. Если самоедские семьи удерживают на Колгуеве богатство оленьего моха, выстилающего все покатости острова и, стало быть, легкую возможность прокармливать оленьи стада, но мезенских промышленников влечет Колгуев богатством перелетной птицы, в несметном количестве наполняющей этот остров…
Ездим на Колгуев артелью, ездим и в одиночку греблей, либо бежим паруском, как кого Господь взыщет… Вот и приехали… На ту пору на Колгуев птица прилетела вся и ведет безустанный крик: тут и гусь гогочет крепче всех, тут и галка своим горлышком звенит – словно в стеклушки, тут и утка сычит, словно пьяный мужик с перепоя, и чайку слышишь… Май месяц, июнь опять, берем мы эту птицу таким побытом на стрельну, на гнездах… Убитую птицу мы в кучи складываем, лежит она, матушка, тухнет, коли дожди льют, а не то и сама подпревает. Нам это ничего, потому на больно-то хорошее не поважены: едим и таких всласть да прихваливаем. Ну вот, полежат у нас набитые гуси, подождут своего череду, пока мы стрелять поустанем, или порох под исход пойдет – мы их посолим, в бочки сложим… Перед Прокофьевым днем (в начале июля) гуси-яловики (бездетные) линять начинают, на самый Прокофьев день (8 июля) у них глухая лень бывает. Ленный гусь летать уж не может, пера на нем мало; пух словно выщипал кто. Сидит тот гусь словно обиженный: и молвы лишается, и сидит, прикурнувши, прячется, и от человека таится, словно стыдится наготы-то своей. Вот, как сел этот ленный гусь на малых озерах да пустил большие в запас, чтобы ходить туда за пищей денной, мы порох прячем далеко, о ружьях и не вспоминаем, а вместо них беремся за сети. Тут уж не работа, а масленица, и дело вот какого толку и принаровки: на всех тех переходах из малых озер в большое, где гусь ходить любит, мы распутываем сети свои, крыльями далеко по сторонам, в середине у малых озер воротца оставляем для входу птицы. У воротец из тундры делаем въездец такой: к озеру покатый, в середине круга крутой-прекрутой, чтобы не мог гусь драла дать назад, коли попал он по нашему веленью в матицу сети. Сделаем мы все это (а дело и часа времени не займет) – спускаем собак, сами шумим да лаем, чтобы знал гусь, что ему из малого озера в большое выходить надо. Тут наш брат сноровку знай: не потянул бы передовик-гусь в гору, помимо сети твоей. Потянул один – за ним и все побегут (таков уж у них досельный обычай!); а побежали гуси в гору, ты с ними и на оленях не угонишься: круто бегают. От собак бегут они в воду, от человека в гору – это тоже примета: так и знаем, а потому и творим дело с опасом, не борзясь, малым ребятам не подобясь. А попал гусь один в воротца, за ним и другой и сотый побежит: тут только прыгай за ним, лови в охапку, да и отвертывай головки. А это уж малого ребенка рукоделие – легкая забава, безобидная!
А не побегут в воротца?
Да на это человеку и хитрость дана, для этого человек и бородой опушается – по мне это так, да и эдак, пожалуй, что вот есть и такие хитрые серые гуси-гуменники (Anser segetum), что хитрей его зверя трудно найти, не токмо какую слабую птицу. Любит этот гусь таиться – не скоро его отыщешь, да и отыщешь, дело вести с ним не мутовку лизать. Мы хитрую эту птицу, на лодках выезжаючи, на середину озера с опасом великим сгоняем, да и тут он тебе козлы ставит: человека он видит, человека он за врага знает и творит с ним всякую кознь. В середину озера он нейдет, на этот раз кучевой артели до смерти боится. Мы и собак держим на этот час на привязи, чтобы не зевали, не пугали, и веслами легонько гребем, а не токма разговор и дух-от, пожалуй, в себя вбираем. А гусь все свою жизнь бережет, все опасается, все оглядывается, все не тянет в круг. Один выйдет и на берег, пожалуй, – и все оглядывается, все человечью-то нашу хитрость ни в грош не ставит, надсмехается. А побеги он, побеги, Христа ради! – все за ним, все за ним!.. ей-богу!
Гусь-клокот (Bernida brenta), тот дурак, у того и голова-то коли не коровья с дурости его, так я уж и не знаю чья. Гусь-клокот башковатостью-то своей разве с одной казарой (Anser albifrons) спорить может. Эта сударыня – такая несовместимая, неумытная дура, что сама в наши промысловые избы заходит… И вот вывозим мы с Колгуева острова гусей этих самых по общей сметке сказывают, сто тысяч штук. А могли бы и больше – ну да это ладно! об этом я теперь и вспоминать больше не стану, а поведу тебе речь свою к концу и на пущую докуку о том, что на наш Колгуев еще груманские (шпицбергенские) гаги (Colymbus adamsi) прилетают, – это турпаны. Это не то тебе утка морская, не то настоящая гагка (Colymbus arcticus), а прилетает ее на Колгуев несметное тоже число. Садятся они больше на летней (южной) стороне, на мелях Кривачьих или Тонких Кошках (корги-то эти и море, почесть, никогда не топит, не заливает водой). Сидят они тут, не кричат, в кругах, а выгонишь их в гору к сетям – бегут не долго, сейчас отдохнуть сядут, потому больно жирны и пахнут. Тут их не стреляй, а то все в растеку ударятся, а гони опять: безотменно в сети попадут, ингодь тысяч пять, а не то и все пятнадцать за один раз. Считать их только трудно бывает после. Чем больше лодок пущаем в ход, тем и удачи больше имеем. Тут вся хитрость – подогнать их дальше к берегу, не пускать в голомя. А затем угодишь их собрать в табун и погонишь. Бегут они, с боку на бок переваливаясь, боковые покружатся около середних да и устанут, а эти сядут, а там только отделяй в кучи шестами по участкам да и гони потом, в какую сеть пожелаешь. Идут охотно, без разговоров, словно человек из бани вышел, да крепко запарился, да на печь полез спать после того, и разговору держать никакого не может. Берем мы опять с гагар и гагки этой подать и яйцами; а яйца эти кладут они на воду на мелкое место, на камушки, на травничек.
Но и кроме птицы, Колгуев богат многим и очень многим. Самоеды стреляют по берегам его и нерпу, которая любит понежиться одинаково и на льдине, как и на шероховатом, оголяемом в морской отлив камне, и морских зайцев, и моржей, которые, хотя и редко, но выстают и здесь так же, как и на Новой Земле. Неводят самоеды и жирных, всегда прибыльных белуг, хотя большая часть этого корыстного сального зверя ускользает от рук и угребает потом и к полюсу на свободу, и в Белое море, в более опытные и навыкнувшие в деле руки. Рыба, изобильно населяющая островские реки и озера, как, напр., гольцы, сиги, омули и куледка (форели), вылавливается исключительно для местного употребления и во всяком случае, во всякое время способна обусловливать в известной степени и существование переселенцев, и возможность дальнейшего посещения этого острова береговыми соседями его. Дикий лук и щавель, клюква и морошка, топливо, в избытке выбрасываемое морем на островские берега, служат не малым и не ничтожным подспорьем ко всему вышесказанному, чтобы окончательно увериться в возможности дальнейшего заселения Колгуева. Ошкуй (белый медведь) часто правда бродит по острову и творит свои неладные медвежьи шутки, но против него найдется и горячая пуля, и меткий выстрел, и верный взгляд; дикие олени в свежем их виде дают вкусную и здоровую пищу; множество песцов и лисиц, издавна сделавшихся уже аборигенами здешних, хотя и пустынных, но здоровых климатом мест, могут служить целью не безвыгодной и не трудной ловли.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Голованов В. Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий. М., 2024. С. 204.
2
Там же. С. 380.
3
Полное имя: Aubyn Bernard Rochfort Trevor-Battye. Часть фамилии Тревор он, вместе с матерью и старшим братом, принял в 1890 г. – как написано в одном из некрологов, «унаследовав некоторые поместья, доставшиеся его отцу» (Mr. A. Trevor-Battye // Nature. 1923. Vol. III. № 2776. 13 January. P. 57).
4
Aubyn Trevor-Battye // The Geographical Journal. 1923. Vol. LXI. № 3. P. 229.
5
Trevor-Battye, Aubyn Bernard Rochfort // Who’s Who. Vol. 59. Oxford, 1907. P. 1769.
6
С 1879 г. Мозли работал в Лондонском университете. В 1881 г. возглавил кафедру анатомии в Мертон-колледже Оксфорда.
7
Trevor-Battye A. Pictures in prose. London, 1894. Дословный перевод полного варианта названия: «Картины в прозе о природе, диком спорте и скромной жизни».
8
Trevor-Battye A. A northern highway of the Tsar. London, 1898.
9
Stone I. R. Profile: Aubyn Trevor-Battye // Polar Record. 1986. № 23 (143). P. 181–182.
10
Аветисов Г. П. Тревор-Батти (Trevor-Battye) Аубин (17.07.1855–19/20.12.1922) // Имена на карте Арктики. Names on the map of the Arctic [Электронный ресурс] URL: http://www.gpavet.narod.ru/Names6/trevor_battye.htm (дата обращения: 12.02.2024).
11
Trevor-Battye A. Report upon Ekman Bay and Dickson Bay // The first crossing of Spitsbergen by Sir William Martin Conway. London, 1897.
12
Trevor-Battye, Aubryn Bernard Rochfort // Who’s Who… P. 1769. «The Victoria History of the Counties of England» представляет собой проект по английской истории, который начался в 1899 г. и был посвящен королеве Виктории (что отражено в названии). Его цель – энциклопедическое описание каждого из исторических графств Англии.
13
Stevenson Family History [Электронный ресурс] URL: http://www.stevensonfamily.plus.com/fhsteven/grpf1968.htm (дата обращения: 12.02.2024).
14
Розмари Вордсворч Бетти (Rosemary Wordsworth Battye; 28 июня 1902–1971) и Элизабет Кристель Рошфор Тревор-Бетти (Elisabeth Christel Rochfort Trevor-Battye; 22 сентября 1904–1994). Жизнь внука О. Тревора-Бетти, Д. Ф. Бетти Ле Бретона (David Francis Battye Le Breton; 2 марта 1931 – 18 января 2023) – сына Элизабет, оказалась тесно связана с Африкой. В качестве дипломата он работал в Занзибаре, Замбии, Кении (в этой стране он родился) и Гамбии.
15
Еще одно путешествие в Африку О. Тревор-Бетти совершил в 1910 г.
16
Aubyn Trevor-Battye // The Geographical Journal… P. 230.
17
H. A. Aubyn Bernard Rochfort Trevor-Battye // Ibis. 1923. Vol. 65. Iss. 2. P. 333.
18
Mr. A. Trevor-Battye // Nature… P. 57
19
Lord Lilford on birds. London, 1903.
20
Aubyn Trevor-Battye // The Geographical Journal… P. 230.
21
H. A. Aubyn Bernard Rochfort Trevor-Battye // Ibis… P. 333.
22
Stone I. R. Op. cit. P. 177.
23
Trevor-Battye, Aubryn Bernard Rochfort // Who’s Who. Vol. 59. Oxford, 1907. P. 1769.
24
Такая дата указана во всех некрологах и позднейших публикациях. На надгробии обозначена дата смерти – 19 декабря 1922 г.
25
Аветисов Г. П. Указ. соч.
26
Aubyn Trevor-Battye // The Geographical Journal… P. 229–230.
27
H. A. Aubyn Bernard Rochfort Trevor-Battye // Ibis… P. 332–334.
28
Stone I. R. Op. cit. P. 177, 182.
29
Подробнее о нем см. в статье М. В. Медоварова «А. Ф. Филиппов: путь интеллектуала и авантюриста в поле множественных идентичностей» (Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 78. М., 2022. С. 324–339).
30
Голованов В. Указ. соч. С. 202–203.
31
Там же. С. 205.
32
Голованов В. Указ. соч. С. 205.
33
Ознакомившись с английским изданием книги, невозможно не согласиться с В. Я. Головановым: «В 1897 году книга вышла в русском переводе, но, конечно, необходимо взять в руки прекрасное, заключенное в тисненую, голубоватую с золотом, обложку, более чем четырехсотстраничное английское издание, с картой, иллюстрациями и приложениями (флора, фауна, особенности ненецкого языка), чтобы почувствовать, с чем, собственно, мы имеем дело, каким неизъяснимым ароматом веет от книги и откуда в ней такая смесь авторского достоинства и самолюбования, широкой эрудиции и едва заметного надменства, исследовательского интереса и необоримого духа превосходства, который довлеет надо всем… Добрая старая викторианская Англия, после Ватерлоо не знавшая ничего, кроме побед, Англия-владычица (уже не только морей, но и доброй половины мира), Англия, не желающая отказаться ни от одной из своих прихотей и в равной степени не способная признать ни одну свою ложь, живущая чувством собственной полноценности – вот где, помимо Колгуева, мы невольно оказываемся, взяв в руки эту книгу» (Голованов В. Указ. соч. С. 205–206).
34
Думается, что это утверждение абсолютно справедливо. Память о британской экспедиции сохранялась на острове еще в конце XX в. (об этом подробно писал В. Я. Голованов).
35
Stone I. R. Op. cit. P. 182. В этой же работе отмечено, что Тревор-Бетти плохо ладил с товарищем по путешествию. «У Тревора-Бетти, однако, было два компаньона. Один из них – Томас Гиланд, молодой зеленщик, который, “хотя и совсем недавно открыл небольшой бизнес… был рад прийти и освежевать птиц”; другим был “старый Матрос, спаниель, одна из самых верных и опытных собак, предназначенных для ружейной охоты”. Из них двоих Тревор-Бетти, очевидно, считал собаку более подходящим компаньоном. Действительно, с Гиландом он, похоже, постоянно был резок… Из его письма становится ясно, что он вел себя по отношению к нему со смесью снисходительности и высокомерия, которая, по-видимому, была распространена среди викторианских джентльменов, вынужденных находиться в непосредственной близости от тех, кого они считали ниже себя в социальном отношении» (Ibid. P. 177–178). На наш взгляд, недовольство Гиландом было вызвано прежде всего его недостаточной подготовленностью к серьезным путешествиям.
36
Ibid. P. 178–179.
37
Речь идет о транспорте «Бакан», совершавшем регулярные плавания в Белом и Баренцевом морях для охраны морских границ и исследовательских работ. – Прим. Н. Кузнецова.
38
Порт в Шотландии. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. ред. первого русского издания Ф. Груздева.
39
Hakluyt, vol. I, р. 236.
40
Purchas his Pilgrimes 1589–99 to 1601.
41
Hugh Smith in Hakluyt, vol. I, p. 508, edit. 1810.
42
The Three Voyages of William Barents by Gerrit de Veer, Hakluyt Society’s Edition, 1876, № LIV, p. 35.
43
Purchas his Pilgrimes, vol. III, book 3, chap. IX.
44
Там же. Гл. VIII.
45
Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие на Новую Землю.
46
Записки Гидрографического департамента, V, стр. 18.
47
Archiv für Wissenschaftliche Kunde von Russland, 1852, A. Erman, X, 313–316.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



