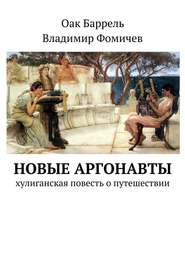
Полная версия:
Новые аргонавты. Хулиганская повесть о путешествии
Прошло пару часов томительного ожидания. Не смотря на полуденную жару, в камере было холодно. Сначала холод пробирался под кожу, затем сковывал мышцы, а после вгрызался червем в кости, ломая человека изнутри. Фоант, съежившись, дремал на соломе, Филон бубнил молитву, Петрович маячил у окон, грея ладони в солнечных пятнах. Желтолицый Ли, обхватив голову руками, качался из стороны в сторону, сидя у двери по-турецки, и чему-то улыбался как безумный. Время в камере замерло совершенно.
Вдруг откуда-то сверху с хрустом вылетел камень размером с конскую голову. Камера в секунду заполнилась пылью. В образовавшемся проломе показалось счастливое улыбающееся лицо.
– Геракл!
– Гы!
Счастливый как школьник на Рождество громила, моргая от пыли, разглядывал оцепеневшую компанию узников. Затем лицо исчезло, а из дыры в потолке показалась здоровенная лапа с поднятым вверх большим пальцем. Петрович с трудом заставил себя не сказать вслух знаменитое «Ай’л би бэк» – сходство с красавцем Арни было сумасшедшим7.
Через секунду рука также исчезла. Сверху произошла какая-то возня, послу чего любопытного от природы Ли чуть не пришибло парой других камней. В расширившийся проем мог свободно пройти взрослый человек с овцой на плечах. С потолка свесилась веревка с шишковатыми узлами по длине.
– Лифт, стало быть, подан. Пожалуйте, благородные паны, не воротите харь, – проворчал Филон, плюя на ладони. Учитывая вес монаха, задача подняться в дыру по веревке казалась не из легких…
Истинное, легендарное геройство отличается от работы спецназа одной важной деталью: оно никогда не бывает тщательно спланированным (это многое объясняет в связи с небольшой продолжительностью их жизни). Поэтому-то герои так любимы народом: они гораздо ближе к нему по образу действий, если не считать необходимости драться с трехглавыми чудищами палочками для суши и спасать прикованных к скале девственниц. На счет последних: у этого самого народа гораздо лучше получается их к скале приколачивать, чем спасать. Спасать кого-либо – это вообще не в народных традициях.
Радость от побега была недолгой. Все пятеро теперь стояли кружком в темном пропахшем мышами помещении, в которое с высоты в тридцать локтей пробивался мутный обтертый о стены луч. Все вокруг было завалено старыми прялками, оставшимися, по-видимому, от другой сказки. Именно на них-то и сверзился, провалившись сквозь крышу, неподражаемый Геракл. Всем желающим тут же был предъявлен проколотый случайным веретеном палец с обгрызенным ногтем. То ли чары злой колдуньи выдохлись, то ли на самодовольного жеребца они не действовали вовсе, но ни в какой волшебный сон он впадать явно не собирался и целовать его принцам не предлагал.
– Что ж ты, случайно на нас наткнулся? – любопытствовал, толкая прялку, Петрович.
– Ага.
– А зачем сразу наверх не полез? Чего пол-то начал ломать? – не унимался он, силясь разгадать чуждую ему логику (в этом смысле не был Обабков истинным сыном своего народа – тот бы сразу понял, что только так и было возможно сделать, не погружаясь в резоны).
Герой беспечно пожал могучими плечами, не прекращая кидать одну на другую прялки, сооружая из них шаткую спасительную пирамиду.
– Отрок! Ты глуп как бревно, но везуч как пьяный архиерей! – внес свою лепту в определение геройства Филон.
Незнакомое слово «архиерей» очень понравилось Гераклу, так что «глуп» он благополучно пропустил мимо ушей. Зато следующие четверть часа монаху пришлось растолковывать герою, что есть и чем славен «архиерей», где наилучшим образом проживает и как соотносится с армейской службой. Лучше всего тот понимал на примерах, а уж этого добра у Филона было навалом. Многое затем вошло в летопись, но нам пересказывать ее ни к чему.
А еще через четверть часа за всей компанией уже гнались разъяренные амазонки, паля по беглецам из костяных луков. Здесь же (в оригинале эта страница не сохранилась) Филон получил свое знаменитое ранение в ягодицу.
Сзади нагоняла верная смерть. Впереди маячил какой-то туристический портик и бледные статуи в увитых плющом нишах. Геракл, ныряя в тень, с грохотом уронил одну, отбив кудрявую голову с большегрудой нимфы. Ниша оказалась несоразмерной для утайки и герою пришлось бежать дальше.
– Господи, что же это?! – возопил Петрович, не приученный к военным маневрам.
В бытность свою, по плоскостопию будущий невольный аргонавт был комиссован, но как бы наполовину: вовсе от армии не отлученный, строевую службу рядовой Обабков проходил в строительстве. Окопы, блиндажи, дачи… Но уж никак, простите, не кровожадные фурии с копьями и луками, бывшие древнее его прабабок, а на сей злополучный момент – младше дочери Светланы, проживающей в Петрограде с мужем Ильей и чудными близнецами Гавриилом и Соней. Их лица явственно сейчас всплывали между зеленых пятен, пляшущих перед глазами у Петровича. Тоска надвигающейся гибели охватила его тисками. Не кстати подступила икота…
– Xa, xa, xa! – засмеялся Обабков, отдаваясь истерике. С миртового деревца в кадке взлетела перепуганная галка. – Застрелили меня из лука чертовы амазонки! Ик! Стрелою в грудь застрелили! Кого? Меня?! Ик! Мою бессмертную душу застрелили!8
Теперь уже Петрович бежал врозь, понимая, что отбился от остальных. Перед взглядом его кувыркались ступени, колонны, вазы, фрески, коврики, деревца в кадках, стулья с парусиновым дном, высоченные в рост подсвечники. Дрянной павлин путался под ногами, раззявив клюв. Развешанное на просушку белье хлестало по лицу, облепляло плечи…
Кромешный ад творился вокруг убегающего Петровича, покуда он не ворвался в ослепительный свет, разведя крыльями руки – стремительный, сильный, непокоренный!
– Ах-ти! – вскричала прачка, роняя корзину на земь.
Прямо перед ее носом как куль с ботвой повалился перемотанный в простынях мужик, хватая руками воздух. Багровое лицо его коверкала мучительная гримаса. Был он немолод, хрипел, и, наверное, задыхался. Водопряха, статная лет сорока женщина, на удачу плеснула в него водой, надеясь, что как-нибудь обойдется.
И обошлось…
Петрович раскрыл глаза, прекратив хрипеть. Что-то больно давило в бок, а левая онемевшая рука была как чужая. Скоро стало понятно, что именно она и давит, вывернувшись под удивительным углом. И как только не сломалась – чудо. Небо над головой шелушилось вечерним золотом.
Поводя взглядом несчастный обнаружил, что лежит в каком-то тесном, обставленном стенами дворе у колодезя с резной крышей. Над головой возвышалось изваяние женственных очертаний, каких во дворце было много. «Надо же, как живая… Мастера…» – подивился Петрович, глядя на оголенное бедростатуи. Самые неуместные мысли лезли в его обхлестанную тряпьем голову. Была среди них и мысль о морковном желанном пироге в уютной веранде. А за нею вновь на сердце навалилась тоскапо дому.
Статуя вдруг, прям по Пигмалиону, пришла в движение, обогнув лежащего справа. Побледневший было Обабков снова клюквенно покраснел – но уж не от одышки, а осознав вдруг, что виды дивные, открывшиеся ему снизу – никакой вовсе не мрамор, а самая что ни есть женская плоть, и самых пригожих очертаний.
– Ты еще что за черт? – наклонилась над Обабковым прачка, вдрызг разворотив его чувства. – Не таращ зенки, вывалятся.
Слова женщины были обидны, но в тоне не чувствовалось упрека, а, скорее даже, сочувственная насмешка. Ее глаза приблизились, не давая отвести взгляд, тело одарило теплом. Руки Петровича сами собой выпутывались из тряпья и тянулись к чудесным и жарким далям…
Тут в голове его реальное и сказочное окончательно смешалось. Петрович отлетел в рай.
Меж тем Геракл, повинуясь не пойми какому наитию, взбежал на широкий укрытый парусиной балкон, выходящий во внутренний сад дворца. Последняя из пущенных вдогонку стрел едва не угодила ему в пятку, разломившись с треском о балюстраду —все ж, предназначенное Ахиллу, не должно было настичь другого.
На обставленном золоченой мебелью балконе две пары очень похожих глаз настороженно уставились на молодого героя. Обе женщины подскочили с расписанных грифонами кресел, в которых до этого вели какую-то напряженную беседу. На полу валялись осколки чаши, которую никто из слуг не рискнул убрать. Из-за увитых плющом колонн блеснули наконечники стрел— все они целились в грудь незваного гостя, бегство которого определенно подошло к финишу.
Геракл, не строивший больших иллюзий на будущее, растерянно посмотрел вокруг в надежде обнаружить летописца – ведь момент героической гибели особенно важен для истории. Но китайца нигде не было видно, что вполне объяснялось его нежеланием стать китайцем мертвым. Да и потом: что, у летописца других дел уж не может быть, как только дежурить на царском балконе, наблюдая семейную склоку?«Ну, нет так нет…» – мысленно развел руками герой, готовясь принять смерть от коварных стрел, и гордо воззрился на стоящих у кресел женщин, рядом с которыми он смотрелся настоящим гигантом. Одна из них – та, что была повыше и богаче одета – совладав с чувствами, властно подняла руку, веля внутренней страже подождать с расправой над наглецом.
Тело Геракла лоснилось от пота. Могучая грудь вздымалась. Кудри спадали на покатые плечи. А рубаха пошла на веревки еще в первой части истории. В общем, если кому-то вдруг срочно понадобился натурщик, чтобы намалевать идеального сложения мужчину – он был тут как тут во всей своей грубоватой красе.
– Кто ты? – вопросила та, что дала сигнал лучницам. Голос ее, силясь быть властным, слегка дрожал.
– Геракл. Сын Зевса. Так мне мама говорила, – неспешно ответил юноша баритоном настолько мягким, что в него можно было заворачивать персики перед броском в пропасть.
– Хм-м… Зевса? – Гипсипила пробежала взглядом по торсу. – А ты не из тех ли, что приплыли вчера к моему острову?
– Ага, – несносный пришелец радостно улыбнулся. – Точняк! Эт мы! Царица, – догадался добавить герой на всякий случай9. – А это твоя сестра? —показал он подбородком на стоящую рядом Полуксо.
– Ну, да… – ответила Гипсипила, и, глядя в сторону, но так, что было ясно: она с вызовом обращается к своей гостье: – У нас тут, поди, каждая вторая мне сестра или тетка… Хм. Что скажешь в свое оправдание, наглец? Ты ворваться в царские покои и тебя ожидает смерть, – стражницы за колоннами снова подняли луки. К ним подоспело еще с дюжину амазонок с копьями. Теперь Геракла пришлось бы делить на сектора, чтобы каждой досталось по мишени. – В скорпионьей яме, – добавила царевна. Стражницы разочарованно вздохнули.
Геракл пожал плечами и улыбнулся, выпустив из руки ножку стула, которой вооружился по пути, утратив в погоне меч.
Что-то тихо щелкнуло в воздухе. (Возможно, впрочем, автору всего лишь показалось.)
– Знаешь, родственница, – Гипсипила повернулась к Полуксо. – А ты, пожалуй, права…
Обстоятельства были разъяснены. Выбор сделан – и выбор, доложу я вам, положительный. В коем-то веке в Лемносе намечался праздник.
Укрывавшийся в курятнике Филон, коварно пораженный в седалище, выведен был на свет, умащен бальзамом и парадно выбрит, отстояв лишь профессорский клинышек бороды. За трату, понесенную организмом, монаху обещали пенсион, авансом выдав флягу грушевого вина с окороком столь великим, что место ему в музее, а не на кухне.
Ли отыскался как-то сам собою, даром что чужестранец из чужестранцев. Что было на уме у летописца – тайна большая, чем китайская его грамота. Теперь он сидел под оливой, за неимением смоковницы, располагающей к просветлениям, и чертил в пергаментах, вкушая апельсиновое варенье с пресной лепешкой. Летопись пополнилась со слов очевидцев двумя туго исписанными страницами.
В непростой переплет попал Петрович… (Нам бы с вами такой переплет!) Но ему мы вовсе не намерены мешать своими расспросами – что да как? Видно было по лицу гражданина Обабкова, что все сложилось для него как нельзя лучше и сверх любых ожиданий.
Темные дела наделили царевну мудростью: Геракл, вопреки сокровенным побуждениям Гипсипилы, был отослан ею не в спальные покои, а прямиком на привезший его корабль – с уговором, чтобы позвал других во дворец, а сам ожидал в каютах, не рождая свару среди придворных дев. Тайком же к нему отрядили двух молчаливых наложниц, так что и великий воин оказался не внакладе.
Три дня и три ночи готовились в городке к празднику. Три луны не спали, не покладали рук, презрев полуденную жару, закатный ветер и полночную морось. И вот, наконец…
ХОР
О, девы распрекрасные, внемлите
Не разуму, но сердцу – ибо в нем
Суть разум ваш. Зажмурившись, идите
На зов сердечный. Разберемся днем…
Праздничный вечер
«Надел Ясон роскошное пурпурное одеяние, вытканное для него самой Афиной-Палладой, и пошел в город. С почетом приняла его Гипсипила и предложила ему поселиться у нее во дворце.»10
Но это вышло чуть позже. Согласно протоколу, сначала было нужно принять послов, – а уж после разбираться с основным составом прибывших. Для последнего по всему острову украшали охладевшие было без мужчин постели, спешно обновляли белье, починяли прельстительные туники. Деликатного ассортимента в лавках оказалось не изрядно – все же Лемнос был той еще деревней. Цены на кружева и мыло взлетели втрое.
Вечером четвертого дня послы, оставивши постоялый двор, где поселились на время оно, ускорили шаг. Миновав своеобразный фейс-контроль (дырочки в воротах располагались на разной высоте), они были препровождены в зал для приема почетных гостей. Убранство помещения красноречиво свидетельствовало, что хозяйка в доме есть и с определенным достатком.
– Однако, до хором отечественных поп-звезд не дотягивает, – Петрович огляделся в поисках урны, либо пепельницы. – Наши-то побогаче будут, – с гордостью произнес он, вспоминая воскресную передачу «Гвозди в стене звезды» или вроде того.
Не найдя ни того, ни другого, он приклеил жевательную резинку к спинке стоящего в нише трона, оказавшегося туалетным стулом. Филон с любопытством рассматривал настенную живопись, что язычеством своим давала фору немецким не построенным тогда еще студиям для взрослых. Ранение его – из тех, что ни сам не узришь, ни другим не покажешь – давало о себе знать, но за три дня бюллетеня монаху изрядно полегчало. От наложенных едких мазей теперь более горело снаружи, чем ныло внутри.
– Язычники! Я, конечно, не клерикал (слово не нравилось Филону, но как-то само собой вырвалось – будем считать, от стресса).Да ничего – не такие крепости брали! Помню, еще при советской власти довелось мне в Интуристе белл-боем подрабатывать. Раз прилетела делегация дружественных тибетских монахов, – Петрович стоял как завороженный, разглядывая особо фрагмент с находчиво примененной дудкой, – кои все на одно лицо, – продолжал бодро монах, поглаживая нательный крест, которому предстояло укрепить изрядно пошатнувшийся дух. —Багажа – один громадный казан. На тележку не помещается, в лифт не входит. Что ты будешь делать?.. Пришлось обложить картоном и закатывать по мраморным лестницам аж на тринадцатый этаж. Думал, рожу от усилий. Только закатил, руководитель группы, из наших, гэбист, говорит: «Сейчас в Лосиноостровский парк поедем, рис варить.» Они, мол, ничего другого не едят. Я ему: «А ты раньше сказать не мог? Хотя бы на седьмом этаже?» А он мне: «Не мог. Ждал указания из Центра.» Ну я и…
Из потайной комнаты за гостями оценивающе наблюдали Коллидора и Нефтис.
– Который в рясе – мой. И не спорь!
Нефтис этого ожидала, зная: жрецы – конек ее ветреной подруги. Коллидора искренне полагала, что интрижки с храмовыми служителями укрепляют не только тело, но и дух. «А там и до небесных сфер рукой подать» – приговаривала дама, отправляя очередного любовника из шитой васильками постели в Аид. Именно благодаря ее усилиям в пределах крепостных стен не осталось ни одного сколь-нибудь умеющего читать богослова. Поговаривали, иные подались в бега, украв лодку, и царица нарекла их раскольниками.
Закадычная подруга в девичестве предпочитала водить амурные хороводы с поэтами, художниками и прочими вассалами муз. Однако вскоре ей это надоело, и Нефтис переключилась на военачальников, не брезгуя чинами чуть выше рядового. Обезглавленная армия шаталась вразброд и становилась легкой жертвой для представительниц слабого пола в диапазоне от завистливых фрейлин до простолюдинок на босу ногу.
– Вот всегда ты так, – прошипела Нефтис, не отрывая глаз от щелки.– Мне что похуже, тебе – потушистее!
И действительно, неказистая фигура Петровича надежд на заоблачный адюльтер не внушала.
«Хоть бы на какой…» – Нефтис облизнула пересохшие губы.– А давай потом обменяемся, а я тебе домажу коралловым ожерельем?
– И две нитки жемчуга, – придворная дама не была бы верна себе, если бы не умела торговаться.
– Ха! Две нитки за одного расстригу. Да он даже не при делах! К тому ж с уроном: в правах пораженный, в боях искалеченный.
– Дурочка. В том-то все и дело: его сознание не обременено гражданской чепухой. Значит, оболочка свободна от каких-либо обязательств и пут… Что ранен в ж… Так не ему на звезды глядеть, чего маешься? А где те сандалии с рубиновыми застежками, что я видела на дне рождения у Меланты?
– Ну, знаешь, это уж слишком! Ожерелье и две нитки – красная цена за одного худосочного чужеземца.
– По рукам.
Подруги сдержанно облобызались и присоединились к празднику.
Познания Петровича в древнегреческой женской моде были скудны, но волнующи: прозрачная туника да заколка в волосах. Филон судил о стиле одежды по античным скульптурам и метеосводкам. Реальность оказалась и того очевидней: ни лютни, ни арфы, ни… Во общем, одна заколка и, почитай, все. Собственно, туники, как таковые наличествовали – но где именно, об этом ведали только сами дамы и придворный модельер Антипатрос11 (его, вопреки легенде, тоже сохранили в целости в силу нетрадиционной ориентации, но теперь опасливо прятали от греха).
– Приветствую вас, господа мореходы, – Гипсипила протянула Ясону руку для поцелуя.– Надеюсь, Посейдон был к вам благосклонен.
– Не то слово, матушка, – выступил вперед Филон, отстранил протянутую и ему узкую кисть и чмокнул хозяйку в горячее темя, больно уколовшись гребнем.– Будь на то моя воля, я бы запретил выходить в море иначе как в пост.
Последнее слово отсутствовало в словарном запасе лемниянок, и монах, уловив волну, пустился в пространные разъяснения. Когда дело дошло до воздержания в плотских делах, Петрович незаметно наступил приятелю на ногу и, для верности, пихнул под ребро: «Этак ты нам всю политику поломаешь, – шипел он в ухо товарищу, прихватив его любезно за узкий клин бороды (по виду, как бы спрашивая совета в трудном деле). – Пацаны не поймут! Пришибут веслами! Да и о себе надо подумать».
– У нас на родине принято гостей встречать хлебом-солью, —громко объявил Петрович, прервав невыгодный экскурс в христианские заповеди.
– Ах, что же это мы в самом деле! – всполошилась Гипсипила, хлопнув в ладоши слугам.
Служанки внесли подносы с угощением. Щепотка соли красовалась лишь на одном, в самом центре, на дне золотой чаши – мол, как заказывали, ничего не жалко. Зато амфоры с вином и бараньи бока были представлены в изобилии.
– Меморандум о взаимопонимании сейчас подпишем? – спросила фрейлина, отвечавшая за политические контакты.
– Ни в коем случае! – отстранился Петрович.
– Позже, позже… Опосля, – согласилась с улыбкой правительница.
Фрейлина недовольно отошла, волоча долгий, мелко исписанный пергамент со сносками и отсылками к законам Трои. Была он страшной как дурной сон, а потому весьма старательной в службе. «Три ночи коту под…» – только и уловил Петрович, провожая взглядом служительницу местного островного МИДа.
Филон сноровисто наполнил кубки ближайшим дамам и предложил за них тост.
«А я в нем, кажется, не ошиблась» – с удовлетворением помыслила Коллидора, гладя на тертого красавца из-за колонны. Нужно было действовать: подруги обступил монаха плотно.
Через час фуршета Филона откровенно понесло. Он пил и рассуждал, не обращая внимания на окружающих, отчаянно жестикулировал, хлопал дам заботливо по ягодицам, громко смеялся, иногда – плакал. В поисках гальюна натолкнулся на расстроенную арфу и, позабыв, зачем ходил, лихо устроил «Мурку». Затем взгрустнул и принялся подбирать псалмы, причем не по порядку, а в разбивку и далеко от текста оригинала.
«Какие, к бесу, сандалии, – скрипела зубами Нефтис. – За такого мужика все отдашь». Она извинилась и выбежала за ларцом с драгоценностями.
Боги делали ставки. Вечер обещал быть.
Всегда сдержанный Ли, оставленный за воротами с Фоантом, к собственному неудовольствию, проявлял от нелюбезного обращения строптивость. Как он ни силился, ни гудел басовито «А-у-м» и другие мантры, жмуря до синих кругов глаза, раздражение в нем росло как ледяной пузырь. Хотелось кому-нибудь нанести урон, пусть даже словесный.
– Ни поесть, ни записать… Заморские дьяволы, забывшие восемь12! – выругался китаец, пиная высокие запертые ворота.
С факела над ним с шипением слетела горящая капля, едва не угодив на нос. Ругательства продолжились, но от пинков Ли решил воздержаться. Сторожевая полная девица на башенке лениво посмотрела на него как смотрят на роющегося в помоях кота. Лук за ее спиной ясно давал понять, что апелляции в этом окошке не рассматриваются.
Как ни кипятился летописец, Фоантему не ответил. Он привычно расположился у дверей своего царственного дома и, приготовившись уснуть, принялся вспоминать покоренных женщин. Считать он умел лишь до трех и потому страдал бессонницей. Хитрый китаец научил венценосного складывать по формуле «3+3»: один раз три плюс три, затем второй, и так до третьего – а потом сначала.
Вскоре бездомный царь затих, оставив Ли в одиночестве сидеть на пыльной дороге у ворот, за которыми разливался праздник. Внизу улицы просеменил пес, направляясь в сторону порта по своим песьим делам. Он нехорошо посмотрел на летописца и дремлющего рядом с ним царя. В левом собачьем глазу отразился желтый круг луны. Ли невольно вскинул голову вверх: там, как и должно, месил бессмертие в ступе Лунный заяц. Старый китаец задумался о виденном и грядущем.
Смущало его обилие отсеченных голов при негустом народонаселении… Нерасчетливо как-то, бездумно жили на острове. Видал он и не такие зверства, но народу в Поднебесной, хвала богам, всегда было в избытке. Ли перешел на шепот, не обращаясь ни к кому в отдельности:
– Власть женщин, – губы его презрительно скривились. – Ну, двоих, троих я еще понимаю – надо казнить для острастки. Пять, семь – чья-то прихоть. Но истребить всех мужчин, обезглавив страну? Куры! Крестьянки! – Ли бросил взгляд в сторону дремлющего царя. – Под ноль, это уж слишком. Дома у нас поступают гуманнее – кастрируют. И делов-то: взял два камня, чпок! Беда с этим вооружением, беда. Висящий на стене меч, непременно что-нибудь да кому-то отрубит…
– А стоящая в углу лопата закопает… Ты это о чем, китаец? – Фоант сбился, видать, со счета и проснулся. Перед его мысленным взором все еще танцевали былые подруги в ночном саду. Перебить такой мираж лысым узкоглазым писарем было пренеприятно.
– Стремно тут у вас. Дети, что черепашьи яйца. Безотцовщина. Неблагоприятный для торговли климат.
– А-а, – зевнул царь, – климат у нас действительно неважный: влажность, змеи, вулканы… А камбала в дождь совсем не берет – хоть зарежься.
Фоант выразительно провел рукой по горлу. Летописца передернуло.
– А у вас камбала на что лучше идет?
– Нет у нас камбалы, – Ли все больше раздражался от этого бестолкового острова, распоясавшихся женщин, выжившего из ума правителя, не пущаемого домой собственной дочерью.– На Курилах есть, но они не наши… Скажи лучше, много ли на острове банных учреждений, ритуальных контор и таможен? Часто купцов встречаете?
– Внуки у тебя, китаец, есть? – невпопад ответил царь. – У меня – не счесть. Под них уже и деревья посажены. Дочь распорядилась. А как же? Простолюдинов можно и на рогатку насадить, царских особ нельзя – роняет престиж семьи.
– Оно конечно, – сообразительный Ли понял, что ничего путного он от венценосного не добьется и решил хоть как-то скоротать время за беседой.– Порядок должен быть во всем. Порядку нынче нет13.
– Именно! – задетый за живое Фоант привстал и распрямил как мог плечи. Мутноватые глаза его горели лихорадочным огнем. «Как бы не откинулся от такой страсти» – подумал китаец. Меж тем отставной царь расхаживал, поглядывая на вышку со сторожевой бабой: – Нет порядка – и нет никакой жизни! Это же знамо: все псам под хвост! Порядок – всему голова!
– Тьфу ты, двести пятьдесят14! Заморский черт! – китаец вскочил, как ужаленный.– Заклинаю, не упоминай ты про голову! Используй, если не можешь сдержаться, эвфемизм. Кочан, например. Тыковье.
– Хлебало? Нет, не годится. Едало? Тоже не очень… – увлекся Фоант, выпятив губу.



