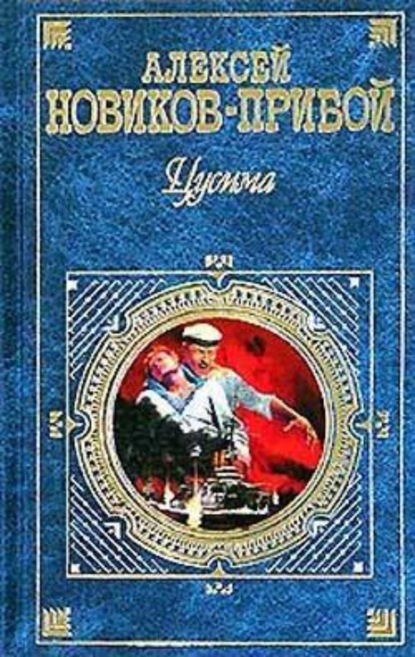 Полная версия
Полная версияЦусима
И никто не подозревал, что это Осип Федоров осуществлял свой замысел. В левых отсеках он открыл клапаны затопления и ушел на верхнюю палубу. Он не видел, что делается внизу, в трюме, но ясно представлял себе, как броненосец захлебывается соленой водой. Нужно было пять-шесть градусов крена, и море сомнет сопротивление корабля; он опрокинется вверх килем. Федоров с нетерпением ждал этого момента, переживая страшную внутреннюю борьбу. Он был пораженцем и весь поход на Дальний Восток занимался революционной пропагандой. Он не имел ни фабрик, ни заводов, ни земли, не имел чинов и не занимал высокого положения. Это был типичный бедняк, пролетарий. Почему же он решился на такой поступок? Толчок своим мозгам Осип Федоров получил неожиданно для самого себя: это случилось еще днем. Русские матросы столпились на верхней палубе, с мрачным любопытством разглядывая, как снарядом разворотило камбуз. Группа японских матросов, настроенных очень весело, подошла к пленным, и между ними завязался разговор. Сперва объяснялись каждый на своем языке, пустив в ход мимику и жесты. Русские старались понять, о чем лопочут их недавние враги. Осипу Федорову, находившемуся здесь же, казалось, что японцы хотят завести мирную и дружескую беседу. Но ему пришлось в этом скоро разочароваться. Вперед выступил японский унтер-офицер, маленький и вертлявый человек, с плоским, как доска, лицом. От него с удивлением вдруг услышали правильную русскую речь. Сощурив черные глаза, он говорил:
– Слышал я, что с другими нациями вы когда-то храбро сражались. А против нас, японцев, вы никуда не годитесь. Сразу сдали нам четыре броненосца.
– Это не мы, а наш адмирал сдал, – ответил один из пленных.
– Будь у нас другой командующий, ни один японец не вступил бы на палубу русского корабля, – задорно добавил другой.
Унтер-офицер, покосившись на русских, продолжал:
– Духу у вас не хватает против Японии. Мы оказались сильнее вас. Накололись вы на японские штыки. А на море и вовсе никто и никогда нас не победит. Знайте это.
Пленные, постепенно раздражаясь, отвечали:
– На ваше счастье, у нас высшее начальство оказалось незадачливым. А русский народ – это совсем другое…
После каждой реплики русских унтер-офицер что-то объяснял своим по-японски. Точно ли он переводил или выдумывал что-нибудь, пленные не знали. Но японцы, слушая его, ехидно улыбались, показывая кривые зубы. Наконец, желая, чтобы его сразу понимали свои и пленные, он заносчиво и наставительно, как на уроке словесности, заговорил, перемешивая русские и японские слова:
– Япония маленькая, но умна – сакасий. Россия большая, но… как это называется? Глупа – бакарасий. Мы ее всю можем разгромить – хогеки-суру…
– А это посмотрим, – с обидой возразили хвастуну пленные. – По-вашему, Россия – бакарасий. Это баковый карась, что ли? Наполеон не вам чета, да и тот зубы себе обломал об этого карася. А вы и подавно…
Победители, выслушав перевод своего унтера, разразились хохотом, злорадно повторяя между собой:
– Рося бакарасий… Бакарасий… Хогеки-суру… Рося…
Русские матросы нахмурились, опустили головы. Больше всех был задет Осип Федоров. Сам он не произнес ни слова, но, видя насмешки врага над Россией, закипел такой ненавистью, как будто публично оскорбили его родную мать. Он повернул голову в сторону кормы: там, на гафеле, вместо Андреевского флага, развевался флаг Восходящего солнца. У него от обиды зарябило в глазах. Ощущая судороги на лице, он еле сдерживал себя, чтобы не броситься на японского унтера. Вот тогда-то и зародилась у него мысль: хотя бы ценою своей жизни, но вырвать трофей из рук противника. С этой мыслью, сверлящей мозг, он мрачно бродил по кораблю до самой полуночи.
А теперь, когда корабль, задыхаясь от воды, валился уже на борт, Федоров вдруг вспомнил, что здесь находятся не одни только японцы. Две трети нашей команды они перевели на свои суда, но на «Орле» еще осталось около трехсот человек. Японцы едва ли будут спасать русских, которые спят и не знают, что гибнут от руки своего товарища. И сам он не избежит общей участи. До слез ему стало жалко своих матросов, особенно раненых. Его так и подмывало закричать:
«Спасайтесь! Броненосец тонет! Это я виноват!..»
И тут же словно кто со стороны поставил перед ним вопрос:
«А как же японцы? Будут торжествовать?»
Нет, он никак не может примириться, чтобы родной корабль находился в руках врага. Для этого им все сделано. Федоров достал кусок брезента, завернулся в него и улегся около двенадцатидюймовой башни. Легче было бы вместе с этой палубой, не просыпаясь, провалиться на морское дно. Заснуть, однако, он не мог. В его разгоряченной голове сменялись мысли, противоречащие одна другой. Он был доволен, что крен корабля с каждой минутой увеличивается, в то же время в воображении рисовалась жуткая картина гибели своих людей. Его лихорадило. Вдруг до него донеслись необычные звуки. Сквозь брезент Федоров расслышал, что на верхней палубе все пришло в стремительное движение. Казалось, корабль задрожал от топота множества ног —люди торопливо разбегались по разным направлениям. Свистки боцманских дудок мешались с гортанными выкриками на непонятном языке. Эти выкрики срывались на каких-то высоких визгливых нотах. Можно было подумать, что на палубе происходит резня. Смятение усиливалось, шум нарастал. Для Федорова все это было сигналом того, что дело его не пропало даром. Он решил про себя:
– Началось…
Больше он не думал о своих товарищах. Его горячее сердце ликовало, что он напоследок отомстил японцам за их насмешки над русскими, за позор Цусимы, за потопленные корабли и команды. От волнения в груди ощущались напряженные толчки, отдававшиеся в висках, как удары маятника. Приближалось то мгновение, когда уже никто не избавит корабль от катастрофы. Федоров соображал, что времени для жизни у него осталось меньше, чем потребовалось бы на то, чтобы выкурить папиросу.
Но вскоре все стихло, и эта тишина странно обеспокоила его. А главное – броненосец перестал крениться. Федоров, откинув брезент, выглянул и все понял: люди спустились в трюмы. Подавленный отчаянием, он прохрипел:
– Догадались…
Для Федорова наступил такой момент, какие редко бывают у людей. Его пугало не приближение смерти, что было бы вполне естественно, а возвращение жизни. И это случилось уже после того, как он окончательно и бесповоротно приготовился погибнуть вместе с кораблем.
Его мучил вопрос: каким образом японцы узнали причину крена? Скорее всего, на руках у японцев были чертежи «Орла», добытые еще раньше через шпионов. А может быть, под угрозой штыка им помогли в этом русские трюмные машинисты, и это больше всего его терзало. Так или иначе, но меры были приняты: корабль начал выпрямляться. Значит, японцы пустили воду в правые отсеки. А дальше им остается только осушить эти отсеки водоотливными средствами, и авария будет окончательно устранена. Не хватало каких-нибудь двух градусов, и «Орел», опрокидываясь, сам зарылся бы навсегда в водяную могилу. При этой мысли о неосуществленном подвиге Федоров задрожал от ярости, и, чтобы не завыть исступленно, он крепко стиснул зубами кусок просоленного брезента.
13. Правда, которой не хотелось верить
Меня все время интересовал вопрос: в чем же заключалось преимущество японцев? Что они маневрировали лучше нашего и, пользуясь быстрым ходом, занимали для своей эскадры наиболее выгодное положение, что они метко стреляли и что снаряды их хотя и не пробивали брони, но сжигали русские суда и производили потрясающее впечатление на психику людей – об этом мы как очевидцы узнали 14 мая во время генерального сражения. А еще что?
Я осматривал броненосец «Асахи». На нем не было той излишней роскоши, которая обременяла наши суда, ослабляя их боевое значение. У японцев все было устроено просто, без всяких затей, без деревянных надстроек на верхней палубе. Поэтому во время боевой тревоги на броненосце не нужно было ничего ни убирать, ни складывать, ни прятать, а это давало возможность ускорить изготовление его к бою. За счет уменьшения офицерских кают он увеличил свою артиллерию двумя шестидюймовыми орудиями. Бросалось в глаза особое устройство боевой рубки: прорези ее, в противоположность нашим, были узки и лучше обеспечивали безопасность находившихся в ней людей и сохранность приборов. Каждая орудийная башня, каждый каземат имели свой дальномер. Орудийные амбразуры так хорошо были защищены, что внутрь башни не мог проникнуть даже маленький осколок.
Вместе с товарищами я три дня прожил на броненосце «Асахи». Конечно, многое из того, что я наблюдал, было бы для меня непонятным, если бы не помогли некоторые японские матросы, говорившие по-русски. В особенности сдружился с нами один из них, комендор-наводчик. До военной службы он много лет жил в русских городах, работал в прачечных. Назовем его условно Ятсуда.
У нас на «Орле» команда делилась на две вахты, вахта – на два отделения. Каждое такое отделение представляло собою роту, возглавляемую обязательно строевым офицером. Наша рота составлялась из матросов разных специальностей. Поэтому у нас ротный командир не знал в лицо многих из своих подчиненных, если они не принадлежали к числу строевых. Обязанности его сводились лишь к выдаче им жалованья. Не так обстояло дело на японском корабле. Там каждая часть команды определенной специальности образует собою роту, и во главе ее стоит соответствующий специалист из офицеров: инженер-механик, штурман, минный офицер, артиллерийский офицер, даже врач. Такое подразделение команды дает возможность ротному командиру следить не только за вверенной ему материальной частью, но и за исполнением подчиненными своих обязанностей. Он должен знать личные качества каждого из них, давать им оценку и продвигать по службе наиболее прилежных, развитых и способных матросов.
Как-то вечером мне удалось еще кое-что узнать о японском флоте. Командир «Асахи», капитан 1-го ранга Номото, только что обошел судовые отделения. С заходом солнца потушили на корабле все внешние огни. И хотя японцам никто теперь не угрожал, все их орудия были наготове: у каждого из них дежурила прислуга. В 7 часов 30 минут раздали койки. Матросы, не занятые вахтой, стали свободны и могли заниматься своими личными делами.
На баке, вокруг кадки с тлеющим фитилем, от которого можно было прикуривать, расположились японские и русские матросы. Здесь же находился и я вместе с боцманом Воеводиным и кочегаром Баклановым. Пахло морем. На лице ощущалось легкое дыхание ветра. На горизонте, угасая, пенился закат. Золотисто отсвечивало море. Против меня сидел на корточках комендор-наводчик Ятсуда и, покуривая маленькую медную трубку «чези», вмещавшую в себя табаку лишь на две-три затяжки, загадочно прикрыл ресницами свои черные восточные глаза. Разговорились с ним о военной службе. Он крайне был удивлен, когда узнал от нас, что русские моряки обычно находятся в плавании не больше четырех месяцев, а остальное время года живут на берегу в казармах.
– Нет, у нас не так, – заговорил Ятсуда. – Мы постоянно живем на кораблях и плаваем почти круглый год. Мы проходим большую практику.
Боцман Воеводин спросил:
– А кого берут у вас во флот?
Оказалось, что на японских кораблях лишь половина команды отбывает службу по воинской повинности, находясь во флоте четыре года и в запасе восемь лет. Остальные были добровольцами. Срок действительной службы для них установлен восемь лет и четыре года в запасе. Охотнее всего идут во флот те, которые и до военной службы находились либо в каботажном плавании, либо на рыбных промыслах. Из добровольцев вырабатываются лучшие специалисты.
В японском флоте лучших наводчиков всячески стараются оставить на сверхсрочной службе, привлекая их приличным жалованьем: от них главным образом зависит успех артиллерийского боя. Не менее разумно поступали японцы и в другом: самых выдающихся комендоров они собрали со всего флота и распределили их по кораблям главных сил. Поэтому броненосцы и броненосные крейсеры противника лучше стреляют, чем его подсобные суда. А у нас даже на новейших кораблях 2-й эскадры, которые должны были иметь решающее значение в бою, орудия обслуживались новобранцами и запасными. Русское морское командование не догадалось заменить их наиболее опытными комендорами Черноморского флота, который тогда далеко оставался в стороне от театра военных действий. Ведь одно только это мероприятие могло бы значительно ослабить успех противника.
Но от Ятсуда же узнали мы и другое, что нас особенно поразило. В японскую армию и во флот не так уж все охотно рвутся, как это казалось со стороны. Некоторые потомки самураев пускаются на всевозможные хитрости, лишь бы уклониться от военной службы. Страх перед войной заставляет их калечить себя. Конечно, за такие поступки, если они вскрываются, закон строго карает виновных. Но все-таки симулянты не переводятся. Иногда солдаты прибегают к анекдотическим средствам, чтобы искусственно заболеть и одурачить военных врачей. Существует, например, поверье, что для этого будто бы достаточно съесть хвост ехидны, сваренный в ее крови.
– Вы? как хороший наводчик, вероятно, останетесь на сверхсрочной службе, – сказал я, обращаясь к Ятсуда.
– Не останусь. Надоело служить. Я опять хочу поехать в Россию.
– Зачем?
– Я изобрел новый способ крахмалить воротнички. Секрет. Мне будут платить хорошие деньги.
Я смотрел на него и думал: может быть, от его удачного выстрела погиб какой-нибудь наш корабль с сотнями людей. А теперь передо мною сидел маленький человек, выкуривал свою «чези» и снова ее набивал табаком, – сидел с невинной улыбкой на плоском лице. Темные глаза задумчиво устремились в меркнущую даль. Он жил своей мечтой, не имевшей никакого отношения к войне.
Поздним утром 17 мая командир «Асахи», капитан 1-го ранга Номото, вызвал к себе в каюту боцмана Воеводина. В каюте он был встречен словами:
– Здравствуйте, боцман.
Воеводин, услышав русскую речь, удивленно посмотрел на командира, спокойно сидевшего за письменным столом, и не сразу ответил:
– Здравия желаю, ваш высокоблагородие.
– Ну, как вы чувствуете себя у нас на корабле? – спросил командир, подбирая русские слова.
– Хорошо.
– Пищей довольны?
– Так точно, ваше высокоблагородие. Одно только плохо – ложек нет. А палочками мы не привыкли действовать. Приходится кушать рис горстью.
Номото, не сводя с боцмана щупающего взгляда, сдержанно заулыбался:
– Ничего не поделаешь. Мы не знали, что русские попадут к нам в плен. На берегу дадим вам ложки.
Боцман почувствовал себя уязвленным. Номото начал осведомляться у него, сколько человек было на «Орле» убито, сколько ранено. Полагая, что сейчас последуют расспросы о более секретных делах, Воеводин насторожился. Но тот ограничился только этим и сам сообщил:
– Сегодня вашего командира Юнга похоронили в море.
– Он был смертельно ранен, ваше высокоблагородие.
– Хороший был командир?
– Отличный. Команда очень любила его.
Номото, опустив глаза, на минуту задумался, словно что-то вспоминая, и тихо промолвил:
– Да, я знал Юнга. Хороший был человек. Очень жаль, что он погиб.
– Осмелюсь доложить вам, ваше высокоблагородие, что если бы наш командир Юнг не был смертельно ранен, то вам все равно не удалось бы с ним встретиться.
– Почему?
– Судя по его характеру, он не сдался бы вам в плен. Он утопил бы свой броненосец и сам погиб бы вместе с ним. Решительный был человек.
Наступило неловкое молчание.
Пожилое лицо Номото сразу стало строгим. Косясь, он жестко посмотрел на боцмана, словно кот, у которого хотят отнять пойманную им жертву, и сухо приказал:
– Идите.
– Есть.
Воеводин свой разговор с Номото сейчас же передал мне. И мы долго ломали голову над тем, откуда японский командир знает Юнга. Я слышал от своих офицеров, что он был женат на японке и даже имел от нее сына. Не на этой ли почве наш командир познакомился с Номото?[31]
Когда показались японские берега, к нам подошел наводчик Ятсуда и, улыбаясь, ошарашил нас новостью:
– Ваш адмирал Рожественский попал в плен. Штаб его тоже в плену.
Мы впились в японца глазами.
– Как, при каких обстоятельствах?
Но Ятсуда вместо ответа сказал:
– Теперь скоро кончится война.
Он не стал с нами больше разговаривать и, сославшись на то, что ему некогда, убежал в нижнее помещение корабля.
Эта новость моментально облетела русских матросов, но никто ей не поверил. Возбужденно загалдели:
– Брешет азиат!
– Что Рожественский был дураком – мы все знаем. Но чтобы такой свирепый человек в плен сдался – никогда не поверю этому.
– Да если бы ему пришлось тонуть, так все равно он угрожал бы адмиралу Того кулаком.
– Не командующий, а угар. Рожественского японцы могли взять только мертвым.
В полдень, перед тем как войти в военный порт Майдзуру, нас, пленных, согнали в носовые кубрики, и вскоре мы услышали грохот отданного якоря. Перед нами открывались страницы новой жизни. Но все это, как и сдача кораблей, случилось только потому, что адмирал Небогатов подчинился приказу командующего эскадрой и пошел по курсу норд-ост 23°[32].
Часть III
Главная опора Его величества
1. Представительное ничтожество
Миноносцы «Бедовый» и «Буйный» издали походили друг на друга, как два близнеца, – оба черные, четырехтрубные, водоизмещением в триста пятьдесят тонн каждый. В день сражения, 14 мая, судьба столкнула их вместе, но перепутала их роли. А это привело к тому, что драма, разыгравшаяся в водах Японского моря, переплелась под конец с фарсом.
Командовал «Бедовым» капитан 2-го ранга Николай Васильевич Баранов. Ему не хватало до пятидесяти лет лишь одного года, но благодаря своему цветущему здоровью он выглядел гораздо моложе. Это был офицер гвардейского экипажа с лихой военной выправкой. Большая атласная борода, раздвоенная внизу, вьющиеся, откинутые назад волосы, круглые глаза, покатый лоб, упрямо раздувающиеся ноздри – все это великолепно гармонировало с его высоким ростом и широкими плечами. При встречах с высшим начальством редко кто мог отдать рапорт так умело и так картинно. Глядя на него со стороны, нельзя было усомниться в решимости его характера: да, такой командир не растеряется ни при каких обстоятельствах!
Адмирал Рожественский был о нем самого высокого мнения. Под руководством такого командира «Бедовый» всегда щеголял «фартовым», внешне смотровым видом и удостаивался непрерывных похвал начальника эскадры. Этот миноносец вместе с командиром ставился постоянно в особый пример остальным миноносцам. Недаром «Бедовый» был прикомандирован к флагманскому кораблю «Князь Суворов» для посыльной службы; кроме того, приказом по эскадре он получил назначение – во время сражения с японцами следить за флагманским броненосцем и в случае его выхода из строя спасти с него адмирала и штаб.
Но те, кто знал Баранова ближе, кто служил под его началом, расценивали его совсем по-иному.
Морского училища Баранов не кончил, а был произведен в мичманы из юнкеров флота уже в солидном возрасте. Он не имел специальных знаний. Пушки, мины и разные сложные приборы на корабле были для него магией. Для того чтобы иметь возможность взять в командование миноносец «Бедовый», он, будучи в чине капитана 2-го ранга, целую зиму брал уроки штурманского дела у полковника Филипповского. Он не читал книг и не знал даже имен русских классиков; на всякое чтение смотрел как на вредную для офицеров революционную заразу.
Баранов был человек богатый: имел собственный каменный дом в центре Петербурга и дачу в Сестрорецке. Однако, несмотря на большие личные средства, скупость его не знала границ. На якорной стоянке миноносца в Порт-Саиде офицеры дюжинами покупали белые кители с брюками, платя за пару только пять франков, Баранов, находя такую цену слишком дорогой, ничего не купил. Зато он приобрел двадцать тысяч отвратительных абиссинских папирос, которые стоили четыре франка за тысячу. В походе через тропики он из экономии ходил в черном платье. Это был прирожденный маклак, который торговался со всеми из-за грошей. Для всех его подчиненных самым неприятным делом было – денежные расчеты с ним. Он мог целыми часами оспаривать какую-нибудь копейку и вгонял в пот матросов. Если кто-либо забывал взять от него расписку, выданную под аванс, то она погашалась вторично. Таким образом с мичмана Г. В. Лемишевского он дважды получил двадцать пять рублей. Однажды Баранов отказался дать денег на стол, заявив лейтенанту Вечеслову, что таковые он уже уплатил, и, не смущаясь, не моргнув глазом, начал уверять:
– Неужели вы забыли? Ведь я же отлично помню, как было дело. Вы сидели вот здесь, а я там. Вы еще сказали при этом: какие новенькие деньги, даже жалко их тратить…
Около острова Крит произошел случай, надолго оставшийся в памяти офицеров и матросов. «Бедовый» тогда ходил в паре с миноносцем «Безупречный». Единственная шлюпка с этого миноносца, шедшая по рейду, вследствие перегруженности опрокинулась, и люди начали тонуть. С «Безупречного» обратились к Баранову за помощью, но он категорически отказался спустить свою шлюпку. Погибли девять человек. Это всех возмутило. А мичман Лемишевский вопреки дисциплине заявил своему командиру:
– Вы нарушили товарищескую морскую этику. Меня поражает сухость и черствость вашей души. Я скажу вам больше: я вас не считаю порядочным человеком.
Баранов на это только пожал плечами и высокомерно отвернулся.
На миноносце он вставал в двенадцать часов дня. Судовые офицеры не получали от него никаких указаний ни в отношении судовых работ, ни в отношении расписаний и производства учений. За полтора года «Бедовый» лишь один раз произвел учебно-боевую стрельбу на Бизертском озере – артиллерийскую и минную. Поэтому как боевая единица миноносец никуда не годился. Но Баранова это ничуть не смущало. Выходя на палубу, он зычно кричал на своих подчиненных:
– Я требую, чтобы мое судно блестело, как царская яхта!
Он был на редкость ленив, ничего не делал и все-таки сокрушенно жаловался в кают-компании своим же офицерам:
– Я один, помощников у меня нет.
Управлял кораблем Баранов плохо. Швартовка миноносца длилась у него минут двадцать-тридцать. Морского глазомера у него не было вовсе.
Чем же все-таки интересовался этот тупой и ограниченный человек? Карьерой, самой простой наживой и, как это ни странно, разными изобретениями. Он что-то выдумывал и чем-то хотел удивить мир. Разговорами на тему об изобретениях он изводил своих офицеров. Однажды он вдохновенно сказал:
– Я верю, что люди со временем изобретут прибор для брачного сожительства на расстоянии.
На «Бедовом» не было ни одного человека, который относился бы к своему командиру без затаенной ненависти.
Офицеры о нем отзывались:
– Ему бы только командовать портовым буксиром, а не боевым кораблем.
– А я не дождусь того времени, когда избавлюсь из-под власти этого мошенника, позорящего офицерский мундир.
Еще хуже жилось матросам. Для них был создан каторжный режим. Обладавший большой физической силой, Баранов избивал их до крови; под ударами его кулака многие валились на палубу. Жаловаться было некуда и некому, и только между собой делились они горечью своей жизни:
– Разве это – его высокоблагородие? Нет! Это – его высокоподлородие!
– Адмиральский подхалим. Только скажи ему Рожественский, что, мол, щетки нет, сапоги нечем вычистить, так Баранов сейчас же бросится к нему в ноги и своей бородой вычистит ему сапоги.
Вообще это был человек жестокий, нечестный, без принципов, без чувства долга, лишенный даже намека на какое-либо благородство. Как же все-таки этот офицер держался во флоте? Как терпела его та среда, в которой он вращался? Каким образом он мог плавать целых два года в качестве старшего офицера на царской яхте «Полярная звезда»? Но такие офицеры не редки были во флоте. Поэтому Баранова не только не гнали из морского ведомства, но, наоборот, награждали: он имел пять русских и семь иностранных орденов, в том числе один японский – орден Восходящего солнца.
На броненосце «Александр III» плавал его сын, мичман Баранов, высокий и худощавый юноша, со стыдливым румянцем на безусом лице, с наивно-ясными глазами. Для него, только что вырвавшегося из желтых стен морского кадетского корпуса, жизнь была расцвечена в яркие краски заманчивых надежд. Но при встрече с отцом он становился грустным. Однажды, завтракая в кают-компании миноносца, он обратился к офицерам с вопросом:
– За что здесь так не любят моего отца?
Офицеры переглянулись между собой, но ничего не сказали.
«Бедовый» с Барановым-отцом благополучно добрался до Цусимского пролива. Адмирал Рожественский за все это время продолжал смотреть на Баранова как на образцового командира. И только 14 мая, в день сражения с японцами, командующему пришлось жестоко разочароваться в своем любимце.



