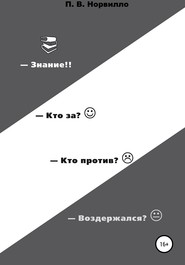 Полная версия
Полная версияЗнание! Кто «за»? Кто «против»? Воздержался?
На это, правда, можно возразить, что даже на войне не всё решает количество, а уж в науке правило “не числом, а умением” приобретает сугубый смысл. Ведь чисто механическое наращивание подразделений, занятых некоторой теоретической проблемой, порой не только не ускоряет, а напротив, затрудняет и замедляет процесс поиска решения. Между тем как раз к “умению” всеобщая обязанность не слишком снисходительна, и как бы прекрасно ни был выучен человек в ходе реальной службы, когда он уходит в запас и прекращает упражняться в приобретённых навыках, качество этих навыков с неизбежностью начинает чем дальше, тем всё более снижаться. Зато пожизненный учёный рекрут, не отвлекающийся ни на что другое, кроме выполнения “своей” функции, если и не становится выдающимся первопроходцем, в хорошего мастера за счёт богатой практики, как правило, вырастает. Так стоит ли ожидать ощутимой практической выгоды от наличия обширного резерва умеренно квалифицированных научных кадров, если в конечном итоге по-настоящему опереться можно будет только на гораздо более узкий круг специалистов действительных и реально действующих?
Разумеется, с тем, что любое переставшее использоваться умение постепенно угасает (хотя и не совсем до нуля), спорить трудно, ибо так оно и есть. Однако не менее верно и то, что навыки обращения с высокоспециализированным инструментарием и оборудованием – без которых в большинстве современных наук не сделать и полшага вперёд – это лишь техническая сторона исследовательского процесса. Главным же в нём, как и во времена Архимеда и Аристотеля, остаётся умение проводить общелогический анализ имеющихся данных, систематизировать факты, выявляя связующие их закономерности, формулировать конструктивные гипотезы, а затем грамотно корректировать их по результатам экспериментальной проверки и т. д. А такого рода навыками, уж коли они сформируются, их обладатели почти наверняка будут пользоваться (а значит, тренировать и поддерживать в рабочем состоянии) при решении не только научных, но и любых других задач, которыми им случится заниматься после завершения срочной службы в исследовательских формированиях. Так что прощание с унаследованными от самого что ни на есть Старого мира интеллектуальными сословиями повлечёт за собой не только укрепление позиций собственно науки. Плюс к тому отказ от якобы современной, а по сути феодальной системы комплектования исследовательских сил, на деле означающей недоразвитие умственных способностей большей части населения в пользу ограниченного контингента научных работников, сделает более осмысленным функционирование вообще всех отраслей общественной жизни.
Что же касается восстановления навыков работы со спецсредствами и знакомства с новыми их образцами, то для этого – опять-таки по аналогии с военным делом – вполне могут подойти более или менее кратковременные сборы, на которых резервисты будут практиковаться в знакомых и осваивать незнакомые им приёмы решения исследовательских задач. Впрочем, по какому бы пути ни пошли в этом вопросе будущие организаторы науки, представляется очевидным, что выбор методов переподготовки находящихся в запасе солдат истины есть опять-таки вопрос вполне технический и достаточно второстепенный. И можно не сомневаться, что обществу, которое сумеет перевести комплектование армии научных работников в режим всеобщей обязанности, тем более будет по силам изыскать достаточно продуктивные и экономичные способы поддержания дееспособности своих учёных резервов.
В полной мере это относится и к подготовке будущих исследователей, но всё же на этом предмете хочется остановиться немного подробнее. Потому что целый ряд и именно узловых элементов системы, которая должна прийти на смену современной практике обучения, уже сейчас можно обрисовать с высокой степенью определённости.
4а) Первая ступень образования.
Итак, исходным для эскиза перспективной модели общественного познания является тот несомненный факт, что действующая армия научных работников формируется из специализированных подразделений и частей. И возвращение из этого состояния во времена, когда один исследователь мог серьёзно продвигать вперёд целый ряд отнюдь не смежных дисциплин от оптики до медицины, не предвидится (по крайней мере при нормальном развитии человечества). А значит, подготовка научной смены, охватывающей каждое очередное подрастающее поколение в полном составе, тоже должна стать строго специализированной и, что называется, под ключ. Проще говоря, уже учебные заведения первой ступени (по современному – школы) вместо недоспециалистов во всех областях начнут готовить действительных специалистов в одной области, которые сразу после выпуска включались бы в практическую работу исследовательских подразделений соответствующего профиля.
Для решения этой задачи, во-первых, за каждым направлением знания, исходя из его удельного веса в общем комплексе наук и предполагаемых перспектив развития, закрепляется подобающее число заведений, так сказать, начального образования. А во-вторых, обучение в новых школах с самого начала ведётся не с “уклоном”, а на уровне, обеспечивающем профессиональное овладение заданной специальностью. Достигается это, в частности, за счёт того, что учащимся не приходится тратить время и силы на усвоение (а преподавателям – на вдалбливание в головы учеников) массы практически бесполезных сведений, поскольку все непрофильные дисциплины преподаются ровно в том объёме, который необходим для усвоения “своей” науки и для повседневной жизни. Так что по продолжительности “школьное” обучение будущего будет уж точно не длиннее, а скорее всего, даже короче современного. Другое дело, что сравнительно типовыми в нём останутся программы разве что первых двух-трёх лет, связанных с освоением грамоты, четырёх действий арифметики и иных базовых культурных явлений, но уже дальше дифференциация учебных процессов будет идти по нарастающей26*.
Закончившие учебные заведения первой ступени распределяются в научные подразделения и экспедиции для выполнения работ на первых порах достаточно простых и в основном вспомогательных. Но вместе с тем служба призывников организуется так, чтобы они могли получить целостное представление о том, на какие вопросы пытается ответить данная группа и то более широкое объединение научных работников, в которое она входит; какие методы для этого используются; какие ресурсы задействуются и т. д. И по мере того, как молодые специалисты вникают во всё это, им начинают поручать более ответственные участки; а те, кто выдвигает собственные интересные идеи по решению стоящих перед учёными коллегами задач, получают возможность проверить эти идеи на практике.
Само собой разумеется также, что при назначении на тяжёлые, вредные или опасные работы (каковых немало в той же геологии, химии, ядерной физике и ряде других дисциплин) будут учитываться не только собственные пожелания и уровень подготовки начинающих солдат истины, но ещё и общее состояние их здоровья и дисциплины. Так что управлять в одиночку сложным и дорогостоящим оборудованием вчерашнему новобранцу, конечно же, никто не доверит. А вот осваивать под руководством опытных наставников определённые позиции в расчётах и экипажах в том числе ускорителей элементарных частиц, глубоководных исследовательских комплексов, радиотелескопов и иных высокотехнологичных научных устройств каждая очередная смена рядовых армии познания, несомненно, должна.
На этом, пожалуй, можно остановиться, поскольку мы и так уже начали углубляться в те не самые принципиальные организационно-технические детали, которые собирались оставить на усмотрение будущих реформаторов науки. У нас, правда, остаётся ещё один сюжет, мимо которого никак нельзя пройти, говоря о первой ступени образования. Однако вопрос о критериях, на основании которых знания должны признаваться необходимыми для “повседневной жизни”, а стало быть, включаться в программы всех стартовых учебных заведений независимо от их профиля, касается не только будущей, но и современной школы. И потому этот вопрос определённо заслуживает того, чтобы посвятить ему особый раздел.
4б) Знания необходимые и излишние.
Продвигаясь от первобытного состояния к современному, человечество довольно давно миновало этап, когда масса накопленных предшествующими поколениями научных сведений об окружающем мире возрастает настолько, что ни один сколь угодно талантливый житель последующих времён уже не в состоянии усвоить всю эту массу. А когда даже очень любознательный человек убеждается, что знать “всё на свете” невозможно, то ему волей-неволей приходится браться за деление общечеловеческого архива на знания, нужные лично ему, и знания вообще, которые для кого-то, наверное, представляют интерес, но без которых он сам вполне может обойтись.
Вот, например, как относятся к географическому знанию наши самые что ни на есть нормальные и среднестатистически образованные соотечественники:
– не знать, сколько имеется на Земле океанов и континентов, считается неприличным;
– знать большинство европейских стран и столиц и основные азиатские, африканские и американские столицы считается нормальным;
– зная несколько самых (самых высоких, самых глубоких, самых длинных, самых больших или маленьких озёр, рек, морей, гор, стран и т. д.), вы имеете шанс прослыть эрудитом;
– но если вы в дружеской компании предложите быстро по памяти назвать действующие вулканы Анд, то это воспримут в лучшем случае как неудачную шутку.
К этому можно добавить, что если мало кто из носящих одежду из синтетических материалов разбирается в деталях стереорегулярного строения искусственных полимеров, то точно так же далеко не всякий сидящий перед телевизором понимает механизм формирования управляемых электронных пучков.
Очевидно, что такая беспечность основывается, во-первых, на том, что Анды далеко, а телевизор срабатывает от простого нажатия на кнопку; а во-вторых, на том, что где-то есть вулканологический атлас, который в случае необходимости можно взять и посмотреть, и есть специалист по телевизионным приёмникам, который в случае необходимости может посмотреть аппарат. Но зато когда дело доходит до вопросов, с которыми приходится сталкиваться регулярно, а перепоручить оценку обстановки и принятие решений по дальнейшим действиям некому, вот тогда люди, заинтересованные в оперативном и качественном разрешении таких вопросов, начинают стараться удержать в голове даже те сведения, которые, вообще говоря, имеются в справочниках, но которые приходится долго разыскивать.
И надо признать, что сформулированный в самом общем виде такой “регулярно-проблемный” критерий отбора нужных знаний выглядит вполне здравым и оставляющим очень мало места для каких-либо возражений или придирок. Однако из-за того, что на практике данный критерий применяется скорее интуитивно, нежели осознанно, для большинства наших современников круг “неотложно-неизбежных” проблем, к которым надо подходить во всеоружии знаний, ограничивается в основном или даже исключительно сферой их профессиональной деятельности. Хотя на самом деле этот круг гораздо шире, чем любая из существующих на сегодняшний день специальностей.
Например, человек не то что ежедневно, а ежечасно и ежеминутно и как нельзя более тесно сталкивается с функционированием своего организма. Так что, казалось бы, в вопросах анатомии и физиологии каждый человек просто обязан быть эрудитом. Тем не менее если бы не сугубо невежественное отношение очень многих и в том числе формально образованных людей к собственной телесной организации, то на лечение заболевших требовалось бы в десятки, а может, и в сотни раз меньше средств. Аналогичным образом ежедневно и ежечасно человек по различным поводам и в разнообразных форматах контактирует или, выражаясь по-учёному, вступает во взаимодействие с другими людьми. Но почему-то считается, что ориентироваться в базовых принципах построения человеческих отношений, то есть быть человеком, учёным в вопросах философии и психологии27*, – это право, а не обязанность, вопрос хобби, а не дело чести живущего среди людей.
В начале раздела мы говорили о том, что можно пользоваться освоенными достижениями естественных наук, совершенно в них не разбираясь. Отнюдь не застрахованы от подобного отношения и выводы общественных наук; можно жить при цивилизации, широко пользоваться её преимуществами и при этом совершенно не понимать, что есть цивилизация, чем она отличается от варварства и дикости, каковы перспективы нашей цивилизации и куда приведёт человечество выбор той или иной из имеющихся альтернатив. Но если попытки сделать всех одновременно физиками, химиками, математиками и т. д. способны принести только огромные хлопоты и неэффективные расходы, то с социальными дисциплинами ситуация иная. Потому что приобретение всеми членами общества – наряду со своей основной квалификацией – знаний, позволяющих объективно оценивать общественный смысл своих и чужих действий, во-первых, является делом гораздо менее затратным. А во-вторых, помимо исключительной моральной выгоды, такая мера даст и прямой материальный эффект, поскольку позволит существенно сократить или вовсе исключить издержки на публичное администрирование целых секторов общественных отношений, которые в былые времена могли обходиться без чиновного контроля, а значит, при подобающих обстоятельствах вполне способны вернуться в исходное состояние.
Заметим также, что для полноценного применения естественнонаучных фактов и закономерностей обычно бывает мало их просто знать. Гораздо чаще для того, чтобы найти более-менее практичный способ использования открытий в области физики, химии, биологии и далее по списку, требуются ещё время и средства и порой немалые. Так что всеобщее распространение углублённых знаний, скажем, по химии, но без столь же всеобщего доступа к специальному оборудованию, материалам, энергетическим ресурсам и проч., и с этой точки зрения будет мерой вполне бессмысленной. Напротив, для извлечения ощутимых выгод из накопленного человечеством опыта собственной внутренней организации надо совсем немного – знать реальную историю развития общественных отношений и хотеть у неё учиться. После чего при создании, перепланировке или ликвидации социальных институтов и учреждений можно будет, помимо благих намерений, руководствоваться ещё и ясным пониманием того, какие элементы и в каких сочетаниях следует брать, чтобы добиться такой прочности, гибкости, ремонтопригодности и иных эксплуатационных качеств возводимой конструкции, которые отвечали бы данному состоянию внешней среды и уровню готовности работающих с этой конструкцией людей. Что опять-таки не только позволит более эффективно расходовать материальные ресурсы, но и поможет формированию общего положительного настроя участников соответствующих человеческих объединений.
При этом, разумеется, собственно разведработами в области истории (психологии, философии) должен заниматься ограниченный контингент кадровых научных работников. Но вот стремиться быть в курсе добываемых этим контингентом сведений и опираться на них в своей повседневной жизни должны все члены общества, желающего состоять из полноценно мыслящих индивидов. Рассуждая же более широко, можно констатировать, что именно на этапе обучения гуманитарным наукам в значительной, если не в решающей мере определяется, насколько широко и продуктивно будут применяться данные этих наук в жизни отдельных людей и общества в целом. Иначе говоря, если граница освоения естественнонаучного знания проходит в основном в районе отраслевых институтов и исследовательских центров крупных компаний, то второй эшелон общественных наук находится, точнее, должен находиться в учебных заведениях первой ступени. А коль скоро это так, то и представлять ученикам результаты осознания человечеством самого себя и своего совокупного опыта должны не педагоги, попутно ознакомленные с историей или философией, а учёные-историки, учёные-философы, учёные-психологи, владеющие навыками работы с аудиторией. Потому что только такие специалисты смогут выпускать в жизнь не школяров-недоучек, а людей, действительно учёных в вопросах человеческих взаимодействий.
4в) Вторая ступень образования.
В новых условиях, как и в настоящее время, продолжение образования после завершения его первой ступени будет делом строго добровольным. При этом отслужившие срочную службу делу познания в дальнейшем, разумеется, будут иметь право поступать в “училище” любого профиля. В связи с чем вполне оправданным становится преподавание в учебных заведениях второй ступени всех специальных дисциплин именно с нуля или почти с нуля.
Другое дело, что те, кто пойдёт на вторую ступень по своей “рядовой” специальности, очевидно, смогут сэкономить какое-то время (вероятнее всего, от полугода до года). А вот те, кто со специальностью данного заведения близко не знакомился, должны будут начинать с некоторого дополнительного вводного курса и только после его завершения объединяться в общий поток с другими учащимися. Что тоже отнюдь не является каким-то потрясающим новшеством, поскольку аналогичный подход, т. е. предварительное “подтягивание” относительно менее подготовленной части будущих студентов до среднепотокового уровня практиковался, в частности, в советской системе образования в виде так называемых рабочих факультетов. И показал вполне приемлемые результаты. Потому что продуктивнее всего учебный процесс идёт при примерно равной подготовленности обучающихся, а попытки ориентироваться на сравнительно более слабую часть аудитории, как исчерпывающе доказывает опыт обычной школы, в конечном счёте сбивают с рабочего темпа не только нормально успевающую часть класса (не говоря уже об “умницах”), но и самих отстающих.
Что же касается отличий, то, пожалуй, главное из них связано с тем, что в привычной нам схеме учащиеся академических ВУЗов, осваивая последние достижения выбранной отрасли знания, приёмы и методы ведения исследований, используемые при этом технические средства и т. д., готовятся прежде всего к самостоятельной научной работе. Тогда как “студентам” эпохи всеобщего познания – наряду с элементами индивидуальной подготовки разведчиков неизвестного – предстоит детально изучать ещё и принципы и технологию организации коллективного научного поиска. Причём на таком уровне, чтобы они сразу после выпуска могли возглавить небольшие группы и подразделения научных призывников и обеспечить их эффективную деятельность как с точки зрения вклада в изучение нашего мира, так и в плане совершенствования знаний и навыков руководимых ими вчерашних “школьников”.
Иначе говоря, с возвращением к всеобщей познавательной обязанности, но в условиях, когда научный поиск по сравнению с первыми шагами цивилизации заметно усложнился, функция подготовки рядового исследовательского персонала будет выполняться преимущественно первой ступенью образования. А учебные заведения второй ступени станут готовить уже не просто научных работников, а именно низовых организаторов исследовательского процесса или, если угодно, младших офицеров армии знания. Отсюда и планы приёма на эту ступень образования будут определяться не по схеме “вали валом – потом разберём”, а исходя из фактических штатных расписаний научных подразделений, действующих на том или ином участке фронта исследований, а также предполагаемых перспектив их расширения либо сокращения.
Вполне вероятно также, что для подтверждения своей квалификации учащимся второй ступени необходимо будет успешно пройти не только выпускные испытания, но и, скажем, годичную стажировку в действующем исследовательском корпусе, по итогам которой им и будет присваиваться первый официальный научноармейский ранг. (А те, кто не покажет достойных результатов, будут оставаться “старшими рядовыми” до следующей аттестации.) Впрочем, это опять-таки относится скорее к частностям, а вот на что действительно важно указать, так это на то, что, начиная службу на передовой научного поиска, затем наши младшие (а может, уже и не совсем младшие) организаторы науки примерно через 10-15 лет будут переводиться в тыл, на границу освоения или в другие вспомогательно-обеспечивающие подразделения. Причём в данной фразе слово “примерно” является не дежурной вставкой, а одним из ключевых.
В самом деле, с одной стороны, возможности отдельного человека конечны и не столь уж велики, а с другой стороны, отдельные отрасли знания и познание в целом движутся вперёд тем интенсивнее, чем шире они раскрывают способности и чем глубже выбирают теоретический потенциал своих первопроходцев. Иными словами, полное исчерпание солдатом истины своего новаторского ресурса есть явление не только вполне объективное, но и для науки гораздо более ценное, нежели работа того или иного исследователя вполсилы (не говоря уже о менее значительных долях его творческих задатков). Так что вести дело к тому, чтобы учёные в своей деятельности не выдыхались, а, размениваясь на мелочи, воплощали в реальный познавательный эффект лишь часть своего исследовательского потенциала – это значит оказывать науке, мягко выражаясь, медвежью услугу. Заботиться же о развитии науки – это значит организовать её так, чтобы каждый служащий знанию выкладывался до конца и делал для постижения окружающего нас мира всё, что в его силах.
А задавшись такой целью, никак нельзя забывать и о том, что для учёного полное раскрытие творческих возможностей означает одновременно достижение им своего теоретического потолка. Ну а когда некоторый научный работник, внеся ту или иную лепту в расширение границ познания, достигает своих предельных творческих вершин и оказывается не в состоянии далее полноценно исполнять обязанности разведчика неизвестного, то в интересах не только науки, но прежде всего самого этого человека отозвать его с передовой научного поиска и направить на другую работу. Потому что в противном случае утративший способность двигаться вперёд учёный с большой вероятностью будет более или менее постепенно перевоплощаться в мракобеса.
Наконец, наряду с тем, что личные умственные и физические ресурсы человека имеют пределы, вполне очевидно и то, что у разных людей эти пределы могут тем не менее существенно отличаться, и что, следовательно, “всё”, что способен сделать для науки учёный Икс, может далеко не совпадать с тем “всем”, что под силу учёному Игреку. Поэтому, практически не боясь ошибиться, можно утверждать, что если в науке будут созданы условия для максимально полного раскрытия возможностей каждого учёного, то для кого-то позитивное участие в разведке неизвестного будет завершаться через несколько лет, для кого-то – через несколько десятилетий, и почти не останется людей, которым бы не хватало жизни для воплощения в практические результаты всего своего теоретического потенциала.
Ну а в сумме всё вышесказанное как раз и подводит нас к заключению, что отчисление из передовых экспедиций, чтобы быть своевременным, по самой своей сути должно быть не-регулярным. То есть кого-то следует переводить в тыл не раньше, чем через 15-20 лет, а кого-то – не позже, чем через 3-5 лет службы. Вместе с тем отзыв из разведки не просто МОЖЕТ НЕ означать, но в общем случае НЕ ДОЛЖЕН означать полного увольнения солдата истины из армии знания. Ибо для поддержания оптимальной скорости, экономичности, безопасности и других существенных параметров процесса производства идей требуются не только разведчики неизвестного, но и освоители открытого, и обслуживающий персонал для теоретических арсеналов28*, и работники служб материально-технического обеспечения научного поиска, и много других людей, которые хотя и не принимают непосредственного участия в передвижении границы неизвестного, но чей труд является необходимой составной частью всякого открытия. И чем больше будет на вспомогательных научных работах занято людей, на личном опыте знающих, как достаётся хотя бы один шаг по теоретической целине, тем легче будет справляться со своими задачами научным пограничникам.
4г) Третья ступень образования.
В современной системе образования хоть сколько-нибудь близких аналогов данной ступени нет. Хотя практика свидетельствует, что специалисты, хорошо зарекомендовавшие себя в индивидуальном теоретическом поиске, далеко не всегда оказываются столь же блестящими организаторами науки и руководителями крупных научных учреждений. И дело здесь не только в степени выраженности у разных людей того набора качеств, которые принято называть “лидерскими”. Чтобы наука могла продуктивно развиваться, её лидеры, помимо собственно умения обеспечить слаженное взаимодействие большого числа со-трудников, должны быть в состоянии грамотно выбирать те цели, ради которых будет налаживаться искомое взаимодействие. Поясним эту мысль, как обычно, на примере географии.
Так вот во времена, когда ещё имелись значительные неизученные пространства, а средства связи не очень далеко ушли от каменного века, глава географической экспедиции, покинувшей освоенные цивилизацией пределы и углубляющейся в новые земли, становился для своих спутников высшей не только научной, но и хозяйственной, административной, а в случае необходимости также политической и военной властью. Однако если он при этом не оставался прежде всего учёным и не ставил в центр своих и чужих усилий выполнение именно исследовательских задач, то такая экспедиция, даже принося определённые политические и экономические выгоды, в научном плане оказывалась более или менее сорванной, поскольку её теоретические цели так и оставались недостигнутыми.



