
Полная версия:
Краткая история Франции

Джон Норвич
Краткая история Франции
John Julius Norwich
France. A History: From Gaul to de Gaulle
© John Julius Norwich, 2018
© Строганова О. В., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2019
КоЛибри®
* * *Джон Джулиус Норвич – один из известнейших британских историков, дипломат. Получил образование в Колледже Верхней Канады, Итонском колледже, Страсбургском университете и Новом колледже в Оксфорде. Служил в посольствах Великобритании в Белграде и Бейруте, был членом палаты лордов парламента. Автор более 35 книг, включая вышедшие на русском языке: «Нормандцы в Сицилии», «Расцвет и закат Сицилийского королевства», «История Византии», «История Венецианской республики», «Срединное море», «История Англии и шекспировские короли» и «История папства». Автор и участник свыше 30 исторических документальных фильмов на канале BBC.
Бесценное приобщение к истории Франции с первых лет ее существования по начало XX века.
History Revealed Magazine
Превосходно написанная книга об историческом пути Франции – следствие глубокой любви автора к этой стране.
Sunday Times
Поучительное введение в историю войн, в которых принимала участие Франция.
Times Literary Supplement
Бесспорным украшением исторической эпопеи служат рассказы о любвеобильных королях, свирепых эпидемиях и легендарных трапезах.
Times
История в изложении Джона Норвича – все равно что дружеская интеллектуальная беседа у камина.
Sunday Independent
Восхитительно легкое и изящное повествование о двух тысячах лет французской истории.
Daily Telegraph
Посвящаю своей маме. Она первая привезла меня во Францию и научила любить эту страну, как любила ее сама
Искренне благодарю Джоджину Лейкок, Каролину Уэстмор, Джулиет Брайтмор и Дугласа Мэтьюза – всех, кто в John Murray publishing house так усердно работал над изданием этой книги.
Пролог
«Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France» («За годы жизни я составил свое представление о Франции»). Эта первая фраза из воспоминаний генерала де Голля теперь известна во всем мире. Я тоже (конечно, более скромным образом) всегда лелеял именно собственный образ Франции. Думаю, он строится на детских впечатлениях от первой поездки в сентябре 1936 г. Мне было около семи лет, и мама на пару недель взяла меня в Экс-ле-Бен, главным образом чтобы отучить от английской няни. Я и сейчас вижу, будто это было вчера, волнующую переправу через Ла-Манш, массу носильщиков в сине-зеленых блузах, от которых сильно пахло чесноком, толпу, говорящую по-французски (который я уже хорошо понимал, с пяти лет занимаясь дважды в неделю), бескрайние поля Нормандии, непривычно лишенные живых изгородей, затем парижский Северный вокзал в сумерках, полицейских в kepis (кепи) и с белоснежными жезлами, потом момент, когда я впервые увидел Эйфелеву башню. В Эксе мы оказались в скромном пансионе с красивым садом, где молодая девушка по имени Симона[1] приглядывала за мной, пока мама ходила на процедуры. Симона с утра до вечера болтала со мной по-французски.
До войны было еще две поездки. Одна – с обоими родителями на неделю в Париж, во время которой мы сделали все, что обычно делают туристы. Прокатились по Сене на bateau mouche (речном трамвае); сходили в Лувр, в котором я ужасно скучал, и в Музей канализации, где мне было очень интересно, поднялись на Триумфальную арку, откуда вид на Париж гораздо лучше, чем с Эйфелевой башни, с которой город виден как будто бы из самолета. Конечно, на Эйфелевой башне мы тоже побывали, и не только забрались на самый верх, но и пообедали в великолепном ресторане. Мой папа говорил, что это его любимый ресторан в Париже, потому что только из него не видно самой башни. Помню, меня поразило большое количество кафе по всему городу, во многих из них люди ели на улице; в предвоенном Лондоне кафе было сравнительно немного, а о столиках на тротуаре практически никто не слышал. Еще запомнил, что почти все подростки носили береты и брюки гольф, сотни мальчишек регулярно собирались на большом рынке для филателистов на круглой площади в начале Елисейских Полей[2]. Через восемь лет, когда мой отец стал послом, мы вели совсем другую жизнь. Я по-прежнему учился в школе, но теперь каникулы всегда проводил во Франции (включая Рождество 1944 г., когда еще шла война) в настоящем дворце. Hôtel de Charost на улице Фобур Сент – самое красивое, на мой взгляд, посольство в мире. Когда-то дворец принадлежал сестре Наполеона Полине Боргезе, затем его купил герцог Веллингтонский, после сражения при Ватерлоо короткое время служивший британским послом во Франции, а последние двести лет в нем находится посольство Великобритании. Зимой 1944 г. стояла очень холодная погода, и посольство оставалось одним из немногих в Париже теплых мест; к тому же там рекой лились виски и джин, которых не было во Франции с начала войны, и каждый вечер собирался парижский beau monde (высший свет) начиная с Жана Кокто. Вскоре эти вечера превратились в установленную практику и получили название Salon Vert (Зеленая гостиная). Хозяйкой салона была поэтесса (и близкая подруга моего отца) Луиза де Вильморен, которая порой жила в посольстве неделями. (Моя мама, не знавшая, что такое ревность, любила ее не меньше отца, и это никого не удивляло: де Вильморен была одной из самых обворожительных женщин, которых мне приходилось встречать. Мы подружились, она научила меня петь разные красивые французские песни, которые я и сейчас люблю распевать под гитару после обеда.) В салоне бывало мало политиков, но много писателей, художников и актеров. Помню одного регулярного посетителя, театрального художника Кристиана Берара, его всегда звали Бебе. Однажды он принес маленького мопса, который сразу оставил на ковре маленькую твердую какашку. Бебе, не задумываясь, поднял ее и положил себе в карман. Моя мать потом сказала, что он проявил наилучшие манеры. На вечера приходили отнюдь не только французы; собирались англичане, американцы и все, кого знали и с кем сталкивались мои родители.
Оглядываясь на те дни, я могу лишь пожалеть, что не был на два-три года постарше: все эти знаменитые люди оставались для меня просто людьми. Я называл Жана Кокто Жаном, смешивал ему сухой мартини, но не читал ничего им написанного. Если бы в 1944 г. мне было не пятнадцать, а восемнадцать лет, я бы узнал и понял гораздо больше. Но хватит: больше никаких жалоб. Спасибо, что я вообще видел таких людей.
Мой отец планировал свои рабочие поездки так, чтобы они совпадали с моими каникулами, поэтому мы посетили каждый уголок страны. На Пасху 1945 г., когда война подходила к концу, мы поехали на юг (мимо ржавеющих и сгоревших танков), и я впервые увидел Средиземное море, голубизну воды которого (после серовато-зеленой в Ла-Манше) я никогда не забуду. В 1946 г. мы со школьным товарищем на велосипедах проехали Прованс от Авиньона до Ниццы. Наше путешествие удалось только частично, помешала сильная жара и плохое качество дорог, поврежденных боевыми действиями, – шины постоянно спускали (камеры шин были прочные). В 1947 г., ожидая призыва во флот, я шесть месяцев прожил с замечательной эльзасской семьей в Страсбурге, ходил в университет на занятия по немецкому и русскому языкам (русский я начал изучать еще в двенадцать лет по лингафонному курсу). Мне очень нравилось в Страсбурге, если не считать страшного смущения, в которое меня вводили постоянные попытки квартирной хозяйки лишить меня девственности, зачастую за пять минут до прихода домой ее мужа. (Теперь-то я думаю, что, наверное, она рассказывала ему об этом в постели, и они вместе хихикали.) В конце того года мы покинули посольство и поселились в отличном доме у озера рядом с Шантийи. В это время Франция стала моим единственным домом, и моя любовь к ней росла и росла.
Еще живя в посольстве, я первый и последний раз встретился с генералом де Голлем. 6 июня 1947 г., в третью годовщину высадки в Нормандии, после поминальной службы на берегу, был большой фуршет в ближайшем к этому месту отеле. По какой-то причине я не попал туда накануне вечером вместе с родителями, поэтому поехал уже утром. Мне было семнадцать лет, и это была моя первая самостоятельная поездка за рулем. Я рассчитывал приехать к обеду, но безнадежно заплутал в узких проселочных дорогах Нормандии без всяких указателей и добрался, когда фуршет заканчивался. Отец представил меня генералу. Он, к моему удивлению, встал, чтобы поздороваться, развернувшись во весь свой огромный рост. Я был очень польщен, но при этом страшно голоден, а еда уже закончилась. Осталась всего одна тарелка – генерала де Голля, на ней лежал явно нетронутый большой кусок яблочного пирога. Я не мог оторвать от него взгляда. «Как ты думаешь, он будет есть пирог?» – спросил я мать. «Откуда я знаю, – ответила она, – лучше спроси генерала». Последовала короткая битва между голодом и застенчивостью, победил голод, и я подошел к столу де Голля. «Excusez-moi, mon général, – залепетал я, – mais est-ce que vous allez manger votre tarte aux pommes?» («Простите, мой генерал, будете ли вы есть свой яблочный пирог?») Он тут же с легкой улыбкой подал мне тарелку и извинился, что уронил в нее пепел со своей сигареты. Понимая, что, наверное, захожу слишком далеко, я сказал, что для меня будет честью съесть генеральский пепел – мое высказывание имело успех. Это была моя единственная беседа с этим великим человеком; в отличие от большинства тех, что с ним имели мой отец и Уинстон Черчилль, она прошла в исключительно доброжелательном ключе[3].
Я написал эту книгу не для историков, профессионалы не найдут в ней для себя ничего нового. Знания же большинства людей об истории Франции поразительно фрагментарны. Как правило, знакомство ограничивается Наполеоном, Жанной д’Арк и Людовиком XIV – и это всё. Я учился в трех школах, и нам рассказывали только о тех сражениях, в которых победили англичане: Креси и Пуатье, Азенкур и Ватерлоо.
Итак, вот перед вами моя попытка заполнить пробелы. Я расскажу о судьбе несчастных тамплиеров в руках одиозного Филиппа Красивого и о событиях, произошедших с его дочерьми в Нельской башне; о прекрасной мадам де Помпадур и противоречивой мадам де Ментенон; о Луи-Филиппе, почти забытом сегодня, но, наверное, лучшем короле в истории страны; и это только начало. Первая глава в быстром темпе сопроводит нас от галлов и Юлия Цезаря до Карла Великого, охватив около восьми столетий. Но затем скорость нашего движения будет постепенно снижаться. Последняя глава расскажет всего о пяти годах Второй мировой войны. И на этом я завершу свой рассказ. Все книги по истории должны иметь четко определенную конечную точку; если ее нет, то повествование растягивается до современности, и хотя я мог бы, наверное, охватить Вьетнам и Алжир, но ничто не заставило бы меня взяться за Европейский союз. Нет, 1945 год заканчивает одну эпоху и начинает новую. Четвертой и Пятой республикам придется поискать себе другого летописца. (На самом деле они уже нашли нескольких.)
Во вступлении автору обычно разрешается добавить что-то личное; однако в самой книге таких вольностей, как правило, не ждут. Должен признать, что в последних двух главах я иногда нарушал это правило. В 1937 г. моего отца Даффа Купера назначили первым лордом Адмиралтейства (так величественно называли тогда министра военно-морских сил), он подал в отставку, тем самым выступив против соглашения Невилла Чемберлена с Гитлером в Мюнхене. В 1940 г. отец вошел в правительство Уинстона Черчилля в качестве министра информации, затем выполнял секретную работу сначала на Дальнем Востоке, а потом в Лондоне. В январе 1944 г. он стал британским представителем при Французском комитете генерала де Голля в Алжире, а в августе, сразу после освобождения Франции, – послом Великобритании в Париже. На всех этих постах он так или иначе входил в историю страны; мне никак не удавалось исключить его из повествования.
Я нагрешил и в других моментах, больше всего в последовательности, которой мне всегда не хватало. На последующих страницах читатель найдет и английские, и французские варианты одних имен – Джонов и Жанов, Генрихов и Анри. Выбор варианта диктовался иной раз желанием избежать путаницы, но гораздо чаще простым благозвучием – и я хорошо понимаю, что имя, которое, с моей точки зрения, звучит верно, другим может показаться чуждым. Если так, мне остается только принести свои извинения.
Эта книга практически наверняка мой последний труд. Я наслаждался каждой минутой работы над ней и считаю ее своеобразным выражением признательности Франции за все то счастье, что эта страна дарила мне долгие годы.
Лондон, март 2018 г.


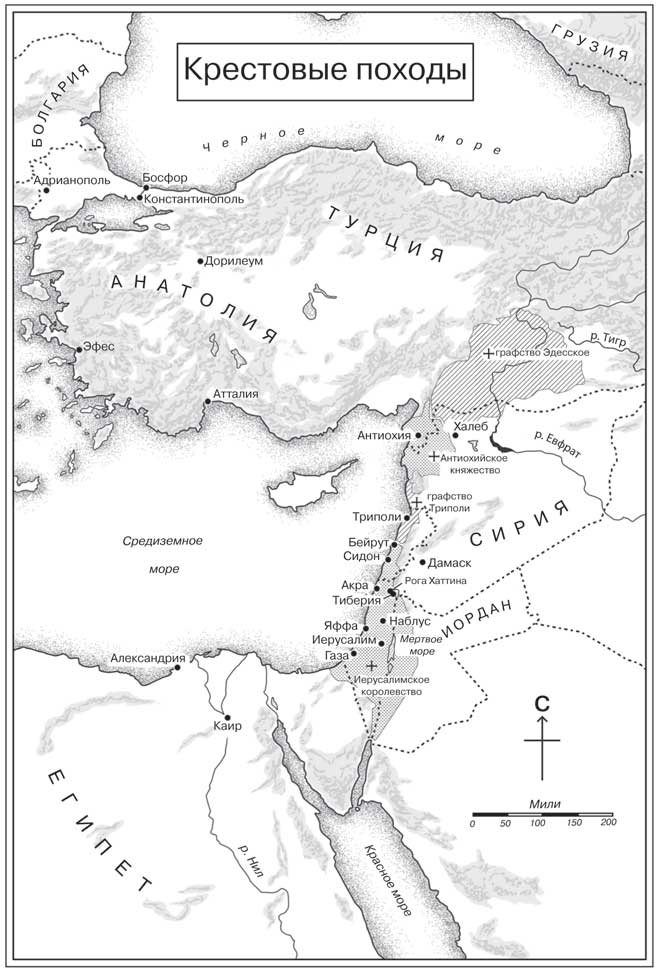
1. Очень темные времена. 58 до н. э. – 843 н. э.
La Gaule unieFormant une seule nationAnimée d’un même espritPeut défier l’Univers[4].Надпись на памятнике ВерцингеториксуФранцузскую армию, как и английскую, составили народы самой разной крови: лигуры, иберы, финикийцы, кельты и еще около пяти сотен различных племен древней Галлии. Однако доисторические времена лучше оставим специалистам. Наверное, стоит отметить, что примерно в 600 г. до н. э. отважные греки из города Фокея, что на Эгейском побережье Малой Азии, основали Марсель, но от них, увы, не сохранилось никаких памятников, да и вообще следов греческой культуры на французской земле дошло до нас совсем не много. История по-настоящему начинается ближе к концу II в. до н. э., когда римляне завоевали юго-восточную часть современной территории Франции. Они создали там свою первую провинцию (отсюда и название, которое до сих пор носит регион, – Прованс), заложив в качестве столицы новый городок – Аквы Секстиевы, современный Экс-ан-Прованс. За столицей последовали другие прекрасные города, в первую очередь Ним, Арль и Оранж. Плиний Старший считал, что эта земля «больше похожа на Италию, чем на провинцию». Должно быть, в те дни она была прекрасным местом для жизни.
Если попросить человека назвать первого знаменитого вождя во французской истории, немногие за пределами Франции углубятся в века дальше времени правления Карла Великого. Однако сами французы считают своим первым национальным героем Верцингеторикса. Его имя в переводе с галльского означает либо «повелитель – великий воин», либо «повелитель великих воинов». Особенно впечатляет, что все письменные свидетельства о Верцингеториксе исходят от римлян, то есть от тех, кто больше всех выигрывал от умаления его славы. Юг Франции был первой и наиболее прибыльной провинцией Римской империи – на самом деле настолько доходной, что хозяева страстно желали ее расширить. Увидев, что приграничная Галлия, как говорил об этом Цезарь, «разделена на три части», коварные римляне решили воспользоваться бесконечными распрями между тремя враждующими племенами. Гай Юлий Цезарь всегда заявлял, что вторгся в Галлию в 58 г. до н. э. прежде всего для того, чтобы превентивным ударом защитить от нападений земли Рима. Римская провинция подвергалась постоянным набегам (порой весьма жестоким) галльских племен на севере, и он решил предотвратить проблемы, которые могли возникнуть в будущем. Наверное, в какой-то степени это правда, и Галльская война, безусловно, позволила Риму установить естественную границу по Рейну. Однако Цезарь, как известно, был честолюбив. Римская республика быстро превращалась в диктатуру, власть постепенно концентрировалась в руках все меньшего количества людей. Чтобы в итоге получить всю полноту власти, Цезарю требовалось иметь в своем распоряжении армию, и крупная военная кампания в Галлии обеспечивала ему такую возможность.
Отдельные галльские племена к тому времени уже достигли определенного уровня цивилизации, но в целом противостоявшие Цезарю галлы, по сути, еще оставались варварами. Они не строили поселений, достойных называться городами. Их деревни мало отличались от скоплений лачуг из переплетенных ветвей, покрытых саманом. Галлы покрывали жилища соломой и ограждали их примитивным частоколом. О земледелии они знали мало и практически им не занимались, будучи скорее скотоводами, чем фермерами; держали овец, свиней и охотились на оленей, которые тогда водились в изобилии. Галлы славились своей воинственностью и обожали боевые схватки. В искусстве верховой езды они, пожалуй, превосходили даже римлян, и, хотя их вооружение уступало римскому, отвага и решимость, вкупе с численностью войска, делали галлов грозными противниками. В нескольких, исключительно кровавых, столкновениях они победили, а причиной их окончательного поражения в войне, скорее всего, послужил тот простой факт, что родоплеменная организация галльского общества не позволяла им достичь необходимого уровня политического единства.
В значительной степени по той же причине в первой половине войны галлы не выдвинули из своих рядов заметных лидеров, но уже в 52 г. до н. э., когда Цезарь отправился набирать войска в Цизальпинскую Галлию[5], 31-летний Верцингеторикс стал вождем племени арвернов, населявших район современной Оверни. Он немедленно начал налаживать связи с окрестными племенами и вскоре создал немалую армию. Первой задачей вождя было убедить галлов в том, что враги для них – римляне, а не собственные соседи. Верцингеторикс оказался прекрасным стратегом. В первой своей битве с захватчиками при Герговии в Центральном массиве он одержал решительную победу. По словам самого Цезаря, римляне потеряли около 750 легионеров, включая 46 центурионов. Этот блистательный молодой полководец представлял серьезную угрозу Цезарю. Решив изгнать римлян со своих территорий любой ценой, Верцингеторикс применил тактику «выжженной земли». Все поселения, которые могли дать врагу продовольствие и кров, уничтожались: такая партизанская война, однако, обходилась жителям не менее дорого, чем захватчикам. Ход событий изменился, когда битуриги не захотели покидать богатое запасами поселение Аварик, считая, что их защитят естественные преграды (Аварик располагался на холме, окруженном болотами). Верцингеторикс неохотно уступил, но разумность его тактики подтвердилась, когда римляне все-таки взяли городок. А в следующем сентябре при Алезии[6] Цезарь одержал решающую победу. Отступающих галлов перехватила римская кавалерия и уничтожила почти всех. Среди немногочисленных выживших был и сам предводитель галлов. На следующий день он официально сложил оружие. Великий греческий историк Плутарх, писавший примерно в 100 г. н. э., рассказывал, что Верцингеторикс, «главный вдохновитель и руководитель всего галльского сопротивления», прежде чем выехать за ворота, надел лучшее вооружение и богато украсил коня. Затем он торжественно объехал вокруг возвышения, на котором сидел Цезарь, спешился, сорвал с себя доспехи, сел у его ног и спокойно оставался на месте, пока его не взяли под стражу.
Должно быть, он хотел совершить самоубийство, как, по всеобщему мнению, столетие спустя поступила после поражения королева Боудикка. Вместо этого Верцингеторикс пять лет провел в заключении, затем во время триумфальной процессии Цезаря прошел по улицам Рима и наконец принял традиционную смерть от удушения. В XIX веке, в основном благодаря Наполеону III, его прославили как первого великого французского патриота. В Клермон-Ферране стоит великолепная статуя молодого военачальника на скачущем коне, а на предполагаемом месте последней крупной битвы Верцингеторикса установлен памятник с надписью на постаменте, процитированной в начале этой главы. Героя украшают чрезвычайно пышные длинные свисающие усы, которым редко находились соперники до времен Жоржа Клемансо.
Война тянулась еще пару лет, но после битвы при Алезии Галлия почти во всех отношениях романизировалась. Видит бог, у галлов было мало причин любить своих завоевателей: Цезарь обращался с ними жестко (нередко жестоко) и не выказывал никакого уважения. Он безжалостно грабил и разорял, отнимал золото и серебро и тысячами продавал пленников в рабство. Но со временем галлы стали замечать и положительную сторону произошедших событий. Ничто не объединяет людей лучше, чем общий враг, и под римским правлением они сплотились, как никогда раньше; их родоплеменная система попросту отмерла. Были созданы три римские администрации для провинций Кельтика (со штаб-квартирой генерал-губернатора в Лионе), Белгика (примерно соответствует современной Бельгии) и Аквитания (в юго-западной части); и они немедленно приступили к работе. За пятьдесят лет галльский пейзаж преобразился, как сто лет назад случилось с Провансом. Появились новые дороги, города, виллы, театры, общественные бани и – впервые в галльской истории – правильно обработанные поля. Теперь при небольшом усилии любой образованный галл мог получить римское гражданство со всеми привилегиями: в качестве civis romanus (римского гражданина) его даже могли поставить во главе армии или администрации провинции.
Галлии предстояло оставаться под управлением Рима около пяти сотен лет – примерно столько же времени отделяет нас от эпохи Генриха VIII. К началу II в. н. э. люди начали поговаривать о новой религии – той, что зародилась в далекой азиатской провинции, а затем привела к глубоким переменам во всей Европе и за ее пределами. Как и сама римская цивилизация, христианство медленно распространялось от Средиземного моря на север. К 100 г. первые миссионеры достигли Марселя; понадобилась еще добрая половина следующего столетия, чтобы христианское послание добралось уже до Лиона. Римская империя (к тому моменту это уже была именно империя) удивительно спокойно относилась к религии: пока на словах люди превозносили императора, они были более или менее свободны верить в то, во что хотят. Христиане, однако, не шли даже на эти условия. Гонения становились неизбежными. Они начались при Нероне в 64 г., после великого пожара Рима, и продолжались с перерывами в течение последующих 250 лет. Самый черный час для христиан пробил в правление Диоклетиана на рубеже III и IV вв. Мученикам не было числа: среди них святой Дионисий, епископ Парижа III в., который, как гласит предание, после обезглавливания поднял свою голову и прошествовал с ней, проповедуя раскаяние, несколько миль[7] до аббатства, теперь носящего его имя.
Но затем занялась заря новой жизни: в феврале 313 г. два императора, Константин Великий и Лициний, издали Миланский эдикт, навсегда установивший терпимость к христианам на территории империи. А двадцать пять лет спустя, пусть лишь на смертном одре[8], и сам Константин принял христианство. В последующие столетия, несмотря на то что Франция сильно пострадает от религиозных войн, господству христианства ничто не будет угрожать вплоть до Великой французской революции.
В начале V в. Римская империя уже находилась в упадке и оказалась практически беззащитной перед варварами – готами, гуннами и вандалами, которые двигались с северо-востока в поисках более теплого климата и более плодородных земель. Это была не армия захватчиков, а переселение целых народов – мужчин, женщин и детей. Восточные готы (остготы), западные готы (вестготы) и вандалы обладали по крайней мере зачатками цивилизации. Все они были германского происхождения и исповедовали христианство. К несчастью, они разделяли взгляды арианцев: свято верили, что Иисус Христос не единосущен Богу, а был создан Им в определенное время и для определенной цели как особое орудие для спасения мира. Арианская ересь вводила их в противоречие с канонической церковью, однако они не имели никакого стремления разрушать Римскую империю, которая вызывала у них только восхищение. Единственное, чего они просили, – это Lebensraum (жизненное пространство), то есть места, где обосноваться; и они обосновались.
Гунны, напротив, были монголами и во всех отношениях варварами. Большинство из них по-прежнему жили и спали под открытым небом, презирая земледелие и даже вареную пищу, хотя существует предание, что они все-таки размягчали сырое мясо между собственными бедрами или боками своих лошадей во время скачки. Одеваться гунны предпочитали в туники из льняного полотна или, что довольно странно, из грубо сшитых шкурок полевых мышей. Такие туники они носили постоянно, никогда не снимая, пока те не падали сами по себе. (В 416 г. приняли закон, запрещавший входить в Рим людям, одетым в шкуры животных, или с длинными волосами.) Правитель гуннов Аттила был низкорослым, смуглым, курносым, с редкой бородой и маленькими, как бусинки, глазами на слишком крупной для его тела голове. Всего за несколько лет он внушил ужас всей Европе, его боялись больше любого другого человека (за исключением, пожалуй, Наполеона) и до и после его жизни.



