
Полная версия:
Песнь Итаки

Клэр Норт
Песнь Итаки
Original title:
THE LAST SONG OF PENELOPE
Claire North
На русском языке публикуется впервые
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Copyright © 2024 by Claire North
First published in the United Kingdom in the English language in 2024 by Orbit, an imprint of Little, Brown Book Group.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2025
Действующие лица
Семья ОдиссеяПенелопа – жена Одиссея, царица Итаки
Одиссей – муж Пенелопы, царь Итаки
Телемах – сын Одиссея и Пенелопы
Лаэрт – отец Одиссея
Антиклея – мать Одиссея, усопшая
Советники ОдиссеяМедон – старый, лояльный советник
Эгиптий – старый, менее лояльный советник
Пейсенор – бывший воин Одиссея
Женихи Пенелопы и их родственникиАнтиной – сын Эвпейта
Эвпейт – отец Антиноя, начальник гаваней
Эвримах – сын Полибия
Полибий – начальник житниц, отец Эвримаха
Амфином – греческий воин
Кенамон – египтянин
Гайос – наемный солдат
Служанки и простой народЭос – служанка Пенелопы, ухаживает за волосами
Автоноя – служанка Пенелопы, хранительница кухни
Меланта – служанка Пенелопы, хранительница очага
Мелитта – служанка Пенелопы, чистильщица туники
Феба – служанка Пенелопы, дружелюбная со всеми
Эвриклея – старая нянька Одиссея
Отония – служанка Лаэрта
Эвмей – старый свинопас Одиссея
Приена – воительница с востока
Теодора – сирота с Итаки
Анаит – служительница Артемиды
Урания – глава шпионов Пенелопы
МикенцыЭлектра – дочь Агамемнона и Клитемнестры
Орест – сын Агамемнона и Клитемнестры
Боги и божестваАфина – богиня мудрости и войны
Артемида – богиня охоты
Арес – бог войны
Афродита – богиня любви и страсти
Гера – богиня матерей и жен
ЖивотныеАрго – старый пес Одиссея
Глава 1

Пойте, о Музы, о славном герое, разграбившем Трою, а после много лет скитавшемся по морям. Он стал свидетелем величайших событий и перенес ужасные лишения, когда, подхваченный ураганом судьбы, тщетно стремился в одно лишь место – домой.
Из века в век пойте о нем, пойте о разбитых сердцах и коварных планах, о пророчествах и чести, о жалких смертных и их глупых делишках, о гордых царях и их падении. И пусть имя его помнят вечно, пусть его слава вознесется выше величайшего храма на вершине самой неприступной горы, и пусть все, кто услышит вашу песнь, заговорят об Одиссее.
И помните, рассказывая его историю: пусть он был потерян, но не одинок. Я всегда была рядом.
Пойте же, поэты, об Афине.
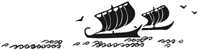
Глава 2

По общему мнению, из всех царств, составляющих благословенные земли Греции, западные острова – наихудшие. А среди них Итака, бесспорно, считается самым убогим.
Она, словно краб, поднимается из морских глубин, блестя крупицами соли на черных боках. Растущие в сердце ее деревья – чахлые, искореженные ветром страдальцы, а единственный ее город изрядно напоминает паучью сеть своими ветвистыми тропками, оплетающими приземистые домишки, которые будто каждую секунду ждут очередной бури. По берегам извилистых ручейков, что здесь зовутся реками, пасутся облезлые козы, щиплющие редкую травку, словно старческая бородка торчащую между выщербленными валунами – свидетелями ушедшей эпохи. Из множества заводей и укромных бухточек выталкивают на простор серого, пенящегося моря свои грубые лодчонки женщины, которые спешат собрать свой утренний улов серебристой верткой рыбешки, плещущейся у здешних берегов. К западу от острова зеленеют намного более плодородные берега Кефалонии, к северу бурлят шумные порты Гирии, на юге раскинулись плодородные рощи Закинтоса. «Какая глупость» – скажут те, кто считает себя культурными, что сыны этих богатых земель вынуждены платить дань захолустной крошечной Итаке, на которой цари западных островов сподобились возвести свое жалкое подобие дворца.
Но присмотритесь: вы заметили? Нет? Что ж, тогда я, богиня войны и мудрости, одарю вас крупицей своих знаний, объяснив, что хитрые цари этих земель не могли бы найти лучшего подножия для своего трона, чем похожая на панцирь земля Итаки.
Она, словно крепость, возвышается там, где встречается множество морей, и ни одному мореплавателю не миновать ее берегов, если нужно привести свой корабль в Калидон или Коринф, в Эгий или Халкиду. Даже Микены и Фивы посылают свои торговые суда через ее порты, не рискуя плыть южными морями, где недовольные воины Спарты и Пилоса могут ограбить их подчистую. Впрочем, не сказать, что цари западных островов всегда были далеки от пиратства – вовсе нет. Монарху необходимо время от времени демонстрировать мощь, имеющуюся в его распоряжении, чтобы, когда они решают не развязывать войну, а любезно встретить посланников мира, мир был бы особенно благодарен и готов на уступки в свете их милостивой сдержанности.
А еще Итаку обвиняют в том, что ее жители некультурные, нецивилизованные, неотесанные, манерами недалеко ушедшие от собак, и высшей формой поэзии здесь считается непристойная песенка, в которой пускают газы.
И на это я скажу: да. Это действительно так и есть, все эти слова – правда, но вы все равно – глупцы. Ведь и то и другое может быть правдой одновременно.
Ведь цари Итаки смогли извлечь пользу из своей грубости и некультурности: глядите, когда варвары с севера приплывают с трюмами, полными янтаря и олова, их не заставляют торчать у входа в гавань, не считают невежественными чужаками, напротив, приглашают в царские палаты, предлагают кубок-другой низкопробного вина – хотя на Итаке все вино ужасающе кислое – и заводят разговор о туманных лесах и заросших сосняком горах, которые гости считают родиной, словно намекая: да, да, разве не все мы тут дети моря, с дубленной ветрами и солью кожей?
Цивилизованные болваны нашего мира сверху вниз глядят на купцов запада, разгуливающих по берегу в грязных туниках и жующих свою рыбу с открытыми ртами. Они называют их деревенщинами и дикарями, даже не понимая, насколько этот ярлык облегчает тем выманивание серебра из жадных пальцев задавак, разодетых в шелка и золото.
Пусть дворец итакийских царей далеко не роскошен и не может похвастаться ни мраморными колоннами, ни набитыми серебряной утварью залами, но разве это кому-то нужно? В этом месте решают важные вопросы и заключают сделки те, кто всегда добавляет к своему имени «досточтимый» на случай, если кто-то вдруг в этом усомнится. Его крепостные стены – это сам остров, ведь любым возможным захватчикам придется провести свои корабли мимо иззубренных утесов, сквозь скрытые ловушки острых скал, прежде чем удастся высадить хоть одного солдата на берег Итаки. И потому я утверждаю: цари западных островов поступили не только хитро, но и практично, решив обосноваться на этой скудной, истощенной земле, а те, кто их высмеивают, – болваны, на которых я не желаю тратить время.
На самом деле, Итака, казалось бы, может стоять вечно, защищенная от захватчиков морем и скалами, вот только лучшие из ее мужей уплыли с Одиссеем в Трою, и из уплывших ни один не вернулся…
Пройдемте же со мной по каменистым пляжам Итаки туда, где лежит, забывшись сном, мужчина.
Стоит ли мне называть его возлюбленным?
Это слово – и это чувство – несет смерть.
Когда-то очень давно невиннейшая и чистая любовь к моей подруге согревала мне сердце. Я смеялась от счастья вместе с ней, возносила ей хвалу, радовалась ее успехам и грустила над неудачами – а теперь она мертва, убита моей рукой.
Больше никогда. Ни к кому. Ни в каком виде.
Я – щит, я – броня, я – золотой шлем и острое копье. Я – лучшая среди воинов этих земель, за исключением, пожалуй, одного, и я далека от любви.
Что ж, а вот и он – человек, ставший всем – или ничем?.. – всем для меня.
Свернулся клубком на песке, прижав колени к груди и прикрыв голову руками, словно пытаясь спрятаться от яркого солнечного света. Когда поэты сложат о нем песни, в них он станет золотоволосым, широкоплечим силачом, с мощными, как стволы деревьев, ногами. Но еще в этих песнях споют, что моим касанием был он обращен в горбатого старика, хромого и жалкого, а его великая сила скрылась во имя благой цели. Смирение героя – важная деталь, которая войдет в историю. Его величие не должно казаться чем-то недостижимым, невообразимым. Когда поэты будут петь о его страданиях, слушатели должны сопереживать ему. Только так мы сможем прославить его имя в веках.
Само собой, на самом деле Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, герой Трои, – низкорослый мужчина с примечательно волосатой спиной. Шевелюра на его голове, некогда напоминавшая опавшую листву, за двадцать лет под палящим солнцем и солеными ветрами приобрела грязноватый оттенок и немало седых прядей. А потому мы можем смело утверждать, что цвет этой спутанной копны, побитой стрессом и полинявшей от странствий, далек от золотого.
На мужчине туника, подаренная ему фиакийским царем. Препирательства по поводу качества наряда вышли невероятно утомительные, поскольку хозяева дома вынуждены были настаивать: «Пожалуйста, нет уж, пожалуйста, гостя следует одевать во все самое лучшее», а Одиссей в свою очередь так же вынужденно отказывался: «Нет, о нет, ведь я всего лишь жалкий попрошайка за вашим столом». В ответ ему заявляли, что да, конечно да, ведь он же великий царь, а тот отнекивался – мол, нет, мне не затмить величие хозяев… И так продолжалось некоторое время, пока наконец они не сошлись на среднем варианте, не слишком роскошном и не слишком унылом, и вздохнули с облегчением, чувствуя, что все теперь на своих местах. (Естественно, слуги подобрали наряд задолго до того, как начались переговоры, и просто незаметно держали наготове. Слишком уж у них много других дел, чтобы тратить время на все эти выкрутасы высокочтимых, воспетых в легендах мужей!)
И вот он спит, что для царя-скитальца можно признать вполне достойным и подходящим делом по возвращении на родную землю; его состояние легко объясняется тяжестью его странствий и разрушительным воздействием времени, которое непременно смягчат теплые ветра и сладкие ароматы ненаглядной Итаки и все в таком роде…
Уязвимости, ранимости тоже предстоит стать значительной частью его истории, если ей суждено существовать в веках. Он сотворил столько недобрых, гадких деяний, что теперь просто необходимо использовать любое оправдание, любую возможность представить его невинной жертвой богинь судьбы Мойр и тому подобных созданий. Ввернуть бы пару строф о его встрече с матерью на полях усопших, чтобы нарисовать портрет доблестного мужа, стремящегося к цели, несмотря на страдания раненого сердца… Да, думаю, это подойдет.
Подойдет.
Я не жду, что вы поймете мои стремления. Даже моим сородичам-богам с трудом удается предвидеть дальше, чем на столетие вперед, и у них всех, за исключением разве что Аполлона, пророчества неточные и до ужаса наивные. Я не провидица, я просто изучаю все вокруг, и мне совершенно ясно, что все рано или поздно обратится в прах, даже урожай на полях Деметры. И потому предвижу: задолго до пробуждения Титанов наступит время, когда имена богов – даже всемогущего Зевса – утратят свою силу, превратив их из громовержцев и повелителей волн в персонажей детских песенок и сказок. Предвижу мир, в котором смертные займут наши места, вознесут своих богов до наших высот – поразительнейшее нахальство, однако логичное, – пусть даже их боги будут далеко не так хороши в управлении погодой.
Я предвижу наше увядание. Предвижу наше падение, пусть мы и будем биться яростно. Больше не станут проливать кровь в нашу честь, приносить нам жертвы, а со временем никто даже не вспомнит больше наших имен. Так и исчезают боги…
И это не пророчество. Это кое-что намного сильнее – неизбежный ход истории.
Я не желаю с этим мириться и потому задействую свои механизмы. Я строю города и школы, храмы и памятники, даю ход идеям, которые продержаться дольше любого разбитого щита, но, даже если все это не сработает, в моем колчане останется еще одна стрела – истории.
Хорошая история может пережить практически все.
Вот для нее-то мне и нужен Одиссей.
Сейчас он ворочается на песке; поэты, естественно, скажут, что я вышла поприветствовать его: отличный момент для появления Афины, признания моей роли, моей поддержки. Впрочем, не очень подходящее слово, лучше назовем это… божественным содействием – светлейшим присутствием, что всегда направляло героя. Появись я слишком рано – и его путешествие показалось бы чересчур легким, а он сам выглядел бы баловнем богов, что меня не устраивало. Но здесь, на его родном берегу, момент выбран самый что ни на есть подходящий, своего рода катарсис: «Одиссей наконец встречает свою богиню-покровительницу, все это время направлявшую его дрожащую руку» – идеальное время для моего появления!
Что ж…
Если поэты справились со своей работой, вряд ли мне есть нужда рассказывать обо всем этом. Если они спели свои песни так, как я рассчитываю, то прямо сейчас слушатели обливаются слезами, а их сердца трепещут в тот момент, когда Одиссей начинает ворочаться, затем просыпается и видит берег, который не представал пред его взглядом около двадцати лет, пытается понять, где он, вскрикивает яростно, решив, что предан, что вероломные матросы, рассыпавшиеся в любезностях, бросили его в очередной неизвестной ему дыре… Затем поэты могут описать, как он постепенно успокаивается, берет себя в руки, начинает оглядываться, втягивает в себя воздух, чувствует, как внутри зарождается робкая надежда, и тут видит мою божественную фигуру, стоящую перед ним.
И я произнесу: «Разве не знакомо тебе это место, странник?» – тоном одновременно равнодушным (я же все-таки богиня, а он жалкий смертный) и в то же время заботливым, и тут он вскрикнет: «Итака! Итака! Милая Итака!»
Я позволю ему пережить этот момент восторга, чистейшего наслаждения – это еще одна важная часть в структуре всей истории, – прежде чем привлечь его внимание к более практичным вопросам и так и не выполненным обязанностям.
Так споют поэты, и в этот момент я окажусь в самом сердце истории. Я появлюсь, когда это особенно важно, и таким образом, как бы унизительно это ни звучало, я выживу.
Иногда я ненавижу Одиссея за это. Я, которой покоряются молнии, стану просто приложением в истории о смертном. Но в ненависти проку нет, поэтому, проглотив горький комок, я принимаюсь за работу. Когда все мои родственники исчезнут, когда поэты больше не станут воспевать их имена, Афина останется.
Поэты не споют правды об Одиссее. Все их песни на корню куплены и перекуплены, их истории пишутся по указке царей и жестоких воителей, которым они нужны только ради власти, одной лишь власти. Агамемнон велел сочинителям петь о своей несокрушимой мощи, о своем жадном до крови мече. Приам велел поэтам Трои в первую очередь возносить хвалу верности, преданности и семейным узам – и посмотрите, куда их это привело! По мрачным полям усопших бродят они, погубленные не столько мечами, отнявшими их жизни, сколько песнями, что им пелись.
Правда мне не пригодится, неразумно позволить ей стать известной.
И тут моя двойственная натура начинает рвать меня на части: ведь я богиня не только мудрости, но еще и войны. А война, пусть далеко не всегда мудра, но зато честна…
И вот вам правда – для того, чтобы успокоить воина в моем сердце философа.
Слушайте внимательно, потому что расскажу я это только раз.
Шепотом на ухо, под большим секретом – настоящую историю, произошедшую, когда Одиссей возвратился на Итаку.
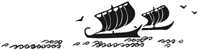
Глава 3

По краю черного как ночь утеса, усеянного гнездами каких-то птиц, журчит ручеек, тоненькой посверкивающей змейкой сползая в море. Если же пойти вверх по течению, то можно обнаружить озерцо, в котором иногда плещутся служанки Итаки, напевающие тайные песни, которые мужчинам никогда не услышать, ведь считается, что женский голос нечист и подходит лишь для похоронного плача. Здесь среди прохладных струй поблескивают мхом валуны и сребролистые деревья клонятся к воде, словно стыдясь ласки лучей солнца.
А если пробраться сквозь скрюченные ветки и колючие шипы, рвущие подолы любителям прогулок, достигнешь уступа, выглядывающего, словно непослушный малыш, между пальцами потускневшей листвы и дробленого камня, – и вот оттуда открывается отличный вид на море и город, кривоватые крыши дворца и негустые рощицы. В этом месте обычно не слышно людских голосов, здесь скорее найдет уединение быстрая рысь или желтоклювая хищная птица. И все же сейчас, подойдя поближе, мы можем услышать нечто поистине потрясающее для Итаки – не просто голоса, а самое необычное сочетание звуков: разговор двоих – мужчины и женщины.
Мужчина говорит:
– Но они – боги.
Женщина спрашивает:
– Хоть и все еще живы?
– Да, конечно.
– Не дети богов? Дети богов – это, можно сказать, наследственная черта греческой знати, видишь ли.
– Нет, они в самом деле боги.
– Но что, если они глупцы?
– Они не могут быть глупцами.
– Еще как могут!.. То есть некоторые из них.
– Ну, в этом случае фараон-наследник уничтожает их памятники, выносит золото из их гробниц и вымарывает их имена со стен храма.
– Так, значит, они боги, пока кто-то не решит по-другому?
– Именно. Если они были плохими фараонами и случилось наводнение, тогда они определенно не боги.
– Как… гибко.
– И Египет процветает уже целую вечность и будет процветать еще столько же, верно?
Давайте-ка приглядимся к этой паре, устроившейся у кромки воды. Мужчину зовут Кенамон, и прежде он был воином Мемфиса. Женщина – Пенелопа, царица Итаки.
Но сама о себе она так никогда не скажет. Она – Пенелопа, жена Одиссея. Камень, на котором она сидит, вода, которую она пьет, солнечные лучи, которые гладят ее лицо по утрам, – все это, по ее словам, принадлежит ему. А она всего лишь хранительница его земель, ведь и она сама тоже ему принадлежит. Мол, так любезно с вашей стороны назвать ее царицей, но она только скромная жена царя.
Она тоже поставила все, что имеет, на имя Одиссея, и от него зависит, жить ей или умереть. У нас много общего в этом смысле…
Жены царей, само собой, обычно не рассиживаются с воинами далеких земель, когда солнце поднимает свой лик над горизонтом. Подобное поведение было бы недопустимо скандальным даже для обычной, хотя бы слегка благочестивой женщины. Пенелопе об этом известно, и потому эта встреча стала возможной лишь при двух условиях. Во-первых, они устроились высоко над городом, далеко от глаз ее подданных, да и пришли сюда разными путями, которыми и разойдутся, закончив беседу: он – бродить по острову, вспоминая о доме; она – проверять стада и рощи, возможно, навестить своего досточтимого свекра или заняться еще каким-нибудь делом, подходящим хорошему управляющему.
Второе же условие – присутствие двух женщин, сидящих неподалеку: не настолько близко, чтобы мешать беседе, но достаточно, чтобы клятвенно заверить, что видели все, что происходило, и, боги свидетели, не было ни единого прикосновения пальцев или смешения дыхания в недопустимой близости, а когда госпожа смеялась – если вообще смеялась, – то очень печально, как будто говоря: «Что ж, нужно смеяться в лицо невзгодам, ведь так?»
Эти две женщины – Урания и Эос, и о них мы еще непременно поговорим.
– Я тоже замечал, – признаёт мужчина по имени Кенамон, – что есть определенные… сходства между некоторыми из наших божеств. Детали могут отличаться, но, похоже, во всех легендах есть возрождение, жизнь после смерти, великая битва и обещание грядущей награды.
– Обещание грядущей награды – крайне удобная вещь, – соглашается Пенелопа. – Нет ничего лучше, чем получить заверения, что обрушившиеся на тебя беды – это лишь краткий миг на пути к чему-то вроде Элизиума[1], дабы ты с большим смирением выносил свои муки. Удивительно, сколько люди способны вынести ради неподтвержденных посулов!
– Похоже, ты… не придерживаешься особо религиозных взглядов, моя царица.
– Песнопения жрецов… полезны.
Она произносит это слово с моей интонацией. Полезная чума, поразившая лагерь противника, полезное убийство в темных коридорах, задушенный в колыбели сын царя, дочь, за волосы притащенная к алтарю, – варварство, конечно, неправедное и бесчеловечное, но да – полезное. Полезная жестокость, помогающая добиться желаемого исхода.
Мудрость не всегда добра, а правда – милосердна, как, впрочем, и я.
Кожа Кенамона цвета заката, глаза сияют янтарем. Афродита называет его «аппетитным», смешивая гастрономические и эстетические вкусы, что я, в свою очередь, нахожу поистине недостойным; Артемида, отметив, что его руки скорее подходят для копья, чем для лука, больше не проявляет к нему интереса. Мужи островов изо всех сил стараются полностью игнорировать его, поскольку не могут справиться с подозрениями, что он на самом деле совершал все те деяния, которыми зеленые юнцы Итаки только хвастались. Он прибыл на эти острова с намерением посвататься к царице. Царица любезно его заверила, что ему, конечно, рады. Она осталась одна, став вдовой по сути, если не по статусу, а Итаке нужен был сильный царь, способный защитить ее берега. В таком положении у нее, само собой, не было возможности отвергнуть ни единого претендента на ее руку, во многом из-за того, что, занятые сватовством, они не стали бы грабить, убивать и угонять в рабство ее людей.
В то же время, раз тело ее мужа не было найдено, она, естественно, не могла выйти замуж ни за кого из тех, кто прибыл попытать счастья. Но ему не стоило терять надежды из-за этого препятствия, пусть и непреодолимого. В конце концов, остальные ведь не потеряли?
– Итака не может сравниться богатством с другими землями Греции, – продолжает Пенелопа, – зато о Спарте, где я жила еще девчонкой, говорили, что невольников, мужчин и женщин, там в пять раз больше, чем свободных жителей. Воины всячески наказывали, предавали ужасным мучениям тех, кто осмеливался выразить хоть тень непокорности, превращая все население в трясущееся от ужаса стадо. А вот жрецы… Жрецы тайком обещали кое-что другое – они дарили надежду. Мне никогда не забыть, какими крепкими были те цепи…
Покидая свою родину на далеком юге, Кенамон увозил с собой привычку брить голову и носить драгоценные украшения на шее и запястьях. А также повеление брата не возвращаться до тех пор, пока не станет царем. Повеление это, конечно, было абсурдным. Ни при каком раскладе не мог чужеземец завоевать руку царицы Итаки – но это и не было целью. Требовалось отсутствие Кенамона, и в тот момент, когда его отсылали прочь, перед ним встал выбор: остаться – и сражаться с собственной семьей, проливая кровь до тех пор, пока все его братья, кузены, а может быть и сестры, не будут уничтожены, – или отступиться и уплыть за океан, в земли, где никто о нем даже не слышал. Он выбрал, как считал, тропу мира. Слишком уж много битв было в его жизни.
Теперь его волосы отросли, оказавшись темными и кудрявыми. Он хотел было сбрить их, как полагается – но в этих землях, похоже, мужчины придавали немалое значение густоте шевелюры и красоте бороды. Сначала Кенамон счел подобное тщеславие отвратительным, но, проведя здесь некоторое время, понял, что это всего лишь очередное соревнование – ни больше ни меньше. Подобным грешили и мужчины его родины, и вовсе не важно было, чем хвастать: густотой волос, крепостью зубов, силой рук, длиной ног или резкостью профиля. Способы, которыми смертные пытаются возвысить себя или принизить других, столь многочисленны и разнообразны, что иногда поражают даже меня.
– Я захватывал рабов, когда был воином, – выдает Кенамон, сам удивляясь своим словам. Кенамон часто удивляется тому, что слетает с его языка в компании этой женщины, – такое действие она на него оказывает, одновременно пугающее и бодрящее. Пенелопа ждет продолжения, слушает, скрывая осуждение, если таковое и есть, за вечной, словно приклеенной улыбкой. – Помню даже, говорил им, какие они счастливцы, что попали именно ко мне. Да еще и злился, что они не особо благодарны.



