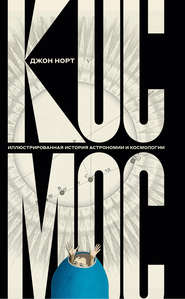
Полная версия:
Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии
Зидж ал-Хорезми отнюдь не избежал критики. Первым, кто обратил внимание на его недостатки, был его знаменитый младший современник ал-Фергани (этот факт отметил ал-Бируни). Однако даже если отголоски этих негативных отзывов и достигли Испании, то в очень ослабленном виде, поскольку зидж ал-Хорезми получил в высшей степени восторженный прием. Испания стала стартовой площадкой его невероятно успешной карьеры в Европе. Одним из самых удивительных доказательств жизнестойкости ал-Хорезми является продолжение использования его зиджа в Самарии до XVIII в., а в Каире – вплоть до XIX в. Этот факт документально зафиксирован в свитках, сохранившихся в иудейской Генизе.
Ал-Хорезми написал серьезную работу по алгебре, и, насколько можно судить, слово «алгоритм» на самом деле является производным от его имени; но кроме того, он написал едва ли не самый ранний из дошедших до нас трактатов по применению астролябии в арабо-исламской традиции. Сегодня мы знаем это благодаря единственной сохранившейся копии этого манускрипта.
АЛ-БАТТАНИ
В IX в. «Альмагест» и «Подручные таблицы» стали доступны в арабском переводе, и общее качество астрономической работы значительно улучшилось, поскольку было признано превосходство системы Птолемея. В течение двух столетий после смерти ал-Хорезми мир познакомился с работами пяти великих исламских астрономов: ал-Баттани, ас-Суфи, Абу-л-Вафы, Ибн Юниса и ал-Бируни. Они отнюдь не являлись выходцами из единственного центра интеллектуальной деятельности и работали в таких далеко отстоящих друг от друга регионах, как ар-Ракка, Багдад, Каир и Афганистан. В то время исламский мир начинал распадаться на несколько независимых государств по схеме, которую мы кратко охарактеризовали в начале этой главы.
Ар-Ракка располагался на левом берегу Евфрата, в северной части современной Сирии. Иными словами, хотя ал-Баттани (ок. 858–929) был мусульманином, он являлся уроженцем региона, примыкавшего к Харрану, где еще практиковалась астральная религия при весьма толерантном отношении к ней мусульманских правителей. Поколением ранее приверженцем этой религии стал Сабит ибн Корра.
Именно здесь ал-Баттани составил свой зидж (это, возможно, не самое удачное название для столь капитального сочинения), основанный исключительно на гораздо более развитых методиках Птолемея. Несмотря на всеобщую известность, до наших дней дошел только один арабо-язычный экземпляр этого манускрипта. В середине XII в. этот текст перевели на латинский язык, а затем на испанский и древнееврейский с привязкой уже к иерусалимскому меридиану.
Начиная с Птолемея и вплоть до конца VIII в. лишь считанное число астрономов отдавали себе отчет в том, что их наука нуждается в проведении наблюдений для проверки используемых теорий. В предисловии к своему зиджу ал-Баттани ясно дает понять: он по меньшей мере усвоил эту заповедь, скрыто присутствующую в «Альмагесте», и устанавливает нечто вроде моды на наблюдения. Безусловно, он был не первым, кто осознал насущную потребность в такого рода деятельности. Так, во время правления ал-Мамуна (ум. в 833) некая группа астрономов составила новый зидж, основанный на оригинальных наблюдениях, проведенных в Багдаде и Дамаске, и назвала его «Зидж ал-Мумтахан» («Проверенный зидж»). (На Западе он стал известен под именем «Tabulae probatae» – «Выверенные таблицы».) Во время правления той же династии Аббасидов Хабаш ал-Хасиб (ум. в 862) воспользовался многочисленными наблюдениями планетных положений, а также солнечных и лунных затмений, проведенными в указанных выше пунктах и своем родном городе Самарре. Мы увидим еще много примеров деятельности такого рода, существенной для поддержания астрономии в работоспособном состоянии.
Зидж ал-Баттани был написан в свежем и обновленном стиле, без раболепного повторения изложенного в более ранних работах, и с проявлением особого внимания к последним достижениям, таким как вновь полученное значение угла наклона эклиптики (23;35° вместо неточного 23;51,20° у Птолемея), новое направление апогея Солнца и новые формулы сферической тригонометрии. Он включал краткую характеристику используемых инструментов – солнечных часов с сезонной шкалой измерения времени, нового типа армиллярной сферы, стенного квадранта (то есть квадранта, неподвижно закрепленного на стене) и трикветрума (астрономического инструмента Птолемея, состоявшего из трех шарнирно-соединенных стержней). Его подробно составленные таблицы тоже несли в себе много новых, хотя и не столь явно выраженных сведений; и в то же время некоторые из его объяснений теории планетного движения сделаны на скорую руку и даже содержали ошибки. Но нам следует проявить снисходительность, поскольку, скорее всего, они являлись не более чем свидетельством спешки талантливого астронома.
Он не был первым, кто получил новое значение для угла наклона эклиптики: столетием ранее астрономы ал-Мамуна вывели для этого параметра значение 23;31°, а некоторые другие считали его равным 23;33°. Не был он и первооткрывателем изменений в направлении солнечного апогея. Как стало известно сегодня, еще до него Сабит ибн Корра (или, что тоже возможно, Бану Муса, два состоятельных брата) по счастливой случайности получил несколько лучшее значение для этой величины. Работу ал-Баттани отличало педантичное описание примененных им новых методов, позволяющее читателю оценить качество результатов с учетом точности проводимых наблюдений. В этом отношении она была в целом удачна, и поэтому при получении нового значения эксцентриситета солнечной орбиты (2;04,45 частей – примерно на 3% выше истинного значения для того времени) он значительно улучшил не в меру завышенное значение, приводимое у Птолемея. Кроме того, он ввел существенные уточнения для значений скорости прецессии и продолжительности тропического года.
В определенных кругах средневековой Европы этот зидж пользовался особым влиянием. В середине XII в. его перевел Роберт Честерский – человек, прославившийся первым переводом Корана на латинский язык. Другой вариант перевода зиджа, имеющийся в настоящее время только в одном экземпляре, примерно в это же время сделал Платон Тивольский. Древнееврейские таблицы Авраама бар Хийи представляют собой переработку таблиц ал-Баттани. Кроме того, в XIII в., во время правления Альфонсо X, некий анонимный уроженец Кастилии перевел каноны ал-Баттани. Перечисленные труды, немного отличавшиеся друг от друга по содержанию, не имели широкого хождения, но астрономы, которые, как ал-Бируни, выказывали особое почтение именно этому зиджу, зачастую являлись астрономами высшего ранга. К их числу принадлежали такие ученые, как Авраам ибн Эзра, Ричард Уоллингфордский, Леви бен Гершом, Региомонтан, Пурбах и Коперник. Это было истинным свидетельством высочайшего признания.
ЧЕТЫРЕ АСТРОНОМА И ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА ИСЛАМСКОЙ АСТРОНОМИИ
Если кому-то нужны дополнительные доказательства того, что астрономия рассматриваемого времени вновь задышала полной грудью, то они с очевидностью следуют из появления беспрецедентного числа астрономов с достойной и неувядаемой славой. Рассмотрим четырех человек, относящихся к этому классу, чьи работы являются хорошей иллюстрацией некоторых аспектов нашей темы: ас-Суфи (903–986), Абу-л-Вафу (940 – 997 или 998), Ибн Юниса (ум. в 1009) и Ибн ал-Хайсама (965 – ок. 1040).
Ас-Суфи и Абу-л-Вафа были современниками и оба какое-то время работали в Багдаде, хотя обладали очень разными заслугами. Достижения Абу-л-Вафы носили главным образом математический характер. У нас нет возможности должным образом оценить их на страницах этой книги, но, если прибегнуть к упрощению, то можно сказать, что он ослабил зависимость астрономов от теоремы Менелая (теоремы, выполнявшей функцию математической «рабочей лошадки», раз за разом используемой в «Альмагесте» Птолемея и работах его последователей) и ввел в употребление некоторое количество собственных теорем. Однако, к сожалению, только самые разборчивые читатели обратили внимание на осуществленные им преобразования, и репутация, которую он в итоге приобрел, складывалась через вторые и третьи руки.
Достижения ас-Суфи легче поддаются детализации. В своем сочинении «Книга неподвижных звезд» он взял на себя миссию объединения звездного каталога Птолемея с арабской традицией обозначения звезд и относившейся к ним терминологией, а также предпринял шаги к обозначению точных границ между созвездиями. Изображения созвездий, сделанные в соответствии с его каталогом, вскоре стали каноническими, в том числе и в Европе, хотя набор их регулярно пополнялся. (На ил. 84 показаны примеры восточной и западной традиций изображения созвездий, взятых из исходного перечня Птолемея. Культурные различия не размыли структурного сходства фигур; главные несовпадения относятся, скорее, к стилистическим особенностям их оформления.) Таким образом, ко времени написания Иоганном Байером его «Уранометрии» (1603) в Европе уже ввели в оборот латинизированные арабские наименования звезд, изменить которые было уже никому не под силу. Байер и не пытался делать этого, и хотя с того времени внесли немало терминологических изменений, множество употребляемых сегодня названий звезд имеют косвенное отношение к трактату ас-Суфи.
Ибн Юнис обладал совсем другими талантами. Несмотря на то что он имел завидную репутацию известного поэта и, вероятно, увлекался астрологией, его астрономическая работа во многих отношениях близка к современным стандартам. В молодости он пережил захват Египта Фатимидами и служил двум халифам этой династии, выполняя для них астрономические наблюдения в 977–1003 гг. Свой зидж он посвятил второму из них – ал-Хакиму. Этот зидж отличался наличием отчетов о большом количестве наблюдений, многие из которых позаимствованы у предыдущих наблюдателей. В его распоряжении, как полагают, имелись каирские инструменты. Они обладали очень большими размерами, например кольца армиллярной сферы были столь велики, что сквозь них можно было проехать, сидя верхом на лошади, а астролябия достигала трех локтей в поперечнике, хотя оба эти свидетельства нельзя считать безукоризненно достоверными. Одно несомненно: многие параметры, используемые в его зидже и полученные на основе наблюдений (об их проведении он упоминал очень туманно), значительно превосходили по точности выведенные его предшественниками. Широко цитировалось значение, полученное им для угла наклона эклиптики (23;35°), хотя его установил задолго до него ал-Баттани. В XIX в. Саймон Ньюком использовал некоторые из его отчетов о затмениях для определения векового ускорения Луны.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
См. русский перевод в книге: Афонасин Е. В., Афонасина А. С., Щетников А. И. Античный космос: Очерки истории античной астрономии и космологии. СПб.: Издательство РХГА, 2017. (Все примечания сделаны редактором.)
2
Марк Манилий. Астрономика (Наука о гороскопах) / Пер., вступ. ст. и коммент. Е. М. Штаерман. М.: Изд-во МГУ, 1993.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 3 форматов

