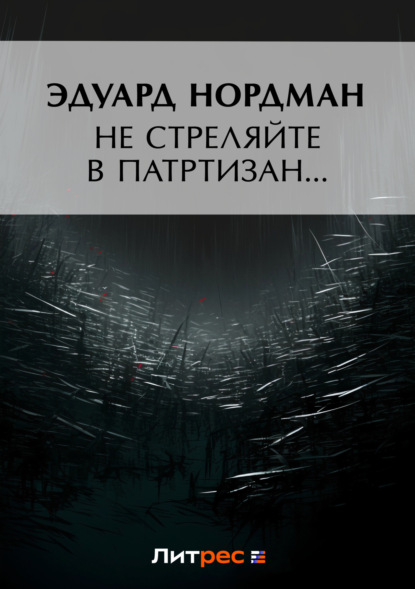 Полная версия
Полная версияНе стреляйте в партизан…
Когда стемнело, пошел в поселок. Зашел в каждую семью, чтобы не выдать Цыганковых, не навести полицаев на след. Нашел Цыганковых. Жена и малые дети за столом. Передал привет от мужа. Сказал, что скоро зайдет повидаться. Для верности назвал еще несколько знакомых ей партизан. Заволновалась женщина:
– Уходи, браток, быстрее. Немцы и полицаи сейчас и ночью стали появляться.
Расспросил дорогу на Долгое, Махновичи – те места, которые я уже знал и куда должен был вернуться отряд.
Вышел на проселочную дорогу, которую указала мне Цыганкова, и зашагал на восток. Ориентир уже был известен. Прошел несколько километров. Ярко светила луна. Шел я по левой теневой стороне дороги.
Вдруг вижу – навстречу идет группа вооруженных людей. Я замер. Значит, напоролся на патруль. Главное не шевелиться, не двигаться, не выдать себя. Присев на корточки, тихо, по-кошачьи отошел от дороги в лес и залег. Группа медленно прошла метрах в пятидесяти от меня. Думаю, что душа моя была в пятках.
Но надо было решать, что делать. Идти дальше? А если за этим патрулем появится другой? Решил, что надо идти, но днем, все-таки видишь обстановку вокруг. Забрался в густые заросли. Спать нельзя ни в коем случае. Боролся со сном, но безуспешно.
На рассвете в полудреме почудилось мне, что идут цепочкой люди. Вижу лица Коржа, Чуклая, Бондаровца. Открыл глаза. Нет, это не они. Идут гуськом – один, два, три… восемь человек. Направились к проселочной дороге. Один вышел на дорогу. Посмотрел влево, вправо, все свернули в лес. Я оцепенел, вжался в землю, только бы не заметили. Потом сообразил: раз не пошли по дороге, а свернули в темный еловый лес, значит, партизаны.
Я побежал в том же направлении, куда пошла группа.
– Товарищи, товарищи! Я свой, свой…
Лес безмолвствовал. Никого…
Потом понял: а может, и лучше, что никто не откликнулся и не вернулся. На мне ведь немецкое снаряжение – ремень, сапоги, ракетница. Расстреляли бы свои. Запросто. Это же был октябрь 1941 года.
Оценив ночные передряги, решил двигаться днем. Прошел всю дорогу спокойно. После всего, что случилось со мной за две эти ночи, бояться было уже нечего. То ли 7, то ли 8 октября подошел к деревне, не знаю, к какой. Лай собак. В крайней хате бабка что-то делает по хозяйству.
– Бабушка, что за деревня?
– Горка.
Ага, значит, справа Долгое, там гарнизон, туда нельзя.
– А немцы в деревне есть?
– Только что вышли со двора. Яйца заготавливают.
Вижу трех немцев-заготовителей, дальше еще человек десять.
Рванул вправо, по кустарнику вышел к пойме. Впереди речка Случь, а там и наш партизанский лес километров через 20–30.
Назад пути нет, справа Долгое, слева Желтый Брод, там немецкая погранзастава. Впереди Случь, там спасение. Болото перед речкой неглубокое, вода чуть выше колен. Немецкие пограничники – в окопах. Рассматривают в бинокль. Не стреляют. Быстрее к Случи! Почему не стреляют немцы?
Наконец-то низкий берег реки. Речка не очень широкая, но глубина достаточная в тех местах, метра три. При моем росте 160 сантиметров.
Догола разделся, в первый заплыв переправил гранаты и вещмешок. Винтовку и патроны оставил на берегу. Второй заплыв – одежда и сапоги, третий заплыв – винтовка, патроны и четыре затвора, те самые. Вода ледяная. Не знаю, сколько градусов, но я тогда холода не чувствовал. Одна мысль – только быстрей в лес. Оделся и в путь. Теперь-то я знаю эти места.
По пути перед Махновичами новый поселок, хат 15 – 20. Здесь живет наш связной, у которого я был на позапрошлой неделе. Опять обошел все дома, чтобы «не расшифровать» человека. У кого спичек попросил, у кого молока, у кого хлеба. Собрал немного хлеба и сала, заодно попал к связному.
Он мне описал обстановку. Немцы и полицаи появляются даже ночью. Убили недалеко в лесу военкома соседнего Любанского района и одного военного. Усиленное патрулирование ведут потому, что появились крупный советский десант и много партизан. Вооружены партизаны пулеметами, автоматами, кто-то видел даже пушки. Целая армия, а впереди партизан в черном пальто. За ним целое войско.
Говорят, в Поварчицах этот партизан ездил верхом на полицейском коменданте и приговаривал: «Будешь служить в полиции, гад…». Люди говорят, такая грозная сила появилась на Полесье. Скоро наши подойдут.
Молву народ сочинил такую, какую хотел слышать. В Желтом Броде и до немецких пограничников эта молва докатилась. Да и командование их уже проинформировало. А в ней правды – только то, что один из партизан в черном пальто был в Поварчицах, а на рассвете пришел партизанский отряд и разогнал полицию. Вот почему немцы не открыли стрельбу по мне. Ждали, что следом за мной пойдут сотни.
Как выяснилось потом, после Поварчиц отряд повернул на Плянту, а затем на райцентр Красная Слобода. Там Корж забрал семью своего погибшего в Испании товарища. Отряд прошел по деревням и 11 октября в пять часов утра форсировал на плотах и лодках реку Случь у деревни Скотомогилы.
А мои злоключения продолжались. Решил идти на Махновичи ночью. Дорогу знаю, иду уверенно. Но что за чертовщина? За мной кто-то идет. Я делаю шаг – и он (воображаемый) шаг. Я два шага – и он два шага. Тихо, ни звука. Опять пошел, и опять за мною кто-то. Залег в кювет, и снова тишина. Оказалось, сам себя пугал. Вечером подморозило, подмерзли полы моего пальто. Я шаг, а полы, как деревянные, издают звук в такт шагам. И смех и грех.
Обошел стороной деревеньку Махновичи, боясь засады. Прошел Грудок, за которым были кладки через топкое болото. На Полесье всегда делали «дорожку» – кладки по топям. Клали по две-три жерди, закрепляли их прутьями из лозы и по этим кладкам ходили. Обязательно с длинной палкой. Сорвешься, и болото тебя засосет. Если никто не поможет, можешь стать покойником.
В темноте я кладок не нашел. Шестом прощупал весь край болота – ну нет, и все. Куда подевались кладки – одна ночь знает. Устал я сильно и замерз. Развел костер, обогрелся. Один бок погреешь, другой замерзает. Не заметил, как уснул.
Крепко спал. Проснулся от холода, яркого солнца и испугался. Испугался тишины и собственной беспечности. Меня же могли голыми руками взять. Наверно, никакой силы воли у человека не хватает, когда валится с ног от усталости.
Утром я нашел кладку быстро. Благополучно перешел топкое болото и двинулся знакомым лесом в район деревни Ходыки. Пришел в старый лесной лагерь, где стояли летом до октября. Лагерь пустовал. Потрогал рукой кострище. Холодное – значит ушли давно. Посторонние, видать, не навещали лагерь. Буданы (шалаши) из ветвей и сена целы.
Как дать знать своим, что я здесь? Нашел пустой бочонок и написал: «Доктор Айболит ушел в гости к летчику Громову». Для постороннего – бред, для наших – сигнал. Эдуард ушел в деревню Обидемля к леснику Добролету. Громов – псевдоним нашего партизана.
Вечерело. Костер разводить побоялся. Забрался на стог сена в центре луговины. Почему в центре? Чтобы можно было наблюдать за обстановкой.
Утром пришел в новый лагерь. Там оставались раненый Григорий Карасев, Змитер Хомицевич, дед Дубицкий и две женщины: Вера Некрашевич и Анна Васильевна Богунская. Обрадовались моему приходу. Принес им поварчицкого хлеба, сала и кусок масла для раненого.
Отряд вернулся на свою базу 12 октября. Я уже три дня был в лагере. Успел с Верой Некрашевич сходить за продуктами в колхоз имени Кирова. От Коржа мне вначале досталось:
– Как же ты отстал от отряда? Сколько мы нервов потратили и времени.
Оказывается, перед Поварчицами Корж остановил сводный отряд на привал. Пересчитал всех партизан, как говорят, «по головам». Одного нет. Кого? Искали среди тех, кто шел в хвосте колонны. А я всегда ходил в голове. Иван Чуклай – за командиром, я – за комиссаром. Долго проверяли, наконец догадались, что нет «доктора» (в то время я был еще и «доктором», но об этом отдельно).
Корж послал группу партизан искать меня. Да кто мог подумать, что я уже в гарнизоне. Кому могло прийти в голову одному идти в полицейский гарнизон! А рядом, в райцентре Старобин, немецкий гарнизон. Правда, потом Корж похвалил все-таки: молодец, мол, не растерялся, не струсил, проявил находчивость, доказал, что безвыходных ситуаций не бывает.
Когда В.З. Корж после войны написал свои мемуары и упомянул об этом происшествии со мной, то рецензент, его друг, Герой Советского Союза Ваупшасов в рецензии написал: «Это чистый вымысел. Такого не могло быть».
Корж возмущался:
– Как не могло быть! Свидетели еще живы.
Прошло более полувека. Я часто задавал себе вопрос: было ли страшно одному в Поварчицах? Нет, пугаться было некогда. Мозг был занят другим. Перед тобой трудности, которые нужно превозмочь. Значит, думай, как это сделать.
Страшновато стало только один раз, когда проснулся утром у потухшего костра около Махновичей. Могли ведь взять меня, сонного, голыми руками. Вот тут-то прошиб меня озноб. Но это было тогда, когда главные опасности остались позади. О том, что могли убить, не думал. Тогда каждый день могли убить, поэтому каждый день мы были готовы и к бою, и к смерти.
Страх – это нормальное состояние человека. Но если со страхом не совладал – то трус. Важно уметь подавить страх. Я был во многих боях, в том числе ночных. Хорошо помню то напряжение, которое овладевало перед самым боем. Но столь же хорошо знаю, что страх пропадал после первых выстрелов. Иногда страшнее тишина.
И еще одно. Спал на холодной мерзлой земле. Трижды переплыл речку Случь при минимальной температуре. Заболел воспалением легких? Нет. Не помню, был ли насморк. Кажется, нет.
Вот тут тоже загадка для мирной жизни. Объяснение одно – выручало напряжение всех человеческих сил. Это, наверное, было допингом. Ежеминутная опасность мобилизовала защитные силы молодого организма.
А все-таки было ли страшно? Когда вспоминаешь теперь, через полвека, становится страшно. Одиннадцать дней – мелочь по сравнению с вечностью. Но сколько раз был на грани смерти за эти дни. Самое тяжелое – муки неизвестности. Где мои товарищи? А что если они уйдут за линию фронта? Как раз в те дни на эту тему шли горячие дискуссии в отряде.
Что я буду делать один? Прятать винтовку и идти наниматься пастухом? Или «подпаском» к солдатке? Впереди зима, первая военная партизанская зима. Ни о чем не думал, кроме одного: как попасть к своим, в отряд.
Один в поле не воин. Но есть старое латинское изречение: «Смелым судьба помогает». На войне, кроме всего, нужны везение и удача. Рассчитанная наглость тоже не помешает.
Прошли десятилетия. Пишу эти строки уже в XXI веке, повидав многое на свете. И размышляю: можно ли профессионально рассчитать риск? Один во вражеском гарнизоне. Один на один со смертельной опасностью. Разоружил четырех полицаев, нагнал страху на весь гарнизон. И без единого выстрела. Уверенность, переходящая в бесцеремонность, пугала противника. Значит, бывает, что и один в поле воин.
Не исключаю, что подобную историю могли бы рассказать и другие партизаны. Особенно те, кто не отсиживался в штабных землянках. Такой образ действий диктовался самой логикой партизанской борьбы. Она состояла в том, чтобы стремглав налететь, неожиданно появиться там, где совсем не ждут, ударить и исчезнуть, раствориться. А через некоторое время возникнуть совершенно в другом месте, снова ударить и снова исчезнуть.
Корж был мастером короткого боя. Кроме того, он часто повторял, что «волк там, где живет, овец не берет». Потому старался водить своих партизан «на работу» в места, отдаленные от постоянного базирования.
Этим отводил подозрение и от проживающего рядом населения. Засады устраивал вдалеке от деревень. Решение о нападении он принимал только тогда, когда был уверен в успехе и в том, что отряд не понесет серьезных потерь. Так действовало большинство командиров.
Для партизан не могло быть геройством вступить в бой, не просчитав результата, и сложить головы. Нет, нам надо было «жалить» часто и успешно, как кобра. Только так можно было укреплять уверенность в себе, создавать соответствующее настроение у населения, поселять неуверенность у врага. Только так мы могли добиться того, что ему везде начнут мерещиться партизаны.
В беспорядочности (с точки зрения классического военного искусства) действий – большое преимущество партизан. В партизанской нелогичности была своя логика.
И Наполеон, и фашистские генералы жаловались, что партизаны воюют не по правилам. По-глупому жаловались. Партизанская тактика и должна изначально отличаться от тактики регулярных частей, действующих на сплошном фронте.
Лобовые атаки на изматывание обороны противника – не для нас. Я просто смеялся, когда во время чеченской войны слышал заявления многозвездных российских генералов, говоривших:
– Масхадов и Басаев – трусы. Они боятся выйти на открытый поединок. Мы бы их тогда…
Мне думалось: «Зачем эти генералы демонстрируют свою неграмотность? Не выйдут чеченские боевики на такой бой и не должны выходить. В отличие от вас, генералы, они изучили теорию и практику партизанских действий». Кто-то может возразить, что боевики – не партизаны в прямом смысле этого слова, а террористы. Да, террористы. Но действуют партизанскими методами. Они воюют не дивизиями и полками, а мелкими группами, стараясь побольнее ударить там, где их не ждут.
Это и есть партизанский подход, который мы накрепко усвоили еще в первые месяцы войны. В отличие от чеченских террористов нам и в голову не приходило заложить взрывчатку на рынке, на который приходят мирные жители.
Если бы первый российский президент Б.Н. Ельцин прочитал хоть несколько книг о партизанской войне, он никогда не принял бы решение начать вооруженную авантюру в Чечне силами регулярной армии. Ведь такая армия не обучалась методам партизанских действий и даже методам противодействия партизанам. У кадрового военного и у партизана даже мышление разное. Я имею в виду военное мышление.
Приведу еще один случай. В 1943 году в конце февраля Пинское партизанское соединение вело тяжелые бои с превосходящими силами оккупантов. Против нас была брошена сорокатысячная группировка войск с танками, авиацией. Пришлось выходить из окружения на запад, в Логишинский и Телеханский районы. Три роты «отряда Комарова» оказались вне этого кольца. Отколовшимся отрядом Корж приказал командовать капитану Николаю Баранову, а я стал комиссаром.
После трудного перехода вышли в Любанскую партизанскую зону. Вывезли и вынесли своих раненых, чтобы самолетами отправить на Большую землю. Люди были измучены до предела. А в штабе Минского партизанского соединения получаем приказ: через сутки атаковать и уничтожить крупный гарнизон в деревне Постолы. Капитан Баранов ответил:
– Есть разгромить гарнизон противника.
А я этот приказ «тормознул» по своему комиссарскому праву. Наступать по открытому полю? Тем более что патронов у нас оставалось на полчаса боя. Да без тщательной разведки и подготовки. Погубим людей.
Вызвали в штаб соединения. Заместитель командира соединения Иосиф Бельский во время словесной перепалки назвал меня трусом и даже пригрозил расстрелом. Я схватился за автомат. Мы уже с 1941 года знали цену каждому, кто трус, а кто нет. Выражения с моей стороны последовали тоже не совсем лицеприятные, лучше сказать – непечатные.
Свидетелем этой схватки стал секретарь ЦК комсомола Белоруссии Михаил Зимянин, кстати, будущий главный редактор «Правды» и секретарь ЦК КПСС. Вот с кем сводила тогда партизанская судьба. Зимянин, человек довольно резкий, попытался меня приструнить:
– Мальчишка, как разговариваешь с заместителем командира соединения?!
Но я стоял на своем:
– Можете меня расстрелять, но на верную гибель людей не поведем. Юзику не подчинюсь. У нас есть свой командир соединения.
Юзика (Иосифа Бельского) я знал с осени 1941 года. Произошло знакомство не в лучшей для него ситуации. Зимянину такой разговор был в диковинку. «Тонкости» наших взаимоотношений ему были неизвестны. Но минчанам он посоветовал свой приказ отменить.
Почему Баранов ответил: «Есть!»? Этот ответ вытекал из ментальности недавнего строевого офицера: приказ должен быть выполнен любой ценой. Почему я сказал: «Нет!»? Потому что любая цена нас не могла устроить. Это мне продиктовал опыт полуторалетних партизанских действий.
На той войне мы вели разные бои. Были и стремительные атаки, и позиционное противостояние, чаще всего характерное для обороны. Бывало, что такое противоборство длилось неделями. Но это стало возможным, когда партизанские зоны уже занимали многие тысячи квадратных километров, а отряды и бригады насчитывали десятки тысяч хорошо вооруженных бойцов.
На первом этапе мы старались нещадно жалить. Но с обязательным точным расчетом сил и возможностей. Мы ставили своей целью выиграть каждый бой. В противном случае предпочитали в драку не ввязываться. И это был правильный подход.
После войны западные военные историки Диксон и Гельбруни написали:
«…Советские партизаны доказали, что тысяча отрядов по пятьдесят человек лучше, чем пятьдесят отрядов по тысяче человек». И добавили: «Ущерб, нанесенный немецкой армией партизанской войной, нельзя определять только числом убитых и раненых и количеством уничтоженных орудий и складов.
К этому еще следует добавить потерю немецкой армией боеспособности и ударной мощи, значение которой трудно оценить в цифрах. Главное состоит в том, что ухудшилось моральное состояние солдат, которые воевали в стране, где каждый гражданин мог оказаться партизаном, а каждый необычный шум – сигналом для начала партизанской атаки».
Излишняя концентрация партизанских сил в одном месте, в одной боевой единице – тоже ошибочна. Особенно ошибочна она была в самом начале нашего движения. По этой причине, я считаю, погиб в сентябре 1941 года Столинский партизанский отряд, в котором базировался и подпольный обком партии.
Тогда по неопытности думалось, что чем нас больше в одном формировании, тем лучше для нас. Оказалось – для врага. Ему ничего не стоило подтянуть хорошо организованные, обеспеченные техникой, потому легкие на подъем регулярные части, окружить и…
Этот вывод подтверждает и более поздний партизанский опыт. Как теперь известно, рейд соединения Ковпака в Карпаты не достиг тогда всех поставленных целей. Ковпаковцев сильно потрепали немцы и бандеровцы. Они потеряли много ценных людей, включая комиссара соединения Руднева. Назад выбираться пришлось разрозненными группами.
Из рассекреченных архивов теперь стало известно, что заместитель наркома обороны Щаденко на первом этапе войны внес предложение о формировании крупных партизанских соединений и переброске их в тыл немцев. В декабре 1941 года было создано Управление по формированию партизанских частей, отрядов и групп.
Предлагалось создать две партизанские армии. Одну на юге из шести-семи кавалерийских дивизий по пять с лишним тысяч общей численностью 33 тысячи. Вторую – из 26 481 человека в составе пяти дивизий на базе ополчений Ивановской, Ярославской, приволжских, уральских и сибирских областей.
Жизнь отвергла эту идею. Армии создать можно. Но как их переправить в тыл врага? Как снабжать их продовольствием, боеприпасами, горючим, обеспечить воздушное прикрытие, которое крупным формированиям просто необходимо?..
Практика войны показала, что любой армии проще разгромить чужую дивизию в своем тылу, чем обнаружить и уничтожить полсотни, сотню мелких боевых групп, неожиданно и непредсказуемо возникающих в разных местах и больно кусающих.
Между прочим, немцы в 1943 году забрасывали в партизанские отряды листовки на эту тему. Использовали логотип «Правды», надпись «Смерть немецко-фашистским оккупантам» и призывали: «Объединяйтесь в крупные соединения. Нечего проводить мелкие бои, они ничего не дают. Будем громить оккупантов, занимать города, железнодорожные узлы и станции. Поможем Красной Армии по-крупному». Была такая уловка, но партизаны на нее не поддались.
Кто-нибудь из более молодых может спросить: «А как же понимать тогда партизанские бригады, партизанские соединения, тысячи людей?» Опять же не надо подходить к этому по-армейски.
Да, партизанские отряды вырастали до бригад, отряды и бригады входили в соединения. Но соединение контролировало десяток и более районов, по которым и были разбросаны отряды. В крупных операциях они действовали сообща. Потом даже со штабами армий и фронтов эти операции согласовывались.
Но на так называемом низовом уровне особенность партизан и отдельных отрядов заключалась в том, что никто не ждал указаний сверху. Они вступали в бой и выходили из боя там и тогда, где и когда им было выгодно. На то они и партизаны, чтобы никакого шаблона. В этом и сила их тактики.
В США, Великобритании, Германии, Франции изучением способов партизанской войны занимаются специальные исследовательские центры. В российской армии этого нет. Потому и «вляпался» Грачев в Чечне. Воевать регулярным войскам против партизанских отрядов – все равно что вилкой суп есть.
Я всегда спрашиваю, можно ли уничтожить блох в квартире большой дубиной. Всю утварь переколотишь в доме и только. Еще Вальтер Скотт писал в 1837 году о мобильности партизан: «Преследовать их – значило бы гоняться за ветром, а окружить их было бы подобно тому, что удерживать воду в решете».
ДРУГАЯ ВОЙНА
Партизанская война имеет свою логику, а эта логика – свое развитие. Зима 1941–1942-го, первая военная зима, была самой трудной для партизан. Она грозила нам тем, что станут проходимыми места, где мы находили укрытие, а каждый след, оставленный на снегу, приведет к лагерю карательную экспедицию. Значит, придется максимально удаляться от населенных пунктов, которые давали нам хлеб насущный, терять связи.
Кроме того, зима выдалась чрезвычайно суровой. Нас, похоже, испытывала не только война, но и сама природа. А мы не имели ни подготовленных баз, ни запасов продовольствия. Ночевать временами приходилось прямо в снегу. Вытаптывали в сугробе траншею и укладывались в нее плотными рядами. К утру из сугробов валил пар, но простуженных или обмороженных не было.
Долго так испытывать судьбу было нельзя. Потому часть партизан склонялась к тому, чтобы на зиму разойтись по знакомым и родственникам. Припрятав оружие, переждать холода, а весной собраться и начать боевые действия заново. На это согласны были многие партизаны из местных жителей.
Другие считали, что надо запастись продовольствием, зашиться в глухомань и тихо сидеть до весны, иначе оккупанты и полиция выследят нас. Не стану скрывать, что некоторые так и поступили.
Случались подобные разговоры и в нашем отряде. Особенно распространены были они среди партизан житковичского отряда, примкнувшего к нам осенью. Это были, в основном, председатели колхозов, председатели сельсоветов. Военного опыта им еще предстояло набираться, но они хорошо знали здешние леса. Часть из них все-таки отделилась от нас.
Корж их особо не задерживал. Они принадлежали не только к другому району, но и к другой области, тогда она называлась Полесской. Мы на них случайно наткнулись потом, во время февральского рейда по Минской и Полесской областям. И снова приняли к себе. Эти люди впоследствии неплохо воевали. Некоторые стали командирами отрядов, один возглавил бригаду.
И все-таки скажу, что та зима стала переломной, притом во многих смыслах. Она была началом перехода уже к другой партизанской войне. Более того, с уверенностью утверждаю, что решающую роль в этом на Минщине, а потом и на Пинщине сыграл наш отряд, в первую очередь его командир Василий Захарович Корж.
Он не был «хнытиком». Он думал, делал выводы и действовал. Неустанно работала отрядная разведка. Почти в каждой записи его партизанского дневника есть пометка: «Ведем разведку во все четыре стороны». Шестым или десятым чувством Корж понимал, что мы не одни, не должны быть одни. И оказался прав.
Василий Захарович был уверен, что кратчайший путь к погибели – это как раз бездействие. И не только потому, что бездействующий отряд начнет разлагаться изнутри, как он повторял, превращаться в банду. И не потому, что рано или поздно зашившихся в укромное место партизан могут выследить. А в первую очередь потому, что такая «тактика» посеет неверие в партизан у здешнего населения и лишит их поддержки.
Он пришел к выводу, что в условиях зимы партизанские отряды надо сделать более мобильными, более маневренными, посадив их на коней и на санные подводы.
– Мы не тараканы, чтобы сидеть в щели, – повторял он. – Пусть у немцев танки и артиллерия. Посмотрим, как они угонятся за нами по лесам и болотам, которые мы знаем, а они – нет.
Нельзя было растерять и того морального подъема, который поселился в нас после разгрома немцев под Москвой. А в декабре 1941 года был огромный подъем, равного которому мне трудно припомнить, перебирая в памяти всю войну.
После перехода в Любанский район Минской области мы обосновались сначала в деревне Нежин, а затем в Загалье. «Комаровцы» заняли большую часть деревни. Штаб разместился в школе, в центре деревни. А рядом расположился отряд Николая Николаевича Розова.

