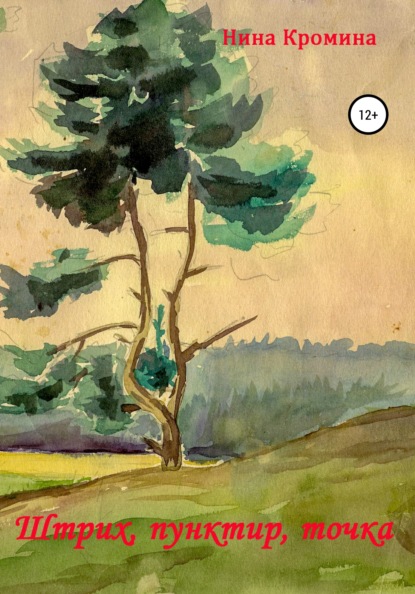 Полная версия
Полная версияШтрих, пунктир, точка
– Как, вы ещё и танцуете?
– Да, – ответила я не без гордости, – у нас танцуют все!
Часть 4
Прогулка по подмосковному лесу оказалась утомительной. Приходилось перелезать через буреломы, обходить поваленные ураганом, объеденные короедом сосны, пробираться сквозь заросшие кустарником поляны, на которых несколько лет назад росла земляника. Деревья казались тусклыми, обесцвеченными. Даже берёзы, потеряв белизну, выглядели скучно-серыми. Досада и раздражение.
Выбравшись на просёлочную дорогу, с тревогой взглянула на тёмные тучи, нависшие над лесом, дорогой. Успеть бы добежать до машины.
Только подумала, а он уже хлынул. С молнией, громом. Неожиданно тёплый, с запахом детства, хвои, тополиных почек, прибитой пыли. Как из ведра! Стекало с волос, струилось по лицу. Промокшая насквозь ветровка, прилипшая майка, хлюпающие кеды. Ощущение наготы, радости, восторга! Подойдя к машине, оглянулась. Сквозь тучи пробивался поток света, и лес, казавшийся уныло-печальным, ожил, зазеленел, розовым полыхнула охра сосен, встрепенулись берёзы, заблестели листья. Такая радость в мире, во мне!
Мемуар 20. Танцы продолжаются!
Девяностые годы прошлого века резали людей. Когда ножом, когда чем-то иным, но всегда по живому. Казалось, вокруг всё рушится: закрывались заводы, научные институты, дорожали продукты. Выдерживали не все. Кто –то выживал …
Иногда, глядя, как к нашему танцевальному кораблю прибивалось всё больше и больше людей, я вспоминала Ноев ковчег. Ещё совсем недавно Михаил писал диссертацию по сверхвысоким частотам, а теперь числился финансовым директором танцевальной фирмы. Моя тёзка, Нина Васильевна, артистка, стала приёмщицей в обувном цехе. Удивлял хорошо поставленный голос, чёткая правильная речь. Не часто такую услышишь. Её сопрано выделялось на фоне стрекота обувных и швейных машин, эхом разносилось по нашему сырому подземелью с запахами кожи, клея, снующих посетителей. Табачный дым окутывал всех и каждого.
Фирма набирала силу!
На Садовом кольце, за «Аквариумом» и «Нехорошей квартирой» открыли магазин! Чёрная стеклянная плитка на стенах. Блеск софитов. Экзотические наряды … Однажды из далёких стран к нам прибыли «перья»: боа страуса, марабу, индюка.
Такая вот невидаль! Теперь диковинами не удивишь: все флаги в гости, а тогда… Слушок прополз и собрал очередь. Как в недавнем прошлом за всем! Хвостом до арки Булгаковского двора… Прохожие недоумевали. Узнав, что «за пером», выпяливали глаза…
Иногда по случайности к нам, офисным, заглядывали покупатели. Как-то вошла в комнату пожилая женщина, с выбившимися из-под платка прядями волос и, обращаясь ко мне, нервно теребя губы, поведала свою историю: «Понимаете, – говорила она прерывающимся голосом, – у меня дочка инвалид. У неё горбик. Такая робкая. Только танцы и спасают, как наряжу её, выйдет на паркет и всё забудет: и о своём несчастье, и о нашей бедности – я, ведь, одна её ращу. Вот скоро опять конкурс, а у нас всё старенькое, поистрепалось…»
Отвела её на склад, там сотрудники отыскали, что подешевле, со скидками. И женщине – радость, и нам: помогли человеку.
Фирма росла!
Прошло несколько лет. Распахнулся новый магазин на Новокузнецкой. Белозальный! Расширенный ассортимент: от накладных ресничек и ноготков, до танцевальных костюмов, струящихся тканей. Танцевальная обувь, фраки, платья…
Часто приходили известные артисты. Помню Гурченко (её сестра жила напротив нашего офиса, переместившегося из подвала на первый этаж), грустная такая женщина… Приходил Пенкин, большой любитель стразов Сваровски, Валерий Леонтьев, победители танцевальных конкурсов, фигуристы.
В те годы (конец девяностых, начало нулевых) каждое подразделение нашего «клондайка» набирало обороты. В швейное ателье потянулись театры, цирк, модельеры.
Здесь я впервые встретилась с увлечёнными своей профессией театральными художниками. Теперь они могли воплощать свои замыслы в жизнь! Ещё бы ведь всё в новинку! (Не зря Татьяна Романова, наш главный специалист по тканям, выпускница московского текстильного института имени Косыгина, летала по самому бюджетному варианту на парижские и миланские выставки тканей!) Да, из них можно шить то, о чём раньше только мечтали! Дать волю своей фантазии, реализовать планы! Помню с каким восторгом рассматривала, мяла в пальцах ткани художник по костюмам Светлана Лагофет! Правда, иногда всё-таки морщила нос: «Все костюмы должны соответствовать замыслу, иначе потеряется идея. Я не могу заменить эту ткань (требовательным жестом пальца она указывала на картинку в каталоге) на эту. Она мне нужна сегодня! Вы понимаете?» Я понимала, но что можно поделать, если поставка ожидалась лишь на следующей неделе. А таможня? Таможня решала всё! Увы, всегда находилась какая-то неточность в документах и требовался особый дар, чтобы доказать, что всё законно. Особенно сложно это оказалось со стразами Сваровски. Сейчас кажется странным, но в конце девяностых таможня уверенно заявляла, что это бриллианты, и они всех посадят за контрабанду. А наш сотрудник, Леонид Гораз, чиркал образцы бритвой, пробовал их на зуб и всё-таки выцарапывал драгоценные коробки из клешней блюстителей. Леонид, сотрудник коммерческого отдела, в те годы худой и юркий, носился по Москве со скоростью разбушевавшегося урагана. Таскал на себе неподъёмные рулоны тканей, успевал сделать то, что не мог бы сделать никто другой, даже такой опытный специалист, как Анатолий Воронин, начавший работу на фирме сразу после окончания школы. К концу девяностых он мог дать фору любому. Анатолия устроила на работу бабушка. Она долго сетовала на нежелание внука продолжать образование, и, глядя в окно, всё думала, к чему бы его приспособить. Она наблюдала, как по двору то пробегают, то степенно проходят «фирмачи» и однажды, спустившись со своего этажа, уверенно вошла в кабинет руководства… А днём позже, перекрестив внука, отправившегося челноком в вояжный тур за товарами, раздумывала: хорошо ли поступила, определив внука в этот балаган, вернётся ли из боевого крещения… Да, так в те времена из мальчиков вырастали мужчины…
А как-то зимой в комнату, где я познавала премудрости танцевальных товаров, ворвалась молодая, лет тридцати женщина, растрёпанная, несуразная, в курточке до пупа. Представилась. Мари-Роз-Женевьева. Прежде, чем она нашла то, что принесла, вывалила из рюкзачка на стол паспорт, кошелёк, мобильник – плохенький, один из первых. И всё лопочет, лопочет. То по-русски, то по-французски, то по-английски. И всё, о том, как болен её первый муж Жак-Пьер-Жан (они ещё в Сорбонне вместе учились), и как она, уже после развода, «однажды ехала в РЭРе, ну, это такая парижская электричка, вроде вашей пригородной, только подземная, и встретилась там с Анной, ну, мы с ней тоже вместе учились, она-то и рассказала про Жака. Я к нему в больницу. Ой, как же он плох. Почти без тела, зелёный, на лечение надо очень много денег».
С этими словами она вытащила куски тканей невиданной красоты: красный кружевной орнамент на чёрной сетке, белое на белом, золотое. Вот, говорит, купите у меня. Деньги очень нужны.
Наши специалисты по тканям, продавцы, художники-модельеры налетели и в один голос:
– Да, нужно, очень нужно. Вы смотрите, какое чудо.
И вот она, эта француженка, стала чуть ли не своей. Ей по распоряжению нашего хозяина выдавали деньги под будущие отрезы, которые она привозила позже или передавала через кого-то с оказией…
Много всяких и не всяких заезжало, залетало, приходило. Помню группу разнузданных в золотых цепях, оголённую даму, пистолет…
Иностранные партнёры, посещая торговый дом «Танцуют все» в его славные дни, открывали рты от изумления и зависти. Так всё клокотало! Поминутно входили всё новые и новые покупатели, казалось, что никто не уходил с пустыми руками.
Организаторами этой, я бы сказала танцевальной империи (поскольку потекли товары из заморских стран по всей новой России, добираясь до северных и восточных её пределов) были молодые мужчины-танцоры, тёзки, хорошо разбиравшиеся в тонкостях танцевальной атрибутики. Под их руководством всё бурлило, работа радовала напором, энтузиазмом. Вскоре один из них, плотный, крупный, шумный, Дмитрий (назовём его Дмитрий первый, поскольку именно он построил фундамент) уехал в Америку. Дело продолжил невысокий, худощавый, шустрый Дмитрий, Дмитрий второй. Он умел собрать вокруг себя людей, обаять зарубежных поставщиков, вкладывался по полной в развитие фирмы. Кипение продолжалось. Под его приглядом бегали, суетились, конкурировали, писали, переводили, открывали новые возможности, обретали новых компаньонов.
Первая жена Дмитрия второго, которая время от времени появлялась на фирме, сетовала, что живут они скромно. Да, судя по его спортивной шапочке и многолетней курточке, видимо, так и было.
На наших глазах в семейной жизни Дмитрия произошли изменения. Его вторая жена, потребности которой казались более амбициозны, чем первой, не только вошла во все дела, но и решила бытовые проблемы совместной жизни. К сожалению, Дмитрий вскоре после вступления во второй брак умер. После его смерти хозяйкой небольшой части бизнеса стала вторая жена. По воле судьбы я оказалась под её руководством. Потекли скучные пустые дни. Ни былого размаха, ни перспектив. Из финансовых директоров Михаила перевели на безымянную должность – всё и ничего. Я бы сказала порученца. Меня сначала подержали на прежней должности менеджера, а позже спустили до эйчара (раньше бы сказали «кадровички»). Но кадров становилось всё меньше, работа безотрадней. Забравшись по крутой, трапом, лестнице, попадала в свой отсек, где переставляла папки с уже никому не нужными бумажки и предавалась тоске.
На помощь пришла литература.
Мемуар 21. От танцев к литературе.
От Новокузнецкой до Тверского бульвара, где в известном особняке на кожаном диване родился Александр Иванович Герцен, рукой подать. Вот туда я и отправилась в августе 2009 года. Опустошённое суетой и разочарованием «Я» требовало обновления! На Тверском, 25 моё сердце, обретя новое пристанище, и ожило, и возрадовалось. Тени известных писателей и поэтов витали в коридорах Литературного института Горького, аудиториях, читальном зале. Это создавало ауру! Когда-то некоторые из них здесь блистали на вечерах или заседали в президиуме, а кто-то ютился в каморках советского общежития. Двадцать лет прожил во флигеле, ставшим отделением заочного отделения института, Андрей Платонов. В комнате, Платоновской аудитории Литинститута, где проходили творческие семинары, его портрет висел так, что входящие чувствовали на себе взгляд писателя. Добрый, умный, немного печальный. Здесь, в Литературном институте имени Горького, в возрасте шестидесяти трёх лет, я стала студенткой, вернее слушательницей, так называли нас, обучающихся на Высших литературных курсах. Старше меня был только прозаик Виктор Петрович Слинько (Славянин), к тому времени публикующийся автор. Начинал он в семидесятых, даже учился в Лите, но что-то у него с институтом не срослось (как я понимаю у Виктора Петровича с советским строем не всегда случались совпадения). И вот теперь он навёрстывал!
Догнать его никто не смог.
Многие остались в малой прозе, а он шагнул в роман «Время незамеченных людей».
Первые встречи с Виктором Петровичем меня обескуражили. Большой, шумный! Казалось, что существует только он! Кто-то, глядя на него, жался по углам, кто-то вступал в жаркую дискуссию. Как ему хотелось передать нам своё мастерство, азарт писательства! «Три часа писать, три часа читать. Чехова, Чехова». – Напутствовал он. Или вопрошал: «Идея, идея. Где у вас идея? … Что вы пишете «дерево»? Дерева вообще у писателя не существует. Какое дерево? Берёза, сосна?» … Забегаю вперёд: позже, когда в 2019-м я и Елена Яблонская дерзнули организовать группу Литературная лаборатория «Красная строка», Виктор Петрович не только поддержал нас, но и стал активным участником встреч. Его проект «Почему так, а не иначе» мы продолжаем и сейчас, приглашая авторов наиболее интересных произведений. Как-то на одной из встреч я познакомила Виктора Петровича с рязанской писательницей Лидией Терёхиной. Прочитав её рассказ, он воскликнул «Талант, какой талант, но без огранки» и тут же вызвался помочь, дать несколько уроков (обратите внимание – бесплатно). Я возила Лидию к нему, а потом началась их переписка… Просматривая записи с его выступлениями, я невольно сравниваю поведение знакомых мне людей раньше и сейчас, в год пандемийный. «При написании произведений обратите внимание, – говорил Виктор Петрович, – как меняется психология и поведение людей в периоды несчастий, покажите это!» Да, да, как же он прав: вот соседка c первого этажа, она ли не холила садик под своими окнами? Сад непрерывного цветения. С раннего утра она то с граблями, то с лейкой. Как она любила рассказывать о своих цветах. А теперь? Уже второй год не открывает окна, чтобы выйти на улицу и речи нет. Зашторенные окна и только узкая щель – форточка. И заброшенный, заросший садик… Увы, я могла бы привести здесь много примеров…
Руководитель нашего семинара писатель Андрей Воронцов, ощущая талант Виктора Петровича Слинько (Славянина), лишь иногда, смущённо улыбаясь в усы и бороду, делал замечания при обсуждении его текстов: «Ну. это ты уж, Петрович, слишком…»
Честно говоря, если по какой-то причине Петровича вдруг не оказывалось на обсуждении, многие, в том числе и я, с облегчением вздыхали. Был горяч и справедлив! Под его взглядом съёживались. Как ни странно, меня он упрекнул лишь однажды, за то, что в моём рассказе рыжий метис лайки лежал на кровати в ногах у ребёнка. «Вы, хоть, понимаете, что пишете, – гневался он, – такого просто не может быть. Не верю!»
Особые отношения складывались у Виктора Петровича с молодёжью. Они к нему льнули. И те, которые с нами учились, и те, которые приходили на встречи.
Так совпало, что сейчас, когда я добралась в своём нон-фикшн до воспоминаний о Викторе Петровиче, наша литературная группа, которая по счастью не распалась после окончания ВЛК, готовится к дню его памяти. Он ушёл несправедливо рано, не закончив своей лебединой песни. Ему, по генетическому коду его предков, следовало жить лет до ста.
Мне кажется, что наша однокашница поэт Юля Великанова в своём эссе о Викторе Петровиче Слинько (Славянине) сказала так хорошо, так образно, что не могу не привести её текст полностью.
Юлия Великанова. Правда о человеке
10 августа 2021 года ушёл из жизни писатель и педагог, член Союза писателей СССР и России Виктор Петрович Слинько – Виктор Славянин.
Мне повезло учиться вместе с ним в 2009–2011 годах на Высших литературных курсах при Литинституте имени Горького. Вслед за этим организовалось Литературное объединение «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России. Его возглавил писатель А. В. Воронцов. Все эти годы Виктор Петрович был постоянным участником встреч, мы обсуждали его произведения, также он нередко высказывал своё мнение о произведениях других «точкинцев».
И вот стало известно, что он ушёл. Не от серьезной и продолжительной болезни, которой, как все мы знали, Виктор Петрович страдал. «Страдал» – не то слово, нет. По крайней мере, страданий своих он никак не выказывал, это точно.
Рассказали, что случилось это быстро и страшно. Вдруг на даче упало давление, до нереальных цифр – 60 на 40. Отвезли его в больницу в Боровске. Там ему стало лучше. В больнице ему не понравилось, он вернулся на дачу.
А потом, когда снова стало плохо, уже – в Москву, в Склиф, и – не удалось спасти.
И ушел, выходит, в сильном внутреннем протесте. Мне кажется, Виктор Петрович во многом был из этого протеста. Очень честного и очень сильного.
Та правда, которую он хотел и не мог не рассказать в основных своих произведениях – его тема – многим не нравилась. Она нарушает наши представления, мы привыкли к другому взгляду на историю страны, на Великую войну.
Кажется, что в наши «новые» времена мы отчаянно хотим правды. Но, выходит, что всей правды мы по-прежнему не хотим.
В разговоре-интервью, который я успела записать, Виктор Петрович объяснял, что много так называемых военных книг написано на самом деле не о войне. Многое написано поверхностно, без глубинного знания. Да и без внимания к человеку, без правды о человеке.
Важнее всего для писателя Виктора Славянина – человек. Правда о человеке.
Он объяснил верность своей теме так: «Оно пишется в память безвинных, забытых, убитых ни за что людей. Кто-то же должен о них писать! Я не могу не писать. Оно мной владеет».
Нельзя забывать, что точка зрения, убеждения могут и должны быть разными. Читаю тексты Петровича (для нас, «точкинцев», он был Петрович) и слышу честный голос. Голос, которому нелегко было прозвучать. Но он звучит.
Автор изучал материал, много материала. Погружался в эпоху. Искал факты. Искал доказательства своим личным воспоминаниям и своему взгляду на историю.
Как бы там ни было, твердая четкая позиция, помноженная на несомненный талант и огромную работоспособность, достойны только уважения и заслуживают честного непредвзятого вдумчивого чтения. Знать надо!
Мы были однокурсниками. Мы, можно сказать, дружили. Были в одной компании, хотя учились на разных семинарах. В память о Петровиче-человеке я приведу три эпизода.
Эпизод первый. Весёлый.
Как-то вечером забрели мы – первокурсники ВЛК – в аудиторию второго курса.
Там с ребятами отмечал некий праздник жизни очень почитаемый и любимый мною покойный уже Алексей Константинович Антонов. Педагог и поэт, прозаик, теоретик. Важный человек в судьбе многих беспокойных литературных душ.
И вот стали знакомиться. Одно дело – лекции, а тут – неформальная обстановка. Алексей Константинович спросил Виктора Петровича: «А вы – кто же будете?» Ведь годы Петровича были солидными даже для Высших курсов, где учились люди взрослые. И вдруг у Петровича вырвалось: «Я – Дюма-внук».
Эта штука как-то у нас прижилась, он письма свои электронные так подписывал. Иногда мы вспоминали об этом «псевдониме» при встрече.
Эпизод второй. Жизненный.
У нас был однокурсник из Узбекистана Вафокул Файзуллаев. Известный теперь у себя на родине поэт Вафо Файзуллах. Мы все вместе ходили после лекций в Макдональдс – Виктор Петрович, Вафокул, поэт Владислав Цылев, прозаик Гульнар Мыздрикова и я.
И вот однажды в институте подходит ко мне встревоженный (редкость) и громкий (это всегда) Виктор Петрович и шепчет в голос: «Узбек-то ваш скоро с голоду помрёт… Ты только посмотри на него…» (точка не нужна)
Вафокул жил в Москве в общежитии, и даже стипендии ему не полагалось. На какие средства жил, можно только гадать.
В общем, даже для правоверного мусульманина, соблюдающего все обряды, Вафокул выглядел слишком уж худым и болезненным.
Петрович велел срочно собрать денег (я была старостой) и обещал гордому человеку эту матпомощь впихнуть – что было самым сложным. Насколько я помню, – ему удалось…
Эпизод третий. Последний.
Мы встретились в декабре 2020 года на Курской, возле метро, по дороге на очередную встречу «Точек» в библиотеке Юргенсона.
Планировалось обсуждение произведений молодой писательницы из Смоленска и разговор о второй части романа-эпопеи Виктора Петровича «Время незамеченных людей».
Мы пошли на автобус. Ходить пешком ему было, конечно, непросто.
Разговорились о предстоящей встрече. Времена у нас смутные, карантин, полукарантин. Запреты, частичные запреты. Собираемся в библиотеке, и в прошлом учебном году наши традиционные фуршеты в конце каждой встречи пришлось отменить – запрет.
Петрович говорит: «Я свою традиционную фляжку прихватил». (В ней домашняя настойка, крепкая, он ее дома под столом держал, в огромной бутыли). Кажется, традиционного пирога с капустой в тот раз при нем не было. Пирог его ручной работы, которым он не раз нас угощал, был выдающийся!
Говорю ему:
– Так и так, сегодня посидеть не дадут. Сухой закон на новый лад. Пандемия.
– А это, Юля, всё как Бог даст. Понимаешь? Не захочет Господь, значит, всё по Его будет…, – такой был ответ. Неожиданный.
От него было странно слышать такое. Он всегда был предельно земным, балагуром, остряком. В эссе пару лет назад я назвала его «весёлым хулиганом».
И вдруг – «воля Божья».
Запомнилось это.
Часто рассказывал Виктор Петрович о своих учениках (занимался с ними частным образом). И ведь с пользой! Андрей Лисьев, «точкинец», который уже после ухода Виктора Петровича «признался» в соцсетях, что был его последним учеником, сейчас делает большие успехи на писательском поприще. Думаю, что это – не без влияния творческой мастерской, пройденной с Петровичем.
Помнится, Петрович неоднократно критиковал принятую в Литинституте систему обучения – общие обсуждения в семинарах. Это очень мало даёт. Недостаточно. Надо больше практики: каждый достойный текст вместе подробно разбирать, – ведь важны детали, знание предмета и многое другое, что нужно понять ученику о писательском мастерстве.
Всё сетовал: «Пишут-пишут, вроде, учатся, а никак не поймут, что такое литература»…
Сам постоянно много работал. В последние годы он писал каждый день, с 10 до 17 часов. Норма – три готовых листа в книгу в день. Первая часть романа “Время незамеченных людей”, опубликованная в журнале «Невский проспект», вошла в длинный список премии «Ясная поляна-2021».
Красивый был человек. Неудобный многим. Прямой и честный.
Резко всё выскажет. Но только, что касается творчества, никогда не переходя на личности. А потом сам к раскритикованному подойдёт, нальет, тост поднимет и пилюлю свою смягчит. Начнет советы давать – как писать лучше. Да разве ж кто слушал внимательно!? Так всё, в шутку переводилось, в застольный трёп.
Надеюсь, что многое всё-таки отложилось, посеялось в нас. И даст свои всходы.
Этим летом я осиротела. Если ушедшая 14 июля поэт, критик и педагог Людмила Вязмитинова была моей литературной мамой, то Петрович, так выходит, был моим литературным отцом. Верил в меня, я это помню. Не забуду, как однажды получила от него творческое благословение.
«Дюма-внук», отпрыск плодовитого и талантливого семейства французских романистов – это всего лишь остроумная шутка, конечно. У него ведь и псевдоним был – Славянин. Любил. С болью. С тяготой. С протестом.
Трудным патриотом был Виктор Петрович Слинько. Виктор Славянин.
Настоящий писатель, с чьим творчеством ещё предстоит познакомиться широкому читателю.
Много было тёплых дружеских застолий, много мудрых тостов. Запомнился такой – всем нам на память о Петровиче: «За то, чтобы вы в себе искали талант человеческий!»
Я буду искать! И – помнить.
14 августа, 6:55, побережье Средиземного моря,
Аланья-Манавгат, Турция
Из моего дневника:
11 декабря 2021. Вчера наши «Точки», как обычно в последнее время, собрались в Нотной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Встреча была грустной и душевной. Посвящена памяти Виктора Петровича и Игоря Чичилина.
Андрей Венедиктович, в тёмном костюме, при галстуке, в своём выступлении упомянул, что в последнее время от коронавируса и его последствий ушло много людей из его окружения. В адрес Виктора Петровича сказал много умных, добрых слов, поделился своим воспоминанием о том, что, когда Виктор Петрович пришёл на его семинар Высших литературных курсов, то он оказался в сложном положении. Перед ним, среди молодых и относительно молодых ещё неопытных авторов – состоявшийся писатель, член Союза писателей России. Пришёл учиться в возрасте шестьдесят семь лет! «Это заслуживает уважения! В начале в художественных произведениях Виктора Петровича было много публицистики, но позже углубился в художественность, что придало текстам бо′льшую достоверность. Без него «Точки» мало представимы, он понимал и поддерживал атмосферу дружбы, любви. Человек прямой, честный, не терпящий хамства (случись что, мог и ударить). Внешнее (высокий, кряжистый) соответствовало его внутреннему. То, что принёс в наше содружество, память о нём, надо сохранить.»
Катя Осорина, в тёмном костюме и яркой кофточке, прямая спиной и лёгкая в словах и жестах, выступала после меня, сказала, что Виктор Петрович у каждого свой. Она всегда будет помнить его внешнюю неординарность, как он входит в аудиторию, вальяжный, внимательный к женщинам. «Но одновременно с этим – злобный критик. Когда обсуждали очередное произведение, часто говорил: «Я прочитал это с большим интересом и это отличный пример того (пауза), как не надо писать».
Всё в Викторе Петровиче было классно, к месту!»
Евгений Касаткин, тоже в чёрном. Он всегда в чёрном, думается, что это его сценический образ, ведь он артист театра «Голос». Мне кажется, Евгений сказал самое главное. О том, что с уходом этого человека ушло что-то огромное, большое, заполнявшее пространство, в котором мы существуем. «Мы ещё не до конца осознали насколько осиротели. С нами остаются его книги и наша память. Меня всегда поражала в Викторе Петровиче его потрясающая харизма, фактурная внешность. Мимо таких людей нельзя пройти. Когда впервые увидел его, решил, что это маститый писатель. Я восхищался им, его артистизмом. Говорил всегда интересно, не разбрасывался словами, каждое слово весомо, грубо, зримо. Умел себя поставить, заставить себя слушать. Личным примером учил нас относиться к слову с уважением, обращать внимание на детали, подчёркивал, что из них состоит правда жизни, отношений, характеров. Жизнь конкретна и это надо отражать в литературе. Этот урок я запомнил на всю жизнь…



