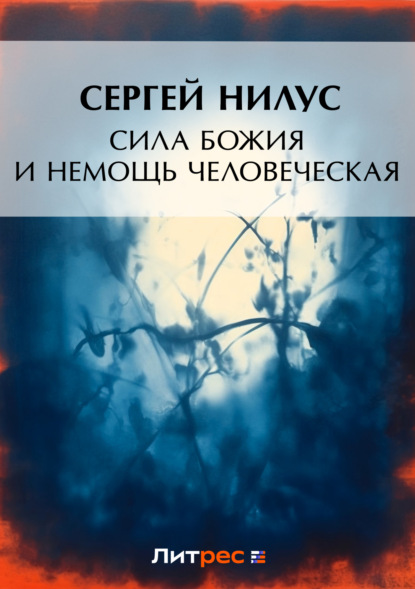 Полная версия
Полная версияСила Божия и немощь человеческая
XIII
Но несмотря на мое подвижническое усердие, моя мечта побывать в Киеве грозила так и остаться мечтой. Тогда я решился прибегнуть к хитрости, чтобы, так или иначе, а уже поставить на своем и развязаться с моим тоскливым житием на мельнице. Отправившись раз на охоту с ружьем, я забрался на середину того большого озера, о котором говорил выше. На самой середине озера был остров, поросший густым камышом; туда можно было, хоть и с трудом, добраться по песчаным отмелям, которые мною были изучены в совершенстве. Под шелест камыша я всесторонне обдумал свой рискованный план и решил, во что бы то ни стало, привести его в исполнение. Нужны были терпение и воздержание, а этому меня научили муравьиные кучи. Залег я на своем острове и стал ждать, когда меня взыщутся на мельнице, а тогда, сказал я себе, дело видно будет. Так и просидел я до самого солнечного заката.
А между тем дома, на мельнице, меня хватились. Ждали к обеду, меня – нет; ждут к чаю, – я все не возвращаюсь. Стали расспрашивать у всех, – не видали ли где меня? Узнали, что я очень рано поутру ушел с ружьем на охоту. Давно уже мне была пора вернуться, а меня все нет. Родитель мой сильно встревожился и стал просить помольщиков, чтобы они сели верхом на лошадей и объехали бы окрестные места – по реке, в лесу, у большого озера – словом, объехали бы всюду, где можно было рассчитывать меня найти живым или мертвым. Сочувствуя родительской тревоге, помольщики сели на своих лошадей и разъехались в разные стороны, и вскоре вся окрестность в разных направлениях огласилась криками:
– Фединька, Фединька! Где ты? Откликнись нам!
А Фединька, затаив дыхание, с трепетно бьющимся сердчишком, чувствуя в глубине совести, что творит не совсем что-то ладное, притулился на острове и из его камышей ни звука не подавал в ответ на отчаянные вопли помольщиков. Тем временем солнце уже почти закатилось, темнело, и мне на пустынном острове оставаться долее становилось жутко, и я, выбравшись из камыша, встал так, чтобы меня можно было увидеть с берега озера, с которого до меня долетали оклики разосланных за много гонцов. Меня вскоре заметили, и с криком: «Вон он! Вон он – на острове!» – ко мне по воде, верхом на лошади подъехал один из помольщиков, усадил с собой на лошадь, и все радостно вернулись на мельницу.
Как обрадовался мне мой бедный, перепуганный родитель!.. Он бросился ко мне, осыпая меня вопросами, но я молчал, как воды в рот набравши: я решил притвориться помешанным… Еще более перепугался мой родитель и послал за священником, который жил от мельницы саженях в двухстах, близ церкви, за рекой Терсом. Пришел вскоре священник и начал со мной говорить, а я в ответ понес всякую чепуху, и все решили, что я сошел с ума, или объевшись какой-нибудь вредной травы, или еще по какой-либо неведомой причине. Велико было горе моего родителя! Тем не менее надо было на что-нибудь решиться, и по общему совету решено было меня запереть в чулан, где я… преспокойно и преприятно проспал до утреннего чая. К этому времени пришел опять священник, и родитель мой, отперев дверь чулана, позвал меня пить чай… На стене чулана висела сабля, купленная родителем у какого-то прохожего солдата.
На зов родителя я, как настоящий сумасшедший, быстро вскочил с кровати, схватил со стенки саблю и бросился к двери, где стоял родитель, замахнулся на него саблей. Он быстро отскочил прочь… Я вновь и уже изо всей силы размахнулся и ударил саблей по двери, да так рубнул, что отколол половину дверной доски… Вслед за этим я заорал, что есть мочи: «Вот я вам дам!» – и понес такую околесную, что меня схватили и опять заперли в чулан… Никто не мог понять, что это вдруг со мною сделалось.
В это время приехал к нам на мельницу из Камышина двоюродный мой брат, Трифон Моисеевич, служивший дистанционным поверенным по откупу. Он ехал в Балашов для получения нового паспорта. Все ему обрадовались – в надежде, что он поможет определить, какая такая приключилась со мной душевная немочь, и рассказали ему все, что произошло. Он пожелал меня видеть, сам пошел за мной в чулан и, поздоровавшись, позвал меня пить чай. Я вышел из чулана довольно спокойно и сел за чай, молча прихлебывая из блюдечка, а потом опять, ни к селу, ни к городу, понес разную чепуху… Увидев, что мое душевное состояние нисколько не изменилось, родитель мой стал просить приехавшего брата свезти меня в Балашов, к матери, и все в один голос нашли, что меня нельзя в таком положении оставлять на мельнице, где я могу или изуродовать себя, или утонуть. Этого мне только и было нужно.
Родитель мой написал к матери письмо, и меня с письмом брат свез в город. Я выдерживал характер и все представлялся помешанным.
В городе меня не решились держать в доме, а сдали на попечение тетке, уже пожилой девице, сестре моей матери, жившей во дворе нашего дома, во флигеле, и помогавшей матери по домашнему хозяйству. Вот в этот-то флигель и заключили меня до времени, и тетка приставлена была ходить за мной. Она меня навещала в моем заключении и носила пищу. Я продолжал вести себя, как помешанный.
Уж на что умен был и проницателен дядя мой и наш благодетель Фока Андреевич Скляров, о котором я уже упоминал раньше, и того я ввел в заблуждение: он, как и прочие, поверил моей душевной болезни и посоветовал матери вызвать доктора. Сами Ковалевы, наши хозяева, приняли участие в нашем семейном горе и послали свою лошадь за доктором в село Падов, написав ему от себя письмо. Приехал доктор, осмотрел меня, пощупал пульс, посмотрел язык, оглядел меня пристально, пожал плечами и поставил такой диагноз:
– Ничего особенно я в нем не нахожу. Со временем он придет в нормальное положение и будет здоров. Вы старайтесь ничего ему наперекор не говорить и развлекайте, чем можете, чтобы он был весел. Все пройдет со временем.
Поистине, для моих целей лучшего определения болезни сделать было нельзя!
С отъезда доктора маменька моя несколько успокоилась на мой счет и стала меня навещать во флигеле, а то прежде ходить боялась, да и горе ее было слишком велико. Я стал понемногу с ней разговаривать, иногда даже, как совсем здоровый, и однажды, подметив в ней доброе расположение духа, сказал:
– Маменька! Отпустите меня в Киев для поклонения святым мощам Печерским: я дал обет, что если вскоре выздоровею, то пойду в Киев в благодарность Матери Божией за мое исцеление. Верите, маменька, что если вы меня отпустите, я вскоре буду совсем здоров, а – нет, то я умру, мамаша!
На это мать ответила со слезами:
– Милый мой Фединька! Не в моей это воле – вот как отец согласится?!
– Да вы только, – сказал я, – от себя его поусерднее попросите: он вашу просьбу и желание, наверное, исполнит. А иначе, скажите ему, что я могу умереть. Ну что такое – отпустить меня недель на шесть не более?! И я вернусь к вам – за молитвы Богоматери и святых чудотворцев Печерских – здоровым.
Маменька пообещалась отпросить меня у отца, и – слава и благодарение Господу! – желание мое и просьба матери были отцом уважены.
Надо ли говорить, что я тут же и выздоровел!
Через несколько дней я уже отправился в путь к Киеву – пешком, с попутчиками-богомольцами из нашего города.
XIV
И вот я – в Воронеже у раки святителя Митрофана, у Иоасафа – в Белгороде, у святого Афанасия Сидящего – в Лубнах, у святого Макария – в Переяславле, у Чудотворной Иконы Божией Матери – в Ахтырке, – и всюду – один: со своими земляками я простился в Воронеже – дальше они не пошли. Наконец, достиг я и цели своих пламенных желаний. Солнце уже было на закате, когда я, мокрый от сильного дождя, застигшего меня неподалеку от лавры, усталый, дошел до святых ворот великой обители. Вечерня только что отошла, и богомольцы толпами расходились в гостиницы. В святых воротах мне встретился инок, остановился, взглянул на меня и неожиданно меня спросил:
– Откуда ты, мальчик?
– Из Саратовской губернии, из города Балашова, – ответил я.
– Что ж, есть у тебя здесь кто-либо из иноков знакомый?
– Вы, – сказал я, – святой отец, первый мне будете знакомый: я здесь в первый раз и никого не знаю.
– Тогда, – сказал он, – иди, брат, ко мне в келью – у меня и переночуешь. Поужинаем с тобою, а наутрие там, как Бог благословит…
И привел меня в столярную, где у него была и келья. Обласкал он меня, как отец родной, угостил ужином и уложил спать, сказав:
– Отдыхай, брат! А завтра пойдем к ранней обедне.
Можно ли выразить словами или описать, с какою радостью и восторгом вошел я в первый раз в главный соборный храм Успения Богоматери? Понять волновавшие меня чувства может только тот, кто хоть раз в жизни от всего своего сердца, от всего помышления, от всего существа своего возносил пламень своей молитвы к Богу…
Когда я, после поздней Божественной Литургии, подошел в числе прочих богомольцев к святой иконе Успения Богоматери, чтобы приложиться, я ощутил от нее такое благоухание, какого ни прежде, ни после уже более не обонял, но это не было благоухание розового масла, которым обычно умащают святые иконы, это было что-то такое чудное, с чем никакие запахи самых благовонных цветов сравниться не могут, и душа моя исполнилась восторга неземного.
Прожил я в лавре в гостинице более двух недель, как одно блаженное мгновение.
Каждый день ходил в Пещеры к ранней обедне, и меня стали знать Пещерные монахи. Один из них, расспросив меня, чей я и откуда, поручил мне с ним вместе ходить со свечкой в руках – передовым с богомольцами, читать для них вслух надписи на гробницах угодников. И я ходил, весь объятый трепетным восторгом, возглашал громким голосом святые имена тех, которых весь мир со мною вместе недостоин, клал земной поклон перед каждой гробницей, прикладывался к святым мощам со словами «святый преподобный (имя рек), моли Бога о нас», то же внушая делать и остальным следовавшим за мною богомольцам. Это добровольное и неизъяснимо для меня радостное послушание я нес почти каждодневно… О, святое, благословенное и на всю мою жизнь незабвенное время!..
Пришла, наконец, пора собираться мне и в обратный путь: побывал я во всех святых местах Киева – во всех храмах киевских, в Софийском соборе, у святой великомученицы Варвары – всюду возносил я свою пламенную молитву к Господу и Пречистой, и главной моей молитвой была просьба о том, чтобы Они меня приняли в число иночествующей братии, хотя бы на самое тяжелое послушание… Последнюю службу в Киеве я отстоял в Успенском лаврском соборе. Теснота в соборе была великая. Я стоял всю службу на коленях перед чудотворной иконой Богоматери. И жарка же была моя к Ней слезная молитва!..
Вверив себя и всю свою судьбу Преблагословенной, приложившись в последний раз к святой Ее иконе Успения, поклонившись Ей до земли, я пробрался к раке преподобного Феодосия, пал перед нею ниц и опять молился: слезы сами так и текли из глаз моих, как вешняя вода, пригретая весенним солнышком, и все об одном была моя молитва. Восторг моей молитвы дошел, наконец, до того, что я, не чувствуя себя, схватился за волосы, и с силой вырвал большую прядь волос.
Со словами «вот тебе, преподобный, залог моего желания стать иноком» положил эту прядь сверх гробницы, прямо в руки изображения пр. Феодосия, и опять на коленях продолжал молиться и плакать у святой раки.
Вдруг вижу: из угла храма, где стоит рака, идет ко мне, раздвигая народную толпу, престарелый седой инок. Подошел он ко мне, нагнулся почти к самому моему лицу и тихо спросил:
– Это что же ты положил сверх раки-то на изображение преподобного?
– Это мои волосы, – тихо ответил я старцу, – я вложил в руки преподобного, вверяя себя его святым молитвам. Он игумен здешний, и я просил, чтобы он умолил Господа – рано или поздно – быть мне иноком.
– И Бог исполнит твое желание, – тихо сказал, наклоняясь ко мне, старец и пошел обратно в темный угол, из которого вышел.
В тот же день я поклонился Киеву в последний раз и отправился в свой далекий обратный путь, на родину. По дороге заходил в Воронеж к великому святителю, архиепископу Антонию, получил его благословение и удостоился услышать из уст его ободрившее меня слово: «Подожди – рано еще – успеешь!..»
Стало быть, я буду монахом!.. Очень я был этим утешен.
XV
Как рады были родители моему возвращению из далекого странствования, всякий представить себе может. Благополучное мое возвращение внушило им ко мне такое доверие, что родитель мой нашел возможным вверить мне отдельную отрасль своих дел – свечную лавку, из которой он торговал оптом и в розницу восковыми свечами, и я стал, несмотря на свои юные годы, почти самостоятельным торговцем, приказчиком на отчете.
В это время я познакомился и близко сошелся с купеческим сыном Феодором Андреевичем Какирбашевым, торговавшим от меня по соседству – через лавку – юхтовым[5] и железным товаром. Сблизила нас с ним общая любовь к монашеству. Впоследствии он был наместником в Площанской пустыни (Орловской губ.), где и окончил свою жизнь, приняв перед смертью схиму. К нашей дружбе присоединился еще и другой сосед, тоже купеческий сын, торговавший галантереею, бакалейным и колониальным товаром. Этого путь впоследствии ничего не имел общего с нашими юношескими стремлениями и надеждами. Но в то время мы все трое были, как одна душа, и стремились к одной цели, и целью этой был монастырь и подвиги иноческой жизни. Только воля родителей стояла перед нами, как стена, непреодолимой преградой к осуществлению наших пылких влечений.
Жили мы тогда так: день занимались каждый своей торговлей, а наступала ночь – мы собирались вместе в теплушку к галантерейщику и там по целым почти ночам молились, читая акафисты. Псалтирь, каноны, а когда изнемогали от трудов бденных, то, прочитав молитвы на сон грядущий, помянник и главы три из Евангелия и Апостола, ложились спать, укрепляя себя взаимным примером и добрыми советами. Ночным караульщикам наших лавок было вменено в обязанность будить нас в три часа утра, и в этот ранний час мы опять становились на молитву. Кроме того, мы каждый день стали ходить и в будни к утрени и к обедне, прислуживали в алтаре, носили подсвечник, подавали кадило, читали часы. Нам из всего города принадлежал первый почин подавать просфоры на проскомидию о здравии и упокоении, чего раньше в Балашове не было в обычае. На нас глядя, стали подавать и другие, так что вскоре к проскомидии стало собираться частных просфор до пятидесяти и более. Богатое наше именитое купечество, усердное к Божиим храмам, так полюбило этот добрый христианский обычай, и через то приношение просфор до того умножилось, что печение просфор стало прибыльным занятием, которым занялись несколько девиц, и оно стало источником их пропитания. Священники нас очень любили за наше усердие и звали «монашатами», а сверстники подсмеивались и то же прозвание обращали в насмешку. Особенно недоброжелательно к моим стремлениям и моему поведению относился старший мой брат, Феодор, служивший при откупных делах конторщиком и кассиром.
Начитался он Пушкина и других светских писателей, и колом в горле стояло у него монашество… Подавали мы и милостыню, и заключенных в темницах посещали – словом, всей душой стремились осуществить в своей юной жизни заветы Христова учения.
А мысль о монашестве все росла и зрела в моем сердце. Нетерпеливый мой характер едва мирился с препятствиями…
День и ночь я думал свою неотступную думу и, наконец, решился на тайный побег. Остановка была за паспортом, но план у меня уже созрел, оставалось только привести его в исполнение.
XVI
Как старожил и домовладелец, отец мой был хорошо знаком почти что со всеми именитыми гражданами нашего города: секретарь Градской думы, или, по тогдашнему, магистрата, Яков Иванович был моему отцу приятелем, и вот из этих-то добрых отношений я и замыслил извлечь выгоду для выполнения плана моего побега. Задуман он был хитро, и я до сих пор удивляюсь той ловкости и смелости, с какой устроил свое бегство.
Выбрал я денек, когда отца дома не было, и пошел в думу, и, хотя это был Царский, следовательно, неприсутственный день, я знал, что Яков Иванович, как добрый пример службиста, будет на своем посту, несмотря на праздник. Мало таких осталось теперь ретивых чиновников, да какие и остались, то терпят их на службе больше из милости… Яков Иванович действительно был в думе и сидел на обычном своем месте, разбирая вновь поступившую почту. Я смело подошел к нему и попросил его написать и выдать мне паспорт.
– Что, али куда собираешься ехать? – поглядывая на меня поверх очков, спросил Яков Иванович…
– Да, нужно спешно ехать с восковыми свечами на ярмарку в село Карапшовку Аткарскаго уезда.
– Э, Фединька, не вовремя ты пришел-то сегодня: ведь нынче табельный Царский день, а присутствия-то в эти дни не бывает… Впрочем, погоди, спрошу у писца, не отперт ли сундук, где хранятся бланки.
Сундук, на мое счастье, оказался отпертым.
– Ну. так возьми ж сам в сундуке один бланк, напиши его, занумеруй и приложи печать. А там снеси его к подпису к твоему дяде – он гласный, а – нет, к градскому голове, Филиппу Александровичу – кто-нибудь из них тебе и подпишет.
Все это, за исключением подписи гласного или градского головы, я проделал, занумеровал свой паспорт; секретарь его подписал и печать приложил. Я поблагодарил доверчивого Якова Ивановича и отправился домой. Дело мое, стало быть, остановилось за главной подписью. Что теперь делать? – думал я, – дяде сказать про паспорт нельзя – он родителю скажет, или брату, или матери; спросит, куда и зачем я еду, и тогда весь мой план будет разрушен… Постой! – вспомнил я, – дома, в столе, есть старый папашин паспорт. Пришел домой, полез в стол, нашел паспорт, приложил его к оконному стеклу вместе с моим бланком и сперва карандашом, а затем чернилами, свел подпись городского головы, да так искусно, что сам Филипп Александрович прозакладывал бы свою голову, что это им подписано, и паспорт мой, таким образом, оказался в полном порядке.
Вечером, когда все улеглись, я из своего сундука достал две смены белья, несколько серебряных рублей и два десятирублевых золотых и в ту же ночь тайно бежал из города, никому не сказавшись и не простившись ни с кем из родных. Только мой друг и брат духовный, Феодор Андреевич Какирбашев, знал о моем побеге и даже провожал меня за город. Он уже бывал и сам раз в таких бегах и некоторое время прожил послушником в Плошанской пустыни, пока его силой не вытребовали родители. На его сочувствие и скромность я мог вполне рассчитывать. С его кожаной сумочкой, с которой когда-то и он бегал, убежал и я.
Куда я шел, я и сам не знал… На другой день своего бегства я нагнал по дороге целое семейство паломников, вышедших раньше меня из нашего города. Шли они в Воронеж на поклонение святым мощам святителя Митрофана; с ними и я дошел до Воронежа. А дальше куда?… Тут я вспомнил, что некогда у моего родителя в услужении был один молодой человек родом из обедневших дворян, по фамилии Костенков. Про него я много слышал от моей покойной бабушки, которая рассказывала, что это был молодой человек необыкновенно расторопный и услужливый и, что называется, молодец на все руки; но одним он моей бабушке не нравился, и крепко не нравился: сквернослов он был ужасный, особенно когда бранил рабочих, но, что всего более было бабушке не по сердцу – это то, что от него проходу не было женскому полу, и матери горько обижались за своих дочерей. Сколько раз бранила его моя бабушка, сколько усовещивала, а он все твердил одно:
– Не бранись, бабушка! Вот уйду в монахи, тогда и за тебя буду Богу молиться.
– Э, пес, пес! Уж тебе ли быть монахом! – ворчала на него бабушка, – такому-то озорнику, шалаборнику, девушнику!
– Ай, бабушка, бабушка! – со смехом отзывался на бабушкино ворчание «озорник». – Не такие еще, да и то попадали в рай, а в монастырь-то попасть легче… Тогда, бабушка, я за тебя буду молиться, а пока ты за меня молись, чтобы Бог помог мне исправиться.
Только долго не исправлялся «озорник», и бабушка все ворчала и гневалась, хотя, я уверен, втайне за него молилась… И вот настал день, пришел «озорник» к моей бабушке и, весело улыбаясь, объявил ей:
– Вот что, бабушка! Пришел я тебя благодарить за все твои выговоры и благие пожелания. Благослови меня теперь, вместо матери, идти в монастырь – час мой настал, и я желаю порешить с миром. Не забуду я никогда твоей брани и добрых советов и буду, пока жив, за тебя молиться, а ты молись за меня, окаянного грешника!
Надо ли говорить, как таким речам обрадовалась бабушка? Она благословила «озорника», обняла своей старческой рукой, как мать родная…
– А деньги-то у тебя, «озорника», на дорогу есть? – спросила бабушка.
– Ни копейки, бабушка, нет!
Она пошла его провожать за город и, сняв с себя крест, благословила его еще раз, надела свой крест ему на грудь и дала ему на дорогу пятьдесят копеек старыми пятаками. Поклонился «озорник» бабушке до земли уже не с улыбкой, а со слезами, и направил свой путь к Троице-Сергиевой лавре… Потом дошли до бабушки слухи, что Костенков поступил послушником к преподобному Сергию, обратил своей даровитостью и ревностным послушанием на себя внимание лаврского начальства, лет через восемь после своего поступления в обитель был посвящен во иеромонахи и неоднократно сопутствовал митрополиту Филарету в его поездках в Петербург… Потом, как я слышал, он был строителем Давыдовской пустыни. Имя его в монашестве было Герасим.
XVII
Вот об этом-то Герасиме я вспомнил и решил из Воронежа идти к нему в Троице-Сергиеву лавру, а там, подумал я, видно будет, как Господь устроит мое желание…
Отправился я из Воронежа, конечно, пешком на Задонск. Тогда еще не были открыты мощи святителя Тихона. Из Задонска, помолясь Богу и отслужив панихиду в пещерке, я пошел на Москву и оттуда, уже не помню на какой день, во время вечерни пришел в Троице-Сергиеву лавру. Войдя в ограду обители, подошел к книжной лавочке и спросил монаха, как мне найти иеромонаха Герасима.
– Подождите немного здесь, – ответил мне монах, – отец Герасим – служащий. Вот отойдет вечерня, он пойдет тут мимо нас в свою келью – тогда вы и подойдите к нему.
И точно: не прошло и получаса, стал народ выходить из храма, вскоре вышел и отец Герасим: роста великого, с прекрасными, длинными и волнистыми волосами, с небольшой бородой и необыкновенно величественной, прекрасной наружностью.
На него мне указал лавочный монах и сказал:
– Вот он – иди к нему под благословение!
Я подошел и, поклонившись до земли, принял его благословение.
– Ты откуда, мальчик? – спросил меня отец Герасим.
– Из города Балашова, – отвечал я, – внук известной вам бабушки Василисы Семеновны. Она вам кланяется и просит ваших святых молитв.
Бабушка моя еще тогда была жива… Радостной улыбкой осветилось лицо отца Герасима, и с любовью он переспросил:
– Так ты ее внук? Сын Афанасия Родионовича?… Давно ль ты здесь?… Идем же со мной в мою келью!
С какой теплой радостью обнял меня и вновь благословил отец Герасим, когда мы вошли с ним в его келью. На столе уже был приготовлен чай, и за чаем он прямо засыпал меня вопросами: о бабушке, о родителях, о всем нашем житье-бытье… Любовь и добрая память о прошлом чувствовались в этих расспросах – я едва успевал отвечать на них отцу Герасиму…
– С кем же ты сюда приехал? – спросил батюшка.
Пришлось тут рассказать ему все о моем тайном побеге из родительского дома и о моем стремлении поступить в монастырь.
– В какой же ты монастырь желал бы поступить? – спросил меня отец Герасим.
– Да вот, – ответил ему я, – хотя бы к вам, в келейники.
– И с радостью я бы тебя оставил у себя, – сказал мне он, – но, видишь, друг, – выйдет твоему паспорту срок, тебе необходимо будет вернуться домой к родителям, а за год, что ты пробудешь у меня в многолюдной лавре, ты ничему не будешь в состоянии не только научиться, но даже увидеть как следует иноческую жизнь. Мой тебе совет: поживи здесь недельку-другую и отправляйся в Оптину пустынь, в скит, к отцу Макарию – поживешь в Оптиной год и увидишь истинных монахов-подвижников; а в твои лета здесь оставаться тебе будет не на пользу.
– А далеко ли эта Пустынь?
– Да верст двести с небольшим: от Калуги до Козельска и Оптиной верст около семидесяти… Вот там есть истинные подвижники монашеской жизни и старчество, а здесь, Фединька, бойкое место – слишком людно, в твои лета, без опыта монашеской жизни, говорю тебе, любя и из благодарности к твоей бабушке и родителям, здесь жить тебе будет не в пользу. В Оптиной все узнаешь, все поймешь: великий старец иеромонах Макарий и великие там подвижники.
Два дня прожил я у отца Герасима в Троице-Сергиевой лавре и, нежно, с любовью простившись с ним и получив его благословение, отправился обратно в Москву, а из Москвы – на Калугу и в Оптину.
XVIII



