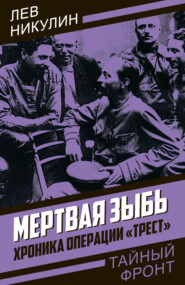
Полная версия:
Мертвая зыбь. Хроника операции «Трест»
– И вы давно на свободе? – спросил Якушев.
– Вторая неделя пошла.
– Как же это произошло?
– Довольно просто. Вот Николай Михайлович знает…
– Не преувеличивайте.
– А мне прямо сказали: «Вы товарища Потапова знаете? Он сказал, что вы из толстовцев». Ну это, говорю, было. Я с толстовцами давно разошелся на почве непротивления злу. Непротивление? Этак всю Россию растащат по кускам. «А теперь, – спрашивает следователь, – какие у вас убеждения?»
– А в самом деле, какие?
– Такие, какие и были, отвечаю. «Бытие определяет сознание». Только прежде у меня между бытием и сознанием был разрыв, мешал титул, поместье. А теперь ничего нет, какое бытие, такое и сознание. «Вы, – спрашивает, – не у меньшевиков набрались этой философии? А то смотрите, как бы мы вас за меньшевизм не потянули». А потом вдруг говорит: «У вас дочь во Франции, в Ницце. Почему бы вам к ней не поехать?» Я, признаться, онемел. Потом думаю: а ведь они не шутят. И в самом деле, что мне на шее у Ветошкина сидеть?
– Значит, едете? – в изумлении спросил Якушев.
– Вот к генералу пришел посоветоваться. Он умница.

Александр Оттович Опперпут-Стауниц
– Что же вас держит?
Князь долго молчал, потом поднял старческие, еще зоркие глаза и вздохнул:
– Россия. Я все еще живу в Зарайске. Утром, на рассвете, выхожу в садик. Морозец, снег скрипит, надо мной наше небо. С детства привычное, русское небо. Ну, допустим, там, в Ницце, око ярче, светлее… пальмы, море… Зять мой – француз, граф де ла Нуа. Метит в послы. И в доме, наверно, эти соотечественники, желтые кирасиры… И кончится все это чем? Склеп на горе, на кладбище под Ниццей. А все мои деды, прадеды, все спят в русской земле. И мне бы к ним, последнему русскому потомку удельных князей Тверских…
– Резонно, – сказал Потапов.
У Якушева запершило в горле, он хотел что-то сказать, но так и не смог. Пожал маленькую сухую руку князя, обнял Потапова и побежал по аллее, к выходу из парка.
– Что это с ним?
– Что-то происходит… Ну, так как же, князь?.. Простите, это я по старой памяти, как же, Сергей Валерьянович? Помните, я к вам ездил в Алексеевку, на уток? Это еще до вашего толстовства… – И они говорили бы еще долго, но тут за Потаповым прибежала сестра, настал обеденный час.
Как-то спустя некоторое время, когда Потапов с Якушевым стали часто видеться по общему делу, Александр Александрович спросил его о князе Тверском.
– А он приказал долго жить… Мне Ветошкин звонил, угас, говорит, его сиятельство, во сне помер. Схоронили его там же, в Зарайске. Интересная фигура. Кого только не рожала матушка Россия!
– Интересная… Он ведь сыграл некоторую роль в моей жизни, хоть видел я его только раз, у вас в госпитале. Как-нибудь я расскажу, Николай Михайлович.
Но так и не собрался рассказать.
11
Где бы ни был Якушев, на службе или дома, его тревожила одна мысль: Любский – кличка камергера Ртищева, влиятельного члена Политического совета МОЦР. Что делать? Прятаться от него или идти напролом? Но странно, что со времени освобождения Якушева не было телефонных звонков от Любского. Что это означало? Или, узнав о болезни, Любский и другие решили оставить Якушева в покое, или уже началась ликвидация МОЦР – результат его показаний?
«Отвяжутся», – успокаивал себя Якушев и понимал, что «они» не отвяжутся. Неделю спустя в одиннадцатом часу вечера, когда Якушев гулял с Бумом на бульваре, навстречу ему поднялась знакомая фигура. Это был Ртищев.
– Рад вас видеть здравым и невредимым, – протягивая костлявую руку, сказал он. – Вот уж не вовремя вздумали болеть… Прогуливаете собачку? Какой чудесный фокстерьер!
Якушев хотел уловить в тоне Ртищева иронию или нотку подозрения, но тот говорил, как всегда, внушительно и с сознанием собственного достоинства.
– Еле выжил… – сказал Якушев. – Ну как вы, что у вас?
– Все в лучшем виде… Ждем вас, нашего неутомимого, энергичного Александра Александровича… Как это все-таки угораздило вас сразу махнуть в Сибирь? Это после заграницы, после Швеции и Ревеля?
Якушев насторожился.
– Вот как получилось: приехал, пришел к начальству, а мне суют командировку, билет до Иркутска, и в тот же вечер я уехал, даже отчет не успел сдать… А там, в Иркутске, подхватил тиф. Так что о ревельских делах мы даже с вами как следует не поговорили.
– Поговорим, дорогой мой, поговорим… Теперь о главном: мы желаем, чтобы вы… – Ртищев оглянулся и убедился, что никого нет поблизости, – чтобы вы возглавили одну сильную группу, она возникла, пока вас не было в Москве. Мы, то есть Политический совет, придаем ей особое значение. Вам в ближайшие дни позвонит человек, пароль – предложение об обмене фортепьяно фабрики «Мюльбах»… Вам надлежит встретиться.
Якушев плохо слушал остальное, он напряженно думал об одном и том же: «Нет, не отвяжутся… не отвяжутся…» Надо было что-то отвечать, но, на его счастье, послышались голоса, бренчание мандолины, на бульваре появилась шумная компания, он пожал холодную руку Ртищева и пробормотал первое, что пришло в голову:
– Разумеется, разумеется, – потянул за поводок Бума и быстро зашагал к дому.
Эта ночь напомнила ему ночи в камере тюрьмы, он не сомкнул глаз, ругал себя за то, что сразу не сказал Ртищеву: «Оставьте меня в покое…» Можно было сослаться на болезнь. Но вот что странно. Где результат его показаний? Все пока на месте, Политический совет МОЦР действует! Возникают новые группы. Артузов был прав: можно ли быть просто лояльным в такой ситуации? Он решил позвонить Артузову, но в девять часов утра раздался телефонный звонок, чей-то голос с легким акцентом произнес:
– Вы, кажется, имели желание обменять ваше фортепьяно на рояль?
– Да, на рояль кабинетный. Фабрики «Мюльбах».
– В таком случае угодно вам встретиться… скажем, в сквере у Большого театра завтра. Время зависит от вас.
– Я могу около четырех часов.
– Превосходно…
– А как я вас узнаю?
– Не извольте беспокоиться. Я знаю вас в лицо.
– А… значит, до завтра.
Якушев положил трубку на рычаг и долго сидел в мучительном раздумье. Было десять часов утра, когда он позвонил Артузову и рассказал ему об этом телефонном звонке.
– Почему бы вам не пойти… – ответил Артузов, – раз вы согласились встретиться с этим человеком. Если вы не придете, это их встревожит, пока вы у них вне подозрений. Нам бы не хотелось, чтобы вам угрожала опасность со стороны ваших бывших друзей.
«Значит, из моих показаний пока не сделано выводов, – подумал Якушев. – Интересно знать, что это за «сильная» группа». Якушев отличался точностью. Четыре часа. Он прогуливался в сквере около десяти минут, когда с ним почти столкнулся человек в бекеше с серой каракулевой выпушкой и начищенных до зеркального блеска сапогах. Извинившись, сказал:
– Я от Любского. Присядем на минуту.
Они присели на скамью, убедившись, что никого нет поблизости.
– Для вас моя фамилия Стауниц Эдуард Оттович, для других – Опперпут, Селянинов, Упельниц и так далее… Смотря по обстоятельствам.
– Я думаю, что здесь не место для такого разговора.
– Разумеется. Как вы относитесь к кавказской кухне?
– Странный вопрос… Если барашек карачаевский, что может быть лучше.
– И бутылка кахетинского? Дары солнечной Грузии?
– Прекрасно.
– В таком случае – прошу…
Они шли в сторону Охотного ряда, миновали Дом Союзов. В то время здесь не было и в помине монументального дома Совета Министров, а стояли только два убогих одноэтажных здания, лавки, торгующие мелкой галантереей. В щели между стеной церкви Параскевы-Пятницы и ветхим старым домом гнездилась шашлычная без вывески.
– Это здесь?
– Здесь. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Все принято во внимание в смысле конспирации.
Они вошли. Им ударил в нос запах баранины, жаренной на вертеле, и еще другой запах свидетельствовал о том, что здесь пробавлялись не кахетинским, а чем-то более существенным – разведенным водицей спиртом. Сквозь пелену табачного дыма виднелись люди за столиками, была такая теснота, что, казалось, ступить было некуда, а не то, что сесть.
– Не извольте беспокоиться… Шалико!
И действительно, через минуту они оказались в глубине коридора, в довольно чистом чуланчике, освещенном окошком, выходившим во двор. В чуланчике стол, накрытый бумагой, и два стула. Гомон, говор посетителей шашлычной доносились сюда едва слышно. В щель приоткрытой двери просунулась усатая голова, и чья-то не очень чистая рука поставила на стол приборы, стаканы и бутылку.
– Как обычно, – сказал Стауниц, и голова исчезла. – Предпочитаю это заведение. У меня наилучшие отношения с хозяином, как вы изволили заметить. Шашлык отличный, вы в этом убедитесь, а главное, можно спокойно поговорить. В случае необходимости открывается окно – и испаряешься тихо и бесследно.
– Слушаю вас.
– Мои петроградские друзья, связанные с известным вам Юрием Александровичем Артамоновым, поручили мне от его имени выяснить, чем объясняется столь длительное ваше молчание, после того как все было договорено?
– Все ли? Не прикажете ли переписываться, прибегая к обычной почте?
– Понимаю. И других причин нет?
– Были. Я был в длительной командировке в Иркутске и там имел несчастье заболеть. Тиф.
– А… Тогда понятно.
– Они, в Ревеле, обещали мне наладить прямую связь с Москвой.
– Ртищев, то есть Любский, говорил, что вас ожидают в Ревеле с отчетом о том, что удалось сделать.
– Ртищев. Знаю. Но ведь дело в том, что моя командировка за границу зависит не от меня. Что касается Петрограда, то это мне легче. Вы были там недавно. Что там?
– Были провалы, как вы знаете… Однако сейчас, я бы сказал, все снова оживились, так же как, впрочем, и в Москве.
Послышались шаги. Стауниц открыл дверь. Просунулась та же усатая голова, и рука поставила на стол блюдо с дымящимся шашлыком.
Якушев потянул носом:
– Аппетитно… Если судить по запаху.
– Прошу, – наливая вино, сказал Стауниц. – Мы успеем поговорить.
Некоторое время оба молча ели и чокались, запивая вином.
– После шестнадцатого года, после Пятигорска, я впервые ем такую прелесть.
– Правда?.. Так вот, ваше превосходительство. Все это хорошо: Петроград, Москва, Нижний, Ростов-на-Дону… Но все это разрознено, и притом связь с закордонными организациями очень слаба.
– Вы абсолютно правы.
– Насколько я понял Ртищева, предполагается объединение всех, говоря большевистским языком, ячеек вокруг МОЦР на строго монархической основе, чтобы не пахло ни кадетским духом, ни эсеровщиной! Самодержавие и военная диктатура.
Стауниц метнул взгляд в сторону Якушева. Тот молчал.
– Эсеровщиной я сам сыт по горло. Я ведь из-за них попался и имел удовольствие отсидеть в одиночке в ожидании… – И Стауниц слегка щелкнул себя в висок. – Меня спасла отмена смертной казни в двадцатом году, и я получил всего-навсего лагерь до окончания гражданской войны. И вот, как видите, я на свободе, занимаюсь коммерцией и еще кое-чем. А ведь я брал уроки конспирации у самого Бориса Викторовича…
– У кого?
– У Савинкова.
– Вы, значит, из этих… из эсеров?
– Нет, я не из «этих»… В той буре, которую мы переживали, людей вроде меня бросало как щепку. Я все испытал, после того как четверо суток блевал на поганом греческом пароходишке по пути из Севастополя в Стамбул. Испытал и турецкий тюремный клоповник-каракол, и румынскую тюрягу. В конце концов в Берлине меня подобрал Савинков, я оказался для него подходящим субъектом.
Якушев поморщился:
– Этот человек возбуждает во мне отвращение. Убивал министров, губернаторов, а вешали за это других, простых исполнителей.
– Видите ли, он не трус. При этом может быть обаятельным, пленительным, может вас очаровать, пока вы ему нужны. А когда вас зацапают, он и не чихнет. Будет читать декадентские стишки, он ведь мнит себя литератором. Широкая натура, игрок, швыряет деньги, когда есть. До революции, говорят, проиграл пятнадцать тысяч золотом партийных денег в Монте-Карло. В Париже – всегда скачки, женщины…
– Вы с ним коротко знакомы?
– Как сказать… Жил с ним месяц в Берлине, в отеле «Адлон». Роскошная жизнь. При нем секретарь, жена секретаря для интимных услуг. Каждый вечер – дансинг, шампанское, марафет, если угодно. А утром – штаб: полковники, ротмистры, бандиты со светскими замашками и французским языком и эти долгогривые эсеры… все цвета радуги – от монархистов до эсеров-максималистов. А вечером опять шампанское и дамы… Марка летит вниз, а Борису Викторовичу хоть бы что, у него фунты стерлингов. А потом для меня кончилось вот чем: грязная изба в Полесье, спишь на полу с бандитами, палец на курке маузера; ползешь по грязи через границу, ждешь пулю в лоб, не то пограничники прикончат, не то бандиты, чтобы поживиться…
– Дальше?
– Дальше, если повезет, заберешься в трущобу под Минском… Холод, грязь, кровь… В конце концов вышло так: все хорошо, пришел на явку, все знаки на месте, милости просим, стучишь, тебе открывают – и ты испекся. Везут в Москву, там допрос, пойман с оружием, был в банде, савинковец, расстрел обеспечен… Сидишь во «внутренней» и представляешь себе: в этот самый час в Париже Борис Викторович с донной Пепитой сидят себе в «Табарэне», попивают «Кордон руж», а вместо меня другой дурак ползет на брюхе по грязи через границу. И для чего? Чтобы поджечь хату сельсовета или подстрелить секретаря комячейки. А крестьяне обложат его и выловят в лесу, как волка…
– Значит, разочарование?..
– Да, в методах.
– Перспектива не из приятных. А дальше?
– Дальше вы знаете. Чудом выкарабкался. А тут нэп. Я кое-что понимаю в коммерции. Увлекся делами, нашел компаньонов. Женился на хорошенькой девице. Но, знаете, не по моему характеру. Богатства не наживу – я не Кушаков, у меня капитала нет. И вот стал размышлять. И пришел к выводу: надо делать ставку на внутренний переворот.
– Интересно. И что же?
– Нащупал людей. Из бывших. Один чиновник департамента полиции, затем еще подходящие экземпляры, и, в общем, есть группа, семь человек, нет только денег. Я за этим и в Петроград ездил. У них есть некоторые виды. Иностранцы через Коковцова обещали. У меня большая надежда на вас, Александр Александрович.
– Если в смысле денег, то я вас должен разочаровать. А потом, самое главное: цель. Какая у вашей группы цель? Неужели… что-то вроде «Союза защиты родины и свободы»?
– К чертовой матери! Никакой савинковщины! Его императорское величество, законный император. Только на это еще можно ставить.
– Все разделяют эти верноподданнические чувства?
– Могу сказать. Все. Даже, пусть вам не покажется странным, один краском. Настоящий.
Якушев удивился:
– Что вы такое говорите?
– Я вас понимаю. Но не все же среди большевиков – кремень и железо. Чекистам, например, ничего не нужно для себя: ест хлеб с соломой, запивает морковным чаем, не спит по ночам, главное для него – идея, революция. Но есть такие «товарищи», которых нэп, так сказать, расшатал. Вот такие нам нужны. Я вам покажу: красавец, герой, конник, командовал полком. Из простых. Учится на каких-то военных курсах.
– И вошел в вашу группу?
– Отца-старосту расстреляли на Тамбовщине. Хату сожгли. Жить хочется. Все это шито-крыто. Я к нему со всех сторон подходил. Вы представляете себе: кончит курс – дадут ему бригаду, дивизию…
– Все это очень интересно. Очень. Надо будет приглядеться к вашим людям. Только без всяких собраний, надеюсь.
– Да что вы… Какие собрания. Я снял на Болоте склад, под товары. Вы увидите, как удобно… Там кого и что хочешь спрячешь. И сторож у меня… Кто бы вы думали? Чиновник департамента полиции. Коллежский асессор.
– Это так неожиданно, так чудесно, просто не верится…
– Все доложено штабу МОЦР, извините за большевистское сокращение, – штабу Монархической организации центральной России. Угодно вашему превосходительству познакомиться с людьми?
– Разве только с этим… краскомом. Этот, как вы понимаете, представляет особый интерес.
– Отлично. Разрешите на днях сообщить, где и когда…
Стауниц открыл дверь и крикнул:
– Шалико! Счет!
Ему подали счет. Якушев полюбопытствовал и увидел семизначную цифру.
– С чаевыми около шести миллионов. Вернее, ровно шесть. Все мы нынче миллионеры, ваше превосходительство.
Они вышли на улицу. Уже стемнело. Стауниц кивнул и пропал в темноте. Улицы почти не освещались. Якушев шел не торопясь, в тяжелом раздумье. «Нет, они не угомонились». Представил себе лицо Стауница, его злую усмешку, его злые глаза и крепкие белые зубы, которыми он разрывал розовое мясо барашка. «Волк, – подумал Якушев, – настоящий волк. Они не оставят меня в покое».
12
Якушев решил написать Артузову, просил принять его по важному делу и отдал письмо в окошко бюро пропусков. В тот же день вечером позвонил Артузов и сказал, что ждет его к одиннадцати часам вечера. Пропуск будет заказан. Без четверти одиннадцать Якушев был у Артузова. Тот сказал:
– Через пять минут вас примет Дзержинский.
Нетрудно догадаться, что переживал в эти пять минут Якушев. Дзержинского он видел тогда, после очной ставки с Варварой Страшкевич, несколько минут. Якушев в тот момент был так ошеломлен, так потрясен, что появление Дзержинского помнил смутно. А теперь ему предстоял разговор с этим человеком, имя которого внушало панический страх белым. Говорили о нем как о безжалостном, жестоком и неумолимом противнике, называли «красный Торквемада», и сам Якушев ужаснулся, думая о том, чем может кончиться его встреча с Дзержинским. Может быть, пересмотром его дела и гибелью? Якушев страшился этого свидания, хотя он ничего не утаил на последнем допросе.
Вместе с тем пробуждалось странное чувство любопытства. До революции Якушев никогда не встречался с революционерами, после революции ему приходилось беседовать с Красиным, Керженцевым, но это были чисто деловые беседы, в особенности с Красиным. Якушев не мог не признать, что эти люди меньше всего думали о своем личном положении, о карьере, как прежние сановники. Дзержинский теперь народный комиссар путей сообщения и по-прежнему борется с контрреволюцией. Он остался тем же страшным противником белого движения, как и в первые дни революции…
Пять минут прошли. Якушев не помнил, как они миновали коридор третьего этажа, прошли комнату, где сидели за столами какие-то люди, перед ним открылась дверь в другую комнату, и в нескольких шагах от него, у стола, стоял человек, перелистывая бумаги в папке. Он положил папку, поднял голову. Это был Дзержинский.
– Садитесь… Не удивляйтесь, что я вас принял в такой поздний час. К сожалению, не мог найти другого времени.
– Очень признателен… Поверьте, я не ожидал встречи с вами. Я полагал, что мне уделит время ваш сотрудник. Положение складывается так, что выпутаться из него собственными силами я не могу…
– Попробуем вам помочь, – сказал Дзержинский, подвинул стул к Якушеву и сел. – Что же с вами произошло?
– Еще не произошло, но может произойти.
Якушев всегда говорил ясно и не искал слов, но теперь он, запинаясь и волнуясь, рассказал о встрече на бульваре с Ртищевым и о своем свидании с Стауницем.
– Мне казалось, что я смогу дать им понять, что ухожу из их организации навсегда.
– Это оказалось невозможным?
– Да. Я немедленно вызвал бы подозрения, я слишком много знал, и эти, особенно Стауниц, не остановились бы перед убийством.
– Это – волки. Они вас в покое не оставят.
Дзержинский задумался.
– Конечно, наша обязанность вас защитить. Но как? Есть два пути: первый – дать вам возможность уехать далеко, куда-нибудь в провинцию. Но вы для них фигура, и они будут встревожены. А тревожить их сейчас не время. Ликвидация МОЦР дело будущего. Второй путь…
Дзержинский снова умолк, встал, отошел в сторону, и на этот раз его молчание было довольно долгим.
– Вы решили стать добросовестным советским служащим? Вас это вполне удовлетворяет? Вас, человека, который любит свою родину, человека острого ума, твердого характера и решимости. Такие работники нам нужны, я уважаю их, они отдают свои силы восстановлению народного хозяйства.
– Я знаю, мне говорили сотрудники Наркомпути.
– Но вы обладаете способностями и некоторыми данными, которые могут принести пользу государству в еще более важной области. Не будет ли правильнее дать вам трудиться в области укрепления безопасности нашего государства, в защите его от покушений со стороны злейших врагов? Подумайте, о чем я говорю.
Теперь Якушев молчал. Он был поражен; неужели это Дзержинский, тот, о котором рассказывали ужасы? Он говорил убедительно и выражался точно, но тон его разговора был мягкий, деликатный, в его вдумчивой речи была простота и вместе с тем задушевность.
– Я понимаю, – продолжал Дзержинский, – вы родились и росли в той среде, которая твердо верила в незыблемость монархического строя, вам внушали с детства, что вы будете управлять покорным народом, а вами будет управлять монарх. Только наиболее разумные из вашей среды понимали, что этот строй обречен. И когда он рухнул, они не без раздумья перешли на сторону народа… Кстати, вы в одном вашем показании упомянули бывшего генерала Николая Михайловича Потапова. Он был начальником одного из главных управлений генерального штаба царской армии, близок ко двору и хорошо известен царю. Но именно потому, что он был близок к этим людям, он видел их ничтожество и низость.
– Я не был в его положении и был далек от двора.
– Я заговорил о Николае Михайловиче Потапове потому, что он сыграл некоторую роль в вашей жизни. Он посоветовал вам бросить саботажничать и идти честно работать, честно, как должен работать советский специалист. Хорошо же вы отплатили ему за добрый совет! Вы пошли к нам работать, но это была маскировка, вам под маской советского работника легче было творить контрреволюционное, черное дело… Но все это в прошлом. Мы верим, что вы теперь думаете по-другому и поняли смысл истинного патриотизма.
Дзержинский, видимо, устал. Он вытер платком лоб и говорил, уже не глядя на Якушева:
– Патриотизм… Ради чего десятки, сотни тысяч людей отдают свою жизнь, переносят тяжкие испытания, голод, болезни? Ради счастья, грядущего счастья своей родины. Но не только ради своей родины – ради счастья человечества. Я поляк, сын польского народа, но я интернационалист, я сражаюсь на баррикадах той страны, где развевается красное знамя единственной на нашей планете страны социализма. Наши враги называют меня фанатиком. Вы тоже считаете меня фанатиком?
Якушев вздрогнул. Именно об этом он подумал сейчас.
– Нет, мы не фанатики. Мы убеждены в том, что правы основоположники нашего учения: социалистическая революция победит. Мы боролись с сильным и хитрым, имеющим полицейский опыт врагом. Департамент полиции, отдельный корпус жандармов, эти наследники третьего отделения – бенкендорфов и дубельтов, – были опасными врагами. Среди них были такие мастера провокаций, как Климович, Белецкий и другие. Кстати, первый еще жив и состоит шефом разведки у Врангеля. Да, эти господа многое знали, но не все. Они действовали очень тонко. Я это знаю по собственному опыту. Не сосчитать, сколько раз меня допрашивали. Царской полиции помогала германская, французская и английская тайная полиция, весь еще не расшатанный государственный аппарат царизма. Годами держали революционеров в каторжных тюрьмах. Я говорю не о себе, хотя знаю, что такое царская каторга и что значит ходить, работать и спать в кандалах. Я знаю, глупцы говорят, будто бы я хочу мстить за мои прежние страдания. Это ложь. Мы вынуждены были карать смертью врагов революции. После разгрома Деникина отменили смертную казнь. Как ответили на это белые? Заговорами и убийствами. Мы принуждены были восстановить высшую меру наказания. Борется с врагами советской власти не только Чека. Борется с ними народ, весь народ. В этом наша сила.
Дзержинский продолжал со всей страстностью:
– Мы победили белогвардейцев и интервентов. Мы, революционный народ! Неужели после всех жертв, после всех страданий, испытаний этот народ отдаст власть, завоеванную с такими жертвами? Нет и нет!
Он подошел к столу, взял папку, которую держал в начале разговора, и положил перед Якушевым:
– Здесь вы найдете письма… Их очень много, я выбрал только те, что мы получили недавно. Люди нам пишут. Одни выражают сердечную благодарность за то, что мы по мере наших сил защищаем советский строй от притаившихся врагов, другие стремятся помочь нам в работе, предостеречь от ошибок, направить на верный путь… Это письма тружеников, рабочих, бедняков крестьян, учителей, пишут вдовы и матери красноармейцев, потерявшие родных на фронтах гражданской войны. Есть люди, которые своими глазами видели, как мучили, пытали, били шомполами, выжигали звезды на теле живых пленных красноармейцев… И кто это делал? Образованные господа офицеры, цвет, так сказать, царской гвардии… И вот об этих зверствах рассказывают в своих письмах свидетели, они понимают, что несет с собой новый поход белых, новая интервенция или контрреволюционный мятеж.

