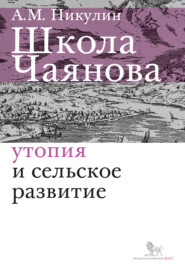скачать книгу бесплатно
Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие
Александр Михайлович Никулин
Книга посвящена исследованию научного мировоззрения выдающегося русского экономиста Александра Васильевича Чаянова, который здесь представлен не только как экономист, но и как социолог и историк, культуролог и педагог, политолог и футуролог. В книге подвергнут анализу ряд произведений представителей так называемой чаяновской организационно-производственной школы – А. Н. Челинцева, Б. Д. Бруцкуса, А. Н. Минина, Н. П. Макарова. Особое внимание уделяется сравнению утопических и культурологических произведений Чаянова с утопиями его современников – А. А. Богданова, А. П. Платонова и публицистикой Е. Я. Дороша. Автором предпринята попытка реконструкции и развития чаяновских идей в связи с рядом советских и постсоветских обществоведческих концепций сельского развития северных регионов, малых городов, крупных и мелких аграрных предприятий, компаративистских исследований эволюции различных сельских регионов земного шара.
Книга может быть полезна гуманитариям и обществоведам различных специальностей, занимающимся изучением и применением интеллектуального наследия Чаянова и его школы к историческим и современным проблемам социального развития России и мира.
Книга подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект «Школа А. В. Чаянова и современное сельское развитие: увековечивая деяния ученых через актуализацию их наследия».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
А. М. Никулин
Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие
© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2020
* * *
Памяти Теодора Шанина
Предисловие
Мысль Чаянова проникала сквозь дисциплинарные границы между экономикой, социологией, историей, сельским хозяйством, теорией познания и искусством. Особенно он отличался невероятной силой дисциплинированного воображения и умением выражать его в словах. Он обладал выдающейся и оригинальной способностью создавать модели – соединять в своих работах научные и художественные достижения.
Т. Шанин. Три смерти Александра Чаянова
Цель данной книги – познакомить читателя с богатым интеллектуальным наследием выдающегося российского и советского экономиста, социолога, социального антрополога, основателя междисциплинарного научного направления «крестьяноведение», писателя-фантаста и утописта Александра Васильевича Чаянова (1888-1937) и показать обоснованную возможность применения чаяновских идей к постижению направлений сельского развития России и мира прошедшего XX века и наступившего века XXI.
Чаянов достаточно хорошо известен в России и за рубежом прежде всего как автор теорий крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации. Львиная доля российских и зарубежных социально-экономических исследований научных работ ученого посвящена уточнению и развитию заложенных в них крестьянско-кооперативных аспектов в связи с историей и современностью альтернатив аграрной политики в мире.
Кроме того, Чаянов привлекает к себе большое внимание философов и филологов как писатель-утопист-мистик, автор очаровательного «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» и изящных фантастических исторических повестей, стилизованных в манере Э.Т.А. Гофмана и В. Ф. Одоевского.
В предлагаемой книге предпринята попытка всесторонне рассмотреть идеи Чаянова как фантаста, так и реалиста в осмыслении его сбывшихся и несбывшихся альтернативных прогнозов развития общественной жизни в связи с рядом идей и его современников, и ныне живущих потомков.
Книга содержит приложение, в котором приводится библиографический список работ Чаянова, максимально дополненный и уточненный на сегодняшний день.
Безусловно, проделанное исследование отнюдь не исчерпывает всей проблематики актуализации чаяновского наследия для понимания предшествующей истории и прогнозирования возможных альтернатив сельского развития России и других стран мира. Это всего лишь стремление определить и обосновать некоторые направления и вехи в динамике взаимодействия художественных и научных прогнозов в жизни общества с учетом взаимоотношения экономики, политики и культуры, революции и эволюции, соотношения многоукладного сосуществования семейных, частных, государственных, кооперативных хозяйственных форм, сельского и городского развития различных регионов мира на основе переосмысливания ряда идей Чаянова при анализе истории прошлых эпох и настоящего времени – XX–XXI веков. В связи с этим следует сказать, что некоторые главы и параграфы книги представляют собой переработанные и уточненные фрагменты ранее опубликованных статей, посвященных Чаянову в российских и зарубежных научных журналах последних лет[1 - См., например: Никулин А. М. Чаяновский утопизм: балансируя среди кризисов интенсификации оптимумов // Крестьяноведение. 2017. Т. 2. № 1. С. 6–30; Nikulin A.M. An omitted intellectual tradition: the Chaianov school on collective farming // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 2017. Т. 65. № 3. С. 423–444; Никулин А. М. Переосмысливая сельское развитие Русского Севера через идеи А.В. Чаянова и Б. Д. Бруцкуса // Региональные исследования. 2017. № 4 (58). С. 137–147; Он же. Международная регионалистика А.В. Чаянова (к 80-летию гибели ученого) // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 5. С. 150–177; Он же. Чаянов и Центральная Азия // Научные труды Вольного экономического общества России. 2018. Т. 210. № 2. С. 191–202; Он же. Грезы русской революции в утопиях Александра Чаянова и Андрея Платонова // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 3. С. 256–290; Он же. Неакадемическая педагогика А.В. Чаянова // Человек. 2018. № 6. С. 139–157; Он же. Ефим Дорош и его «деревенский дневник»: наблюдая сельско-городские трансформации России и Ростова Великого // Мир России. Социология. Этнология. 2019. Т. 28. № 4. С. 172–192; Он же. Марс индустриальный и Москва крестьянская: сопоставляя утопии А. А. Богданова и А.В. Чаянова // ЭКО. 2019. № 4 (538). С. 95–112.].
Занимаясь изучением научных идей А.В. Чаянова почти четверть века, я принял непосредственное участие в создании в 2019 году в структуре Московской высшей школы социальных и экономических наук Чаяновского исследовательского центра – научного подразделения, задачей которого являются историко-архивные изыскания и исследования произведений А.В. Чаянова и его коллег, а также поиски возможностей развития и применения идей школы Чаянова к современным процессам в социально-экономической и культурной жизни[2 - Сайт Чаяновского исследовательского центра https://chayanov.org/ru/.].
Идею создания Чаяновского исследовательского центра горячо поддержал президент Московской высшей школы социальных и экономических наук профессор Теодор Шанин – один из крупнейших социологов нашего времени, проницательный исследователь чаяновского наследия, оказавший огромное влияние на мое становление и развитие как ученого. Памяти Теодора Шанина – моего дорогого учителя и друга, неоднократно и настоятельно рекомендовавшего мне написать о Чаянове отдельный труд, я посвящаю эту книгу. Я выполнил его завет.
Я выражаю искреннюю благодарность и признательность моим коллегам и друзьям по Чаяновскому исследовательскому центру МВШСЭН и Центру аграрных исследований РАНХиГС Ирине Владимировне Троцук, Татьяне Александровне Савиновой, Владиславу Олеговичу Афанасенкову, Марине Геннадиевне Пугачевой, Любови Александровне Овчинцевой, Александру Алексеевичу Артамонову, Александру Александровичу Куракину, Тимуру Юрьевичу Гусакову, Илье Константиновичу Полещуку, Наталье Алексеевне Алуферовой, Тиграну Григорьевичу Арутюнову за ценные рекомендации и доброжелательные советы и помощь в моей работе над чаяновскими материалами и сюжетами.
Особую признательность выражаю замечательному ученому – специалисту в области аграрной истории России XIX–XX веков Игорю Анатольевичу Кузнецову, чей высокий профессионализм стал для меня эталоном добросовестного и критического изучения эпохи Чаянова.
Я благодарю моих иностранных коллег в осмыслении значения школы Чаянова в международном региональном контексте аграрного развития: немецких историков и географов Штефана Мерля, Катю Бруиш, Петера Линднера, Себастиана Ленца, швейцарского филолога Элиан Фитце, английского историка и географа Джудит Пэллот, французского историка Алексиса Береловича, голландских социологов Оане Виссера, Джуна Сатурнино Борраса и Яна Дауве ван дер Плуга, американских политологов Джима Скотта и Стивена Вегрена, бразильских социологов Сержио Шнайдера и Пауло Нидерле, японского историка-экономиста Садаму Кодзиму.
Наконец, особую благодарность выскажу членам моей семьи – жене Екатерине, детям Арине и Константину, терпеливо и с пониманием относившимся к моим бесконечным занятиям по изучению наследия Чаянова, порой становившимся своего рода волонтерами в научно-вспомогательной работе моих чаяноведческих изысканий.
Я искренне надеюсь, что публикация этой книги вызовет новый интерес у представителей социальных и гуманитарных наук к переоткрытию и развитию идей школы Чаянова для междисциплинарных изысканий и поиска решений в социально-экономических и культурных преобразованиях нашего времени.
Часть 1. Утопия и культура
Глава 1. Чаяновские утопии: оптимизируя релятивизм альтернатив
Неужели я сделался героем утопического романа?..
Что ожидает меня за этими стенами?
Благое царство социализма, просветленного и упрочившегося?
Дивная анархия князя Петра Алексеевича Кропоткина?
Вернувшийся капитализм?
Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?
А. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии
Прежде чем приступить к анализу чаяновских утопий, необходимо назвать три важнейшие черты мировоззрения Чаянова, коренным образом определяющие как научные, так и фантастические особенности его произведений.
Первая. Анализируя историю, современность, будущее, Чаянов постоянно мыслит альтернативами человеческого существования и сосуществования самых различных социальных форм в их отношениях соперничества и сотрудничества.
Вторая. Чаянов с позиций последовательного релятивизма рассматривает особенности развития человеческого общества, постоянно подчеркивая, как много относительного имеется в мире социальных форм и отношений, где нет абсолютно верных альтернатив социальному развитию и полностью совершенным формам социальной жизни.
Третья. Во взаимодействии и развитии социальных форм и институтов между собой, по Чаянову, необходимо искать пути оптимальных компромиссов, результатом которых может быть опять же относительно устойчивое и гармоничное развитие человеческого общества. Но такое относительно благополучное динамичное равновесие со временем нарушается новыми альтернативами неизведанных социальных и технических открытий, изобретений, поступков человечества, а значит, и поиском между ними новых, относительно оптимизирующих компромиссов.
Итак, на основе анализа трех утопических произведений А.В. Чаянова – «Опыты изучения изолированного государства» (1915-1923), «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920), «Возможное будущее сельского хозяйства» (1928) – исследуем системные элементы чаяновского научного, художественного и футурологического мировоззрения.
В каждой своей утопии Чаянов конструировал различные модели социального развития. Вопреки социальным кризисам первой трети XX века ученый стремился компромиссно оптимизировать противоречия между городом и деревней, индустрией и сельским хозяйством, крестьянством и капитализмом-государством, наукой и искусством, личностью и обществом. На стремлении достичь гармонических оптимумов развития человеческого общества фактически основывается утопическая релятивистская этика чаяновского аграризма, подвергаемая в данной работе критическому анализу.
Оптимизируя «эпоху катастроф»
Необходимо отметить чрезвычайную социально-политическую интуицию Чаянова, позволившую ему одним из первых среди современников почувствовать глубинные изменения в скоротечном духе своего времени – 1910-1930-х годах, так точно названном британским историком Э. Хобсбаумом эпохой катастроф, то есть эпохой войн и революций, эпохой кризисов и диктатур[3 - Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914-1991). М.: Независимая газета, 2004. С. 102–304.]. Ведь и очередное обращение Чаянова к утопическому конструированию, как правило, совпадает с новыми катастрофическими шагами в эволюции общественной жизни России и мира первой трети XX века. Так, например, через год после начала Первой мировой войны Чаянов одним из первых социальных мыслителей ставит вопрос о наступлении возможно длительного периода становления и усиления автаркического существования государств, что косвенным образом находит свое выражение в абстракциях его первой утопии «Опыты изучения изолированного государства», начатой в 1915 году и завершенной уже после революции, в 1923 году.
В разгар экономики военного коммунизма, в 1920 году, Чаянов, словно предчувствуя скорый и неминуемый кризис этой милитаристко-пролетарской химеры, создает головокружительно смелую антиутопическую противоположность в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии».
Наконец, накануне «великого перелома», на волне роста индустриальных мечтаний первой пятилетки, в 1928 году Чаянов публикует свой технократический утопический прогноз «Возможное будущее сельского хозяйства».
Эти утопические произведения чрезвычайно различны по жанрам. Утопия 1915-1923 годов написана в жанре маржиналистско-абстрактного трактата по мотивам «Изолированного государства» великого немецкого аграрника-экономиста И. Г. Тюнена[4 - Тюнен И.Г. Изолированное государство. М., 1926.]. Вторая утопия представляет собой жанр художественно-фантастической повести-сказки. Третья создана в жанре научно-технократического прогноза. Во всех этих жанрах Чаянов чувствует себя как рыба в воде – всем трем произведениям присущ разнообразно пластичный, но неизменно высокопрофессиональный стиль мастера.
Необходимо отметить по крайней мере еще две важные характерные черты чаяновских утопических конструкций, делающие его утопии такими объемными и динамичными, что на их фоне большинство остальных известных нам утопий оказываются слишком плоскостными и статичными.
В каждой из своих утопий Чаянов особо оговаривает динамику трансформации пространства и времени. Что касается пространства, ученый много внимания уделяет упоминанию и описанию региональных, локальных факторов утопических пространств, обладающих собственными структурно образующими границами, порой надежно изолирующими ту или иную страну или регион для наиболее полного воплощения возможностей их внутренних регионально-природно-культурных особенностей развития. Что касается времени, то в каждой из утопий Чаянов конструирует некий временной континуум, на хронологической шкале которого выделяет и анализирует особенности и варианты возможных социальных бифуркаций в поисках оптимумов форм общественной жизни как среди уже известных, так и возможно наступающих кризисов развития природы и общества.
Иногда финал своих особо концептуальных академических статей и книг Чаянов мог завершить неким патетически эмоциональным провидением будущего. Например, мы в этом убеждаемся на последней странице его монографии «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации», опубликованной в 1927 году:
В критические моменты нашей, а также и Великой французской революции, когда государственный аппарат колебался под ударами врагов, народные вожди не раз выбрасывали лозунг «К массам!» и бросали в борьбу стихию народных масс, своею мощью спасавшую положение ‹…› В тот час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, когда экономический кризис и удары организованного заграничного капиталистического противника будут сметать наши сложные предприятия, для нас возможен единый верный путь спасения, неизвестный и закрытый капиталистическим организациям, путь этот – переложить тяжесть удара на плечи того Атланта, которым держится вся наша работа, на плечи крестьянского хозяйства, на его рабочую сопротивляемость, на его сознательность. А для того чтобы они не уклонились от тяжести, нужно, чтобы они чувствовали, знали, сжились с тем, что дело сельскохозяйственной кооперации – их крестьянское дело! Чтобы это дело тоже было действительно мощным социальным движением, а не предприятием только! Нужна кооперативная общественность деревни, кооперативное крестьянское общественное мнение. Без них кооперация будет всегда в опасности и всегда в состоянии неустойчивого равновесия[5 - Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991. С. 412–413.].
Столь обширный отрывок из заключения знаменитой работы Чаянова приводится здесь для того, чтобы также обнаружить в нем фактически все основные понятия чаяновской социальной теории, применение которой демонстрирует, как среди социальных кризисов, колеблющих равновесие (устойчивое и неустойчивое), определяется треугольник взаимоотношений «государство – предпринимательство – крестьянство (кооперированное)» и происходит поиск между ними оптимумов социально-политических решений, принимаемых вождями (элитами) в согласии с массами[6 - Критику идеологической линии Чаянова во взаимодействии с советской властью см. в статье: Соболев А. В. Александр Васильевич Чаянов: смена вех // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2015. № 6. С. 3–9.].
Это нахождение (и даже вычисление) оптимума теоретико-экономического и социально-политического в условиях неустойчивого, порой кризисного равновесия экономического и политического часто есть главная цель и вывод, заключительный аккорд типичного чаяновского аналитического текста.
Исследователи творчества Чаянова любят подчеркивать его вклад в обоснование и развитие теории дифференциальных оптимумов сельскохозяйственных предприятий[7 - Чаянов А. В. Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий. М., 1928.], определенным образом интегрирующих фактически все его аграрно-экономические исследования. Например, И. Виноградова и В. Чаянов так суммируют сельскохозяйственную суть чаяновских оптимумов: «Оптимум имеется там, где при прочих равных условиях себестоимость получаемых продуктов будет наименьшей. Оптимум зависит от природно-климатических, географических условий, биологических процессов. Все элементы себестоимости в земледелии Чаянов разделил на три группы:
1) уменьшающиеся при укрупнении хозяйств (административные расходы, издержки по использованию машин, построек);
2) увеличивающиеся при укрупнении хозяйств (транспортные издержки, потери от ухудшения контроля за качеством труда);
3) не зависящие от размеров хозяйств (стоимость семян, удобрений, погрузочно-разгрузочные работы). Оптимум сводится к нахождению точки, в которой сумма всех издержек на единицу продукции будет минимальной»[8 - Виноградова И.Н. Социальные аспекты учения А.В. Чаянова // Материалы III Чаяновских чтений. М., 2003.].
Это действительно емкое и добротное определение чаяновских оптимумом, в котором, впрочем, не упомянуто столь важное для Чаянова понятие динамики аграрно-экономической интенсификации, к тому же сформулированное лишь к прикладной точке зрения экономики сельского хозяйства. А ведь, подчеркнем еще раз, Чаянов был не просто аграрником-экономистом, но прежде всего социальным мыслителем, который стремился определить возможные оптимумы для фундаментальных, базисных социальных процессов общественного развития в их интенсифицирующейся динамике противоречий и кризисов.
Здесь, конечно, невозможно было опереться лишь на социально-экономическую статистику, в прошлом и настоящем всегда неполную, а в будущем, естественно, отсутствующую. И тогда чаяновское мышление смело устремлялось через конструирование разнообразных социальных моделей альтернативного существования общества к прогнозированию возможных тенденций и вариантов эволюции человечества, тем самым фактически вступая в мир утопий.
Чаще всего исследователи творчества Чаянова анализируют его знаменитую фантастическую повесть-сказку «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Но и в ряду других, прежде всего научных произведений ученого, на наш взгляд, вполне можно обнаружить признаки утопического мышления, конструирующего утопию. Наше утверждение относится в первую очередь к таким его абстрактно-теоретическим работам, как «К теории некапиталистических систем хозяйства», «Опыты изучения изолированного государства». Кроме того, сам Чаянов наделял статусом утопии свою последнюю футурологичесую повесть «Возможное будущее сельского хозяйства».
Обратимся к последовательному анализу каждой из трех утопий.
Оптимизируя тюненовскую модель через противостояние села и города, крестьянства и капитализма
Первой чаяновской утопией (весьма своеобразной) следует признать его работу «Опыты изучения изолированного государства» – этюды об экономике изолированного государства-острова, созданные между 1915-1922 годами и опубликованные в окончательном виде в 1923 году[9 - Чаянов А. В. Опыты изучения изолированного государства // Очерки по экономике сельского хозяйства. М., 1923. С. 117–144.]. С началом Первой мировой войны Чаянов пристально анализировал процессы дезинтеграции мирового рынка вообще и сельскохозяйственного в особенности и уже в 1914 году опубликовал соответствующий экономико-аналитический обзор[10 - Чаянов А. В. Война и крестьянское хозяйство. М., 1914.]. В 1915 году он перешел от анализа эмпирических свидетельств автаркизации мирового и крестьянского хозяйства к абстрактному моделированию взаимоотношения капиталистической и крестьянской экономик в автаркическом пространстве.
Используя мировоззренческие принципы модели И. Г. Тюнена[11 - Модель изолированного государства И. Г. Тюнена, созданная автором в середине XIX века, до сих пор остается источником вдохновения для ее дальнейшего развития и применения среди многих ученых-обществоведов самых различных профессий. Достаточно сослаться, например, на статью Б. Родомана: Родоман Б.Б. Модель Тюнена и теоретическая география // Вестник географии МГУ. 1987. № 4. С. 35–40. Применительно к аграрной экономике времен А.В. Чаянова чрезвычайно ценным является анализ, проделанный в статье: Кузнецов И.А. Российская аграрно-экономическая мысль в тюненовской перспективе (1875-1925) // История мысли. Русская мыслительная традиция. Вып. 6 / под ред. И. П. Смирнова. М., 2013. С. 376–411.], Чаянов строит собственную модель изолированного государства, которое для пущей изоляции называет государством-островом. Цель этой абстрактно-маржиналистской работы заключается, во-первых, в рассмотрении проблемы соотношения сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности человека, а во-вторых, в сопоставлении крестьянской и капиталистической форм хозяйства в виде ряда абстрактных экономических теорем, конституирующихся в модели изолированного государства.
В этой утопии две главы: глава 1. Проблема населения в изолированном государстве-острове; глава 2. Трудовое и капиталистическое хозяйство в изолированном государстве-острове. Каждая глава состоит из девяти параграфов, которые распадаются на отдельные пункты. Как и полагается маржиналистскому произведению, к тому же применяемому к тюненовской геометрии центрально-периферийных пространств, эта небольшая по объему работа изобилует таблицами и графиками-рисунками: на 30 страницах уместились 30 таблиц и 7 рисунков.
Этот пространственно-маржиналистский трактат начинается с ряда абстрактно-теоретических допущений:
• существует некоторое изолированное государство-остров, в центре которого расположен город-рынок;
• площадь острова составляет 10 млн десятин плодородной земли;
• один единственный пищевой продукт А удовлетворяет все человеческие потребности в пище в размере «400 пудов в год на работника и связанных с ним домочадцев»[12 - Чаянов А. В. Опыты изучения изолированного государства // Очерки по экономике сельского хозяйства. М., 1923. С. 79.];
• единственный продукт городской промышленности Т удовлетворяет все другие потребности человека и производится в количестве 10 пудов при неизменной производительности труда;
• производство продукта А происходит по законам убывающего плодородия почвы;
• транспортные издержки равны нулю;
• средства и орудия производства изготавливают сами производители;
• в стране нет частной собственности;
• в изолированном государстве-острове чрезвычайно быстро растет население;
• в конце первой главы, в параграфе 9 допускается, что эта страна может «входить в сношение с другими странами, отличающимися от нее по степени густоты населения»[13 - Чаянов А. В. Опыты изучения изолированного государства // Очерки по экономике сельского хозяйства. М., 1923. С. 88.].
Чаянов, конечно, признает, что выдуманная им система хозяйственной жизни данной страны «до крайности упрощенная»[14 - Чаянов А. В. Опыты изучения изолированного государства // Очерки по экономике сельского хозяйства. М., 1923. С. 80.]. Несмотря на это, он далее очень уверенно начинает оперировать предложенными собственными условиями, стремясь ответить на целый ряд вопросов, связанных с центральной проблемой исследования – изменение степени интенсивности земледелия во взаимодействии города и села в данной утопической стране. Через обширную галерею таблиц и графиков он приходит к выводу о первенстве сельского (крестьянского) хозяйства в его соревновании с городской экономикой.
Глава вторая начинается с введения в нее новых условий, в некоторой степени преодолевающих упрощения главы первой:
• признаются транспортные издержки;
• появляется частная собственность на землю;
• имеются капиталистические хозяйства;
• территория острова увеличена до 25 млн десятин;
• данная территория разделяется на пять концентрических зон;
• оговорены конкретные издержки транспорта для продуктов А и Т.
Затем опять следует каскад таблиц и графиков, варьирующих различные альтернативы взаимодействия трудовых и капиталистических хозяйств. В параграфе 17 предполагаются даже серьезные политические осложнения:
Примем, что небольшая группа граждан нашего города силою оружия или каким-то иным способом овладевает другим таким же островом, как их родина, и устанавливает на ней режим частной собственности на землю. При этом они получают возможность переселять к себе на остров избыточное население с первого острова, благодаря чему оно наводняет второй остров в качестве наемных рабочих, которым дают ту же заработную плату, как и на первом острове[15 - Чаянов А. В. Опыты изучения изолированного государства. С. 108.].
При любых разнообразно абстрактных условиях и вытекающих из них вариантов как первой, так и второй главы в своих выводах всякий раз Чаянов демонстрирует, как в его утопическом государстве-острове (и даже островах) трудовое земледельческое население возрастает, а городское население и капиталистическое хозяйство уменьшаются вопреки очевидным социально-экономическим реалиям ХХ века. В целом, как подчеркивает вдумчивый критик чаяновской утопии И. А. Кузнецов, «логика принятой Чаяновым теории аграрного развития была однозначна: интенсификация земледелия ведет к аграризации и деиндустриализации страны. Трудовое крестьянское хозяйство эффективнее, чем капиталистическое. Однако эти выводы, особенно тот, что по мере интенсификации сельского хозяйства городское население должно сокращаться, откровенно противоречили действительности и тем самым демонстрировали абсурдность исходных предпосылок…»[16 - Кузнецов И. А. Российская аграрно-экономическая мысль в тюненовской перспективе (1875-1925) // История мысли. Русская мыслительная традиция. Вып. 6 / под ред. И.П. Смирнова. М., 2013. С. 403.].
В следующей утопии, написанной в принципиально иной манере, не маржиналистско-тюненовского трактата, а художественно-фантастической повести, Чаянов ввел много новых и разнообразных предпосылок, но и они, как оказалось, свидетельствовали лишь в пользу новых замечательных перспектив крестьянства.
Оптимизируя динамику артистического популизма: 1984 год
Повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», пожалуй, самое знаменитое произведение Чаянова, в котором синтезированы его важнейшие социально-экономические и философско-эстетические воззрения[17 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии // Венецианское зеркало: Повести. М.: Современник, 1989.]. Именно эта повесть заслуженно привлекала и будет привлекать внимание специалистов различных социальных дисциплин, интерпретирующих ее самыми разнообразными способами, часто с весьма противоречивыми выводами[18 - См., например: Фигуровская Н.К., Симонов В.В. Вопросы А. В. Чаянова // Социокультурные утопии XX века. Вып. 6. 1988; Герасимов И. Душа человека переходного времени: случай Александра Чаянова. Казань: АННА, 1997; Raskov D. Socialist Agrarian Utopia in the 1920s: Chayanov // Oeconomia. 2014. № 4. Р. 123–146.].
Эта повесть создавалась на стыке Гражданской войны и политики военного коммунизма в России, когда от имени красной и белой биполярной ортодоксии страна погрузилась в пучину всеобщей вражды. Чаянов, словно отталкиваясь от ужасов окружающей его военно-революционной разрухи и кровавого ожесточения борющихся сторон, переносится с помощью своего воображения в культурную, демократическую, между прочим, банально сытую и уютную сказочную Россию конца ХХ века, соответствующую, по-видимому, самым сокровенным желаниям автора.
Сюжет повести таков. В октябре 1921 года[19 - Между прочим, чаяновская повесть была опубликована в 1920 году. Следовательно, повесть уже начинается в будущем, пусть и не столь отдаленном. Уже с первых строчек мы находимся в близлежащей утопии, из которой ее главный герой через две главы повести и 63 года XX века попадает в новую утопию.] ответственный советский служащий, один из высокопоставленных деятелей большевистской партии Алексей Кремнев, размышляя в своем рабочем кабинете о текущих событиях общественно-политической жизни, задается вопросом о возможных альтернативах развития человечества. Наедине с собой Кремнев не скрывает своего скептицизма: к 1921 году мировая революция везде победила, кажется, уже повсюду торжествует военный коммунизм со всеми его прелестями обобществления всего и вся вплоть до семейной жизни, всеобщей уравнительностью и повседневным продуктово-продовольственным дефицитом[20 - Современную оценку феномена экономики военного коммунизма см.: Воейков М.И. Огосударствление экономики: уроки истории и идеологии (к 100-летию «военного коммунизма») // Россия и современный мир. 2019. № 4 (105). С. 6–23.].
Размышляя, Кремнев намазывает масло на хлеб и запивает его кофе, добытыми на Сухаревском (черном, то есть незаконном) рынке. В рассеянности пробегая взглядом по корешкам книг в своем кабинете, на которых в основном красуются фамилии знаменитых интеллектуалов-социалистов различных оттенков, Кремнев, раскрыв томик Герцена, читает его пророчество о том, что социализм не вечен и его в будущем может постигнуть судьба реакционно-консервативного учения, что на смену социализму, возможно, придет некая новая грядущая революция.
Кремнев с иронией относится к этому пророчеству, полагая, что ни социалисты, ни тем более либералы, у которых вечно туго с утопиями, не в состоянии придумать никакого принципиально нового загадочного и прекрасного мира будущего. Задолго до Френсиса Фукуямы Алексей Кремнев переживает ощущение конца истории, как вдруг теряет сознание и приходит в себя лишь в следующей главе повести – в сентябре 1984 года, в утопической Москве, в утопической России.
Итак, очнувшись от сна, из окна он видит с одной стороны так хорошо знакомые ему старинные исторические здания Москвы и Кремль, с другой стороны – бесконечные парки и сады на месте также знакомых многоэтажек конца XIX – начала ХХ века. Первое впечатление Кремнева: «Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преображенная и просветленная»[21 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии // Венецианское зеркало: Повести. М.: Современник, 1989. С. 165–166.].
Профессиональный обществовед Кремнев сразу догадывается, что странным образом попал в страну утопии, и мучительно предполагает, с какого рода социальной системой будущего ему предстоит иметь дело. В поисках ответа он всматривается из окна в прохожих на улицах, признавая, что «люди живут на достаточно высокой ступени благосостояния и культуры…»[22 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 166.] Предметы в его комнате «…в большинстве были обычными вещами, выделявшимися только тщательностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был сильно русифицированный Вавилон»[23 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 166.].
Роясь в книгах и газетах, судорожно читая загадочные фразы про крестьянство, эпоху городской культуры, англофранцузскую изолированную систему, Кремнев оказывается в доме гостеприимного семейства интеллектуалов Мининых, которые, приняв его за ожидавшегося ими американца, с удовольствием показывают и объясняют Кремневу особенности жизни страны.
Кремнев убеждается, что Москва изменилась поразительно: снесена гостиница «Метрополь», в живописных руинах лежит Храм Христа Спасителя, фактически снесены все высотные здания эпохи модерна. Москва и Подмосковье представляют собой сплошной город-сад, где кварталы уютных и невысоких домов перемежаются обширными садами и парками. Из центра Москвы по Тверским-Ямским улицам, мимо аллей Петровского парка Кремнев на автомобиле приезжает в дом Мининых в Архангельском, знаменитое имение Юсуповых, в конце ХХ века преобразованное в высшую школу для воспитания юношей и девушек «Братство святых Флора и Лавра»: «Братство владело двумя десятками огромных и чудесных имений, разбросанных по России и Азии, снабженных библиотеками, лабораториями, картинными галереями, и, насколько можно было понять, являлось одной из наиболее мощных творческих сил страны»[24 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 176.].
Между Москвой и Архангельским и далее на сотни верст в разные стороны простирались крестьянские дома и поля с тремя-четырьмя десятинными наделами, отгороженными между собой кулисами тутовых и фруктовых деревьев.
С членами семьи Мининых Алексей ведет постоянные беседы об искусстве, в особенности о живописи, о культурной и политической жизни утопической страны. Он убедился, что и в конце ХХ века в России семья остается семьей, где несколько поколений любят собираться дружной компанией за обеденным столом, вкушая яства домашней кухни.
Семейство путешествует дальше, отправляясь на ярмарку в Белую Колпь в окрестностях Волоколамска. Приходится продвигаться между телегами и автомобилями, набитыми веселыми крестьянскими парнями и девками, одеждой и внешним видом ничуть не отличающимися от представителей интеллектуального семейства Мининых.