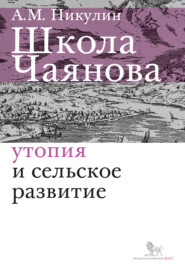скачать книгу бесплатно
Ярмарка оказывается не только средоточием торговли всякими вкусностями и сладостями, но и местом продаж произведений искусства мирового класса. В местной торговой палатке крестьяне приобретают картины Венецианова, Кончаловского и даже «Христа-отрока» Джампетрино, которого искушенный в живописи Алексей Кремнев любил в свое время рассматривать в залах Румянцевского музея. Вообще в этой утопической стране господствуют вкусы великих искусств, здесь, кажется, нет ни поп-арта, ни поп-культуры. Некоторый элемент развлекательной культуры заключается лишь в павильоне восковых фигур – двигающихся автоматов. Зайдя в него вместе с семейством Мининых, Кремнев среди Цезаря, Наполеона, Ленина, Шаляпина вдруг находит самого себя. Надпись под этим манекеном гласит: «Алексей Васильевич Кремнев, член коллегии Мирсовнархоза, душитель крестьянского движения России. По определению врачей, по всей вероятности, страдал манией преследования, дегенерация ясно выражена в асимметрии лица и строении черепа»[25 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 192.]. Конечно, после такого сходства все окружавшие Алексея поразились, смутились, а кто-то почувствовал что-то неладное.
Тем не менее путешествие и познание утопической страны еще некоторое время продолжалось для Кремнева, пока вдруг не пришло известие о внезапном нападении Германии на Россию, почти тут же совпавшее с арестом Кремнева, заподозренного в шпионаже. В утопической стране тюрьмы оказались такими же комфортабельными, как и остальные социальные учреждения. Вызванный из тюрьмы на допрос Кремнев чистосердечно рассказал, кем он является на самом деле. Специальная комиссия, состоявшая не только из следователей, но и из ученых-историков, внимательно расспросив Алексея, пришла к выводу, что он много читал книг по истории русской революции и даже работал в архивах, но ему так и остались недоступными дух эпохи, смысл ее исторических событий, а потому в нем никак нельзя признать современника революции. Опустошенный Алексей был отпущен на все четыре стороны, а тут как раз и война для России победоносно завершилась. Так заканчивается повесть А.В. Чаянова.
Центральными главами утопии являются беседы Алексея Кремнева с Миниными старшим и младшим, которые доброжелательно и старательно на нескольких страницах книги излагают историю, культурное и социально-политическое устройство своей страны. Дополнительной информацией Алексей постоянно подпитывается, читая местные газеты, журналы, книги и созерцая окружающую его действительность.
В результате перед Алексеем последовательно раскрывается картина исторической эволюции России и мира, в которой, несмотря на победу мировой революции, консолидация социалистических сил оказалась хрупкой по ряду причин, одной из которых являлся банальный национализм. Германия вновь объявила войну Франции: «Постройка мирового единства рухнула, и началась новая кровопролитная война…»[26 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 180.]. В итоге к концу ХХ века мир распался на пять замкнутых народно-хозяйственных систем – англо-французскую, немецкую, америко-австралийскую, японо-китайскую и русскую: «Каждая изолированная система получила различные куски территории во всех климатах, достаточные для законченного построения народнохозяйственной жизни, и в дальнейшем, сохраняя культурное общение, зажила весьма различной по укладу политической и хозяйственной жизнью»[27 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 180.].
В Англо-Франции и Америко-Австралии произошла реставрация капитализма. Японо-Китай стал монархией, сохраняя своеобразные формы социалистического народного хозяйства. Германия стремилась сохранить строй ортодоксально плановой социалистической экономики.
В России была своя собственная история социально-политической эволюции. Здесь в начале 1930-х годов крестьянство получает большинство во всех органах власти. В 1934 году, кажется, крестьянская партия окончательно приходит к власти, и на съезде Советов проводится декрет об уничтожении городов. Восстание городов в 1937 году под руководством некоего Варварина было подавлено, и после этого развернулись еще более кардинальные работы по трансформации сельско-городской местности России, связанной с разрушением городов, насаждением сплошь «сельско-мало-городской-крестьянско-культурно-парковой системы расселения». В результате ко времени посещения Алексеем утопической Москвы на сотни верст от нее и во всех обитаемых российских пространствах возник свое образный сельско-городской континуум-симбиоз народно-хозяйственной жизни. Например, чисто городское население Москвы не превышало 100 тыс. человек, при этом на территории Москвы имелось гостиниц на 4 млн человек, необходимых для повсеместно мобильного населения, использующего великолепные пути сообщения будущего. Менее крупные, чем Москва, так называемые городища на месте бывших больших и малых городов представляли собой фактически большие или меньшие узлы социальных связей страны, включающие в себя, конечно, не только гостиницы, но и школы, библиотеки, театры, клубы. Разнообразные и разветвленные формы транспортного сообщения способствовали территориальному расселению, то более сгущенному, то более разреженному, по типу фактически единых сельско-городских поселений.
Экономика этой страны носит многоукладно рыночный характер, объединяет в себе государственные, кооперативные, муниципальные и даже капиталистические формы хозяйства. Последние в стране крестьянской утопии подвергаются особо тщательному контролю и повышенному налогообложению, тем не менее такой прирученный капитализм сохраняется в качестве стимула индивидуальной предприимчивости и всеобщей народно-хозяйственной конкуренции. Государство в экономике этой страны обладает монополией на основные природные ресурсы. Муниципальный сектор достаточно самостоятелен и развит как в политико-культурном, так и в социально-экономическом смысле. Но в сердцевине этого народно-хозяйственного строя, по словам Алексея Минина, «так же, как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство ‹…› В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник – творец, каждое проявление его индивидуальности – искусство труда»[28 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 183.].
Именно крестьянское хозяйство, конечно, через различные формы кооперации, связанные со всеми экономическими и культурными укладами, считается совершеннейшей организацией в утопической России.
В политическом плане эта страна представляет собой федерацию, где в ведении преимущественно центральной власти находятся суд, государственный контроль и некоторые учреждения путей сообщения. Во всех остальных сферах, а также уровнях политической организации допускается значительное разнообразие и самоуправление. Например, Алексей Минин рассказывает: «В Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели „удельного князя“, правда, ограниченного властью местного совдепа, а на Монголо-Алтайской территории единолично правит „генерал-губернатор“ центральной власти»[29 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 197.].
Герои Чаянова не оперируют понятиями и категориями гражданского общества, но фактически его они и описывают, заявляя: «Мы считаем государство одним из устарелых приемов организации социальной жизни.
/
нашей работы производится методами общественными, именно они характерны для нашего режима: различные общества, кооперативы, съезды, лиги, газеты, другие органы общественного мнения, академии и, наконец, клубы – вот та социальная ткань, из которой слагается жизнь нашего народа как такового»[30 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 197.].
Тем не менее упомянуто, что, несмотря на политико-культурный плюрализм этой крестьянской державы, где в отличие от большевиков не разбивали и не разбивают морду любому инакомыслящему, «в случае реальной угрозы политическому строю пулеметы здешней крестьянской власти работают не хуже большевистских»[31 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 197.].
Более всего Алексея Кремнева интересовали идеология и внутренняя организация властных элит страны крестьянской утопии. Один из колоритнейших представителей этой элиты, Алексей Минин, подчеркнул, что для нее в XX веке вопросы культурного влияния и развития были не менее, а, пожалуй, более важны, чем вопросы экономические.
Именно поэтому крестьянские идеологи и вожди в предшествующие десятилетия своего правления стремились свершить культурную революцию в деревне – вырвать ее из естественного закисания и опрощения традиционной сельской жизни. Они пробуждали социальную энергию масс, направляя в глубинку все элементы культуры, которыми располагали «уездный и волостной театр, уездный музей с волостными филиалами, народные университеты, спорт всех видов и форм, хоровые общества, все вплоть до церкви и политики было брошено в деревни для поднятия ее культуры»[32 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 198.].
Параллельно крестьянские элиты, конечно, стремились выработать научные основы управления обществом. В утопии неоднократно встречаются ссылки на фундаментальные общественно-политические труды крестьяноведов-теоретиков, например на книгу некоего А. Великанова «Развитие крестьянского общественного мнения в ХХ веке» или на труды классика местной социологии А. Брагина «Скорость социальных процессов и методы их измерения», «Теория создания, поддержания и разрушения репутаций», «Теория политического и общественного влияния»[33 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 215.].
Таким образом, всяческая поддержка развития местной инициативы и самоорганизации сопровождалась одновременно индивидуальным поощрением и подбором творческих натур во всех областях человеческой деятельности – от политики и техники до науки и искусства.
Когда Алексей Кремнев обвинил своего собеседника Алексея Минина в том, что описываемый им порядок управления, в сущности, есть утонченная олигархия двух десятков честолюбцев, напоминающих ему каких-то антропософов и франкмасонов, Минин непоследовательно и неубедительно возражал его упрекам. При этом с фанатизмом воодушевления лишь уточнил, что он и его команда есть прежде всего «люди искусства»[34 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. С. 201.].
В целом чаяновское «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» представляет собой какой-то консервативно-традиционалистский «арт-поп» – артистический популизм, провидчески стремящийся противостоять грядущему культурному перевороту, который во второй половине XX века совершат поп-арт и постмодерн.
В этой утопической повести есть много сбывшихся и несбывшихся пророчеств. Из сбывшихся, пожалуй, особо сильное впечатление производит и сама избранная дата утопии – 1984 год, которая окажется впоследствии излюбленным числом для многих утопистов и футурологов XX века. Конечно, надо отметить предсказание разрушения Храма Христа Спасителя и появление диктатора Варварина в 1937 году. Также, безусловно, заслуживает внимания фактически сбывшееся предсказание Чаянова о постоянном воспроизводстве многополярного международного мира, в котором социально-экономический кризис постигает именно те страны, которые в идеологической ортодоксии не меняют основ своей моноукладной огосударствленной политики, как совхозная Германия, в результате терпящая поражение.
Из несбывшегося пророчества кажется, что чаяновской сельско-утопической Москве противостоит по всем статьям нынешняя, реальная урбанистическая Москва конца XX – начала XXI века. Впрочем, на наш взгляд, как раз именно в этой гиперурбанистической Москве можно обнаружить и латентно гиперсельские черты, которые явно проступали, например, в кризис 1990-х годов в экспансии подмосковного дачного строительства, в 2000-е годы – в экспансии коттеджной субурбии, а также в сохраняющемся мощном московском сельхозпроизводстве[35 - Более подробный анализ значения сельскости в экономике и общественной жизни современного мегаполиса Москвы см. в статье: Никулин А. М., Никулина Е. С. Москва: из «большой деревни» в «мегасело» // Дружба народов. 2016. № 9. С. 215–223.].
Все же главным политическим пророческим провидением этой утопии, на наш взгляд, является утверждение чрезвычайно важного значения политической модели экономико-культурного доминирования избранной утопической идеологии, осуществляемого сплоченной (именно сплоченной) командой олигархов (честолюбцев и эстетов по Чаянову)[36 - О значении олигархизма в советский период см., например: Кронрод Я.А. Соцолигархизм как псевдосоциализм XX века // Очерки социально-экономического развития ХХ века. М.: Наука, 1992. С. 192–233.]. Причем эти олигархи-крестьяноведы столь высоокобразованны и благородны в своем последовательном стремлении созидания общества всеобщего культурного благогосостояния, что, в сущности, они являются не столько олигархами, сколько аристократами крестьянского духа Москвы 1984 года, стремящимися к тому же всячески демократизировать политическую и культурную жизнь чаяновской утопии.
По прошествии XX века мы и сегодня убеждаемся, что по крайней мере в России сплоченная олигархия советского типа, придерживающаяся идеалов симбиоза экономики и культуры, не только на словах, но и на деле могла добиваться впечатляющих результатов. Впрочем, Чаянов, в случае кризиса утопической Англо-Франции упоминая об «олигархическом вырождении» ее политической системы, кажется, не рассматривал этот негативный момент применительно к России.
Оптимумы рационально-эстетского аграризма и постаграрного будущего
Третья утопия А.В. Чаянова – «Возможное будущее сельского хозяйства»[37 - Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии / под ред. Арк. А-на, Э. Кольмана. М.; Л.: Московский рабочий, 1928. С. 260–285.], опубликованная в сборнике статей «Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии», – была написана накануне коллективизации, и, следовательно, ее автор из-за усиливающихся политических гонений уже был вынужден избегать конкретных социальных прогнозов, предпочитая концентрироваться на прогнозах научно-технических[38 - Например, во всей этой утопии почти ни разу не встречаются слова «крестьянство», «крестьянский».].
Год появления этой утопии (1928) ознаменовался печально знаменитым кризисом хлебозаготовок, повлекшим разрыв нэповской смычки города и деревни, который большевистское руководство стремилось, с одной стороны, преодолеть через внеэкономическое принуждение крестьян к сдаче хлеба, а с другой – форсировать амбициозные планы индустриального развития первой пятилетки.
Возможно, именно в предчувствии надвигающихся «великого перелома» коллективизации и «большого скачка» индустриализации во введении к последней утопии Чаянов постулирует в начале не только определенное отличие аграрной отрасли от индустриальной, но и обещает показать в финале своей утопии, как в конце концов агрикультурное развитие закончится «окончательной катастрофой и отменой земледелия», после чего в сельском хозяйстве лишь ненадолго останутся «декоративное садоводство, превращающее в парки поверхность нашей планеты, да, пожалуй, изготовление некоторых фруктов и вин, тонкая ароматность и вкусовые качества которых все-таки еще долго не смогут быть заменены продуктами массового производства»[39 - Чаянов А.В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 335.].
Временной горизонт утопии составляет, по словам самого автора, 50-100 лет. Это чаяновское уточнение важно для нас: прибавив к 1928 году 50 лет, мы, как уже теперь знаем, попадаем в разгар «зеленой революции» конца 1970-х годов, а прибавив еще лет 50 (то есть оказавшись на 10-12 лет впереди нашего времени), мы можем вообразить апогей современной биотехнологической революции.
Структурно-хронологически эта научно-техническая статья также двухтактная. Первому историческому полувековому такту посвящена первая часть «Основная проблема сельского хозяйства и методы ее разрешения», а более отдаленным перспективам сельскохозяйственного развития – часть вторая «На путях к сельскохозяйственной утопии». Вместо заключения выступает третья часть – финально апогейная, чрезвычайно краткая, с характерным названием «Отмена земледелия».
Итак, в начале статьи утверждается, что основная проблема земледелия заключена не в тайне самой почвы, ее соков и ее плодородия – в старинно-поэтическом восприятии сельского хозяйства, а в научном понимании процессов взаимодействия воздуха и солнечного света, под которыми «следует подразумевать не столько землю как таковую, сколько поверхность, на которую падают солнечные лучи; вот эта-то поверхность, заливая солнечной энергией и соприкасающаяся с воздухом, и есть, в сущности говоря, основа земледельческого производства»[40 - Чаянов А.В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 337.].
С точки зрения такого рационального подхода современное Чаянову сельское хозяйство представляется далеко не совершенным[41 - Чаянов отмечает, что как таковое качество земли не проблема для сельского хозяйства, ведь умудряются же французы и даже финны выращивать виноград на голом камне, а китайцы на плотах, дрейфующих по рекам Хуанхэ и Янцзы, организовывать интенсивное земледелие, озаряемое южным солнцем. Несовершенным сельское хозяйство начала XX века представлялось, конечно, не только Чаянову, но и многим ученым-интеллектуалам его времени. Как отмечал в переписке со мной по поводу обсуждения данной статьи И. А. Кузнецов, «идея о том, что производительность сельского хозяйства лимитируется количеством солнечного света на единицу поверхности, развивалась немцем А. Майером с 1870 года, в России была подхвачена А.П. Людоговским, далее многими. К. А. Тимирязев, исследуя фотосинтез, по существу, приходил к выводу, что свет важнее почвы. Идея об искусственном производстве пищи в будущем также не нова для 1928 года, С. Булгаков писал об этом мельком еще в 1900 году как о конечном решении мальтузианской проблемы, и наверняка она и до этого широко бродила в мозгах и витала в воздухе».]. Главная проблема усовершенствования земледелия фактически заключается в поиске оптимума взаимодействия кривых: потока воздуха и луча солнечной освещенности на плоскости земной поверхности. В связи с этим, сетует неоднократно Чаянов, мы повсюду наблюдаем низкие коэффициенты усвоения солнечной энергии сельскохозяйственными культурами. Например, в средних урожаях зерновых овес дает 0,23 %, а рожь – 0,32 %, свекла – 0,25 %, картофель – 0,52 %, сахарная свекла – 0,62 % коэффициента усвоения энергии солнечных лучей. В целом сельское хозяйство не превышает в своем использовании солнечной энергии 0,5 % от всего ее количества, попадающего на вегетационную площадь. То есть главная задача сельского хозяйства – «всемерное повышение указанного коэффициента использования солнечных лучей с наименьшей при этом затратой средств и труда»[42 - Чаянов А.В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 338.].
Поэтому с точки зрения будущего рационального районирования сельского хозяйства будет происходить его продвижение в сторону интенсификации и повышения коэффициента усвояемости солнечной энергии на соответствующую сельскохозяйственную площадь.
Чаянов сообщает, что над этой стратегической агрикультурной проблемой работают опытные сельскохозяйственные станции, более всего распространенные в США, Германии и СССР, имеющие уже 16 опытных полей и исследовательских учреждений, расположенных в различных регионах страны.
Чаянов предлагает к рассмотрению специальную региональную карту распределения систем земледелия в европейской части СССР. Далее он фактически комментирует, какие преобразования предстоят в основных сельских пространствах, обозначенных на карте[43 - На севере страны располагаются огромные пространства заболоченных лесов, которые, предполагает Чаянов, в ближайшие десятилетия под воздействием мелиорации, выведения и использования новых сельскохозяйственных культур, устойчивых к холоду, применения специальных северных севооборотов трансформируются в районы выращивания льна, картофеля, огородных культур, а также молочного животноводства, распространившихся на много миллионов гектаров, при этом «…бесспорно, борьба человека с болотами и лесами заполнит собой многие годы из ближайших десятилетий» (Чаянов А. В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 344). Между прочим, на основе последних историко-экономических аграрных исследований можно утверждать, что данная карта основывается отнюдь не на чистой фантазии Чаянова, а на разработках представителями организационно-производственной школы Чаянова планов сельскохозяйственного развития различных регионов СССР на ближайшие 25 лет. Некоторые из этих региональных планов недавно проанализированы в соответствующих публикациях. См., например: Ильиных В. А. Чаяновская альтернатива в Сибири (Перспективный план развития сельского хозяйства Сибирского края 1926 г.) // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Вып. 6. М., 2011. С. 176–191.; Бусько В.Н. Экономическая мысль Беларуси в период НЭПа (20-е годы). Минск: Право и экономика, 2000.]. Агрикультура этих пространств к концу 1920-х годов еще очень далека от рационального научного использования.
На юге страны, наоборот, предполагается проведение массированных работ по ирригации земель в зонах засушливого климата, а также применение специальных засухоустойчивых систем земледелия, использующих засухоустойчивые сорта растений. В результате юг страны превратится в территорию выращивания твердых сортов пшеницы, кукурузы, бахчеводства, рационализированного скотоводства и овцеводства. Непосредственно в Средней Азии предполагается победить пустыню: там, «где мощные реки могут послужить исходным пунктом орошения, мы сможем создать из сжигаемой солнцем пустыни роскошные оазисы, напоминающие собой тропические формы земледелия. Быть может, для этого потребуется погубить Аральское море путем израсходования на орошение всех вод питающих его рек и поставить крест на аральском рыболовстве, но национальный доход, который эти воды могут дать в форме земледельческих культур, во много десятков раз будет выше, чем современное рыболовство Арала»[44 - Чаянов А.В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 345.].
При этом, например, дельте Волги и Ахтубы Чаянов предрекает превращение во вторую долину Нила, где благодаря акклиматизации новых агрикультурных сортов будут между собой перемежаться острова-оазисы полей риса и хлопчатника.
Наконец, в центре европейской части страны, где природные условия для ведения сельского хозяйства не столь экстремальны, как на юге и севере, Чаянов упоминает главную социальную проблему – аграрное перенаселение, которое в ближайшие десятилетия непосредственно в сельском хозяйстве предстоит преодолевать и через рациональное районирование.
На основе предлагаемой карты сельскохозяйственного районирования Чаянов описывает картины устойчивой региональной специализации ближайших советских сельских десятилетий. Например, для Московской и Ленинградской областей будущее составят «три кита» – молоко, картофель, лен. Здесь полностью прекратится производство зерновых культур, но зато будут выращиваться три головы продуктивного крупнорогатого скота на месте одной нэповской тощей коровенки[45 - Чаянов А.В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 347.].
Белоруссия станет эпицентром экспортно ориентированного беконного свиноводства СССР. Северные, тульские, тамбовские, орловские черноземы удвоят свои урожаи благодаря применению фосфатных удобрений, а их зерновое хозяйство будет специализироваться в селекционном семеноводстве для всего Советского Союза.
На южных черноземах Воронежа и Украины будет происходить переход от зерновых к специальным техническим культурам с особым распространением сахарной свеклы и подсолнечника. Регионы самарских, саратовских и ростовских степей будут специализироваться на твердых сортах пшеницы, перемежающихся посевами люцерны, кукурузы и бахчей с кормовыми арбузами. Относительно этого района Чаянов специально подчеркивает особую роль высокомеханизированных чисто американских форм хозяйства[46 - Чаянов А. В. Возможное будущее сельского хозяйства. С. 348.].
В Сибири предстоит скачок от экстенсивно-залежных форм земледелия к интенсивной форме паротравопольного хозяйства. А самые плодородные земли страны, расположенные в Северно-Кавказском регионе и в особенности на Кубани, будут представлять собой процветающие области экспортного зернового хозяйства, ячменя, кукурузы, арахиса. Таково было стратегическое видение Чаянова будущих основ регионального развития СССР на ближайшие 30-40 лет.
Надо признать, что в общих чертах ученый достаточно верно предсказал направления развития региональной специализации сельскохозяйственных районов СССР, хотя, конечно, ряд вопиющих эксцессов планово-волюнтаристской советской аграрной экономики, как, например, тотальное хрущевское увлечение кукурузой по всей стране, не был доступен его воображению.
В более отдаленной перспективе – через 50 лет будут усиливаться радикально технократические черты аграрного развития, названные Чаяновым в следующей части его статьи, озаглавленной «На путях к сельскохозяйственной утопии»[47 - Чаянов А. В. Возможное будущее сельского хозяйства. С. 349.]. Здесь по десяти техническим характеристикам своего изложения он фактически предсказывает возможные направления грядущей «зеленой революции» 1960-1990-х годов.
Первые два пункта посвящены кардинальному улучшению свойств хлорофильного зерна. Пожалуй, здесь Чаянов предчувствует наступление эры генетически модифицированных семян.
Третий пункт подчеркивает значение роста урожайности под воздействием массового применения искусственных удобрений и новых систем обработки почвы. Здесь ученый в общих чертах предсказывает революцию в удобрениях и обработке почвы, напоминающую современную No-Till – систему земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений – мульчей. То есть Чаянов в 1928 году называет прообразы современных биоудобрений!
В четвертом пункте содержатся важные предположения о революции в хранении и транспортировке как семенного материала, так и сельскохозяйственных плодов. Например, Чаянов с большим энтузиазмом упоминает, что в Америке некоторые плоды и овощи, в особенности помидоры, срываемые еще незрелыми и обрабатываемые этиленом, становятся спелыми через два-три дня при световом освещении.
В пятом пункте ученый предсказывает распространение биотоплива, правда, он не пишет о бразильском сахарном тростнике или германском рапсе, из которых в наше время в широких масштабах изготавливается горючее для автотранспорта, но полагает, что подобного рода топливо в российских условиях, возможно, будет добываться в больших масштабах из соломы и льняной кострики.
В шестом и седьмом пунктах внимание уделяется успехам будущей селекции растений и животных. Чаянов предсказывает наступление революции в кормлении животных путем как улучшения самих кормовых культур, так и возможного появления биодобавок. В результате этого в будущем одна корова по удоям молока будет равняться шести европейским коровам и пятнадцати советским коровам.
Последние, девятый и десятый пункты посвящены излюбленным со времен «Путешествия брата Алексея в страну крестьянской утопии» вопросам предсказания и главное – регулирования климата земного шара. Чаянов предполагает, что на первом этапе человечество научится достаточно точно предсказывать как кратковременные, так и долговременные колебания погоды по конкретным регионам. Например, он считал, что уже использование математической формулы Обухова позволяло достаточно точно предсказать урожайность хлебов на Северо-Западе России на ближайший сельскохозяйственный сезон. Ученый высказывает предположение, что подобного рода успешные прогнозы вскоре будут возможны и для юго-восточных засушливых регионов страны. Кроме того, он полагал, что возможно обосновать динамику длительных 11-35-летних погодных циклов для некоторых районов с прогнозированием в них особо неурожайных лет.
Впрочем, главная научно-метеорологическая революция произойдет позже, когда человечество, открыв законы движения образования волн холода и волн тепла, сможет не только наблюдать за ними, но и станет ими управлять, создав для этого специальное сверхмощное оборудование[48 - Этого тотального контроля и управления климатом человечеству достичь до сих пор не удалось, хотя современные спутниковые метеорологические системы позволяют сегодня достаточно точно предсказывать погоду, а некоторые технологии дают возможность на локальных участках земной поверхности прекращать или вызывать дожди. Например, еще в 1960-1970-е годы сначала во Франции, а затем в СССР были изобретены и применены метеотроны (фр. mеtеotron) – искусственные тепловые устройства, предназначенные для создания дождевых облаков. Метеотроны, безусловно, являются частичным воплощением чаяновских аппаратов регулирования погоды – метеорефоров, упоминаемых в «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии».]. В итоге, по Чаянову, «все сельское хозяйство превратится тогда в размеренную, точно установленную систему производства, какой является наша обрабатывающая промышленность ‹…› Каждый миллиметр солнечных лучей, падающих на землю, встретит на своем пути вегетационную поверхность, которая с невиданным до сих пор процентом возьмет приносимую солнечную энергию, и ни одна капля в нашем оросительном балансе не пропадет, не оказав содействия этому процессу усвоения энергии солнца»[49 - Чаянов А. В. Возможное будущее сельского хозяйства. С. 358.].
Но именно в этот момент торжества управляемого оптимума кривых солнечных лучей и водяных струй, балансирующих в максимальной усвояемости растений агрикультуры будущего, свершится третий, заключительный акт драмы технократической утопии Чаянова – произойдет «отмена земледелия» под воздействием колоссальных успехов промышленности, которые обеспечат в будущем массовое производство питательных веществ и пищевых продуктов, а также предметов повседневного обихода, как то одежда и мебель, изготавливавшихся традиционно из разнообразного сельскохозяйственного сырья. Химическая промышленность будущего, проникнув в тайны протоплазмы и белка, сможет синтезировать почти все питательные (и не только питательные) вещества, получаемые из продуктов традиционного сельского хозяйства.
Это предсказанное Чаяновым время действительно наступило в конце XX – начале XXI века. Если разнообразные синтетическая одежда и пластиковая мебель давно стали предметами нашего повседневного обихода, то в последнее десятилетие все чаще и успешнее производятся различные искусственные молочные и мясные продукты, впрочем, пока, как правило, не очень вкусные и недостаточно дешевые.
Что же тогда будет с традиционными регионами сельского хозяйства и их продукцией, задается вопросом Чаянов. Не превратятся ли тогда сельские просторы СССР, США, Канады, Аргентины, Китая в «заросшие бурьяном пространства мирового пустыря, может быть, их покроют собой ковыльные степи, вековые леса»[50 - Чаянов А. В. Возможное будущее сельского хозяйства. С. 361.], а человечество лишь сгрудится в оазисы, расположенные в подходящих климатических условиях?
Действительно, и это предсказание Чаянова за последние несколько десятилетий местами начинает сбываться, прежде всего в развитых странах мира, таких как США и страны Западной Европы, включая и Россию, где площадь сельхозугодий определенно сократилась.
При этом ученый высказывает предположение, что через сто лет численность человечества возрастет в десять раз[51 - В 1930 году численность населения Земли чуть превысила планку в 2 млрд человек. В 2020 году население Земли составляет около 7 млрд 780 млн человек. К 2030 году предполагается, что население Земли перешагнет восьмимиллиардный рубеж. Таким образом, за 100 лет со времени чаяновского демографического прогноза население Земли возрастает примерно в четыре раза, но все же не в десять раз, как предполагал Чаянов.]. Впрочем, во-первых, по Чаянову, этому огромному числу народа потребуются громадные энергетические ресурсы для удовлетворения своих многообразных потребностей. А успехи энергетики будущего Чаянов связывает, кажется, исключительно с широкомасштабным применением солнечных батарей, которые займут гигантские площади прежде всего в таких солнечных пустынях, как Сахара и Гоби, и оттуда беспроводным способом потечет электричество в остальные регионы земного шара. Таким образом, для поддержания этого пространственно разветвленного энергетического хозяйства будет необходимо охранять значительные поверхности земли от естественного природного запустения.
Во-вторых, и это главное, человечеству, скорее всего, надоест жить слишком скученно, и, предполагая успехи развития разнообразных коммуникаций, Чаянов в завершение своей последней утопии превращает планету в город-сад:
…сплошные города-сады, прерываемые обширными, в несколько десятков километров, полянами цветов и растений, преследующих цель быть освежителями атмосферы или же плодовыми садами, приносящими те фрукты, ароматность и вкус которых, по всем вероятиям, никогда не смогут быть воссозданы химическим способом производства; эстетические же соображения (выделено мной. – А. Н.) заставят покрыть всю площадь нашей земли садами, где место теперешних полей, злаков, культур льна и подсолнуха займут роскошные клумбы фиалок, роз и невиданных нами до сих пор, но совершенно изумительных цветов будущего. Можно сказать, что из всех наших культурных растений наилучшей будущностью и вечностью обладает, несомненно, красная роза с ее одуряющим, свежим, сладостным запахом – ей, и именно ей, должны будут уступить свое место все теперешние наши культурные растения, вытесняемые стальной машиной, изготовляющей из воздуха хлеб и ткани будущего[52 - Чаянов А. В. Возможное будущее сельского хозяйства // Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии. М.; Л., 1928. С. 362.].
Эта третья чаяновская утопия, по форме представляющая собой, кажется, песнь триумфа индустриализации сельского хозяйства, по внутреннему содержанию все-таки является в значительной степени и критикой аграрного индустриализма. Собственно технократической стороне аграрного развития Чаянов уделяет в ней немного места. Например, он упоминает, что корова в будущем будет в несколько раз больше давать молока по сравнению с нэповской буренкой, но он почти ничего не говорит о тракторах, комбайнах, грузовиках, которые станут в десятки раз производительней техники времен «фордзонов» 1920-х годов. Вообще Чаянов как утопист-технократ не очень силен. За исключением развития солнечной энергетики он ничего не пишет о перспективах других источников энергии, например атомных, хотя ряд его современников уже обращали внимание на будущее значение термоядерной энергетики, например Александр Богданов[53 - Гловели Г.Д. «Красная звезда» и красная роза: из истории русской утопии // Вестник международного института Александра Богданова. 2004. № 3. C. 71.].
Надо также отметить своеобразную экологическую беспечность Чаянова, который в своих прогнозах аграрного развития XX века предвидел и планировал решительное наступление человека на природу через, например, вырубку лесов, проведение широкомасштабных ирригаций и мелиораций, не придавая значения возможным отрицательным экологическим последствиям. Впрочем, здесь он лишь разделял оптимистические иллюзии большинства своих современников с их лозунгом относиться к природе как к мастерской, а не как к храму.
Безусловно, последняя технократическая утопия Чаянова, кажется, кардинально отрицает все его предшествующие мировоззренческие доминанты. В ней последовательно теряют свой смысл и исчезают дорогие прежде изолированные границы отдельных социальных форм, между которыми он так мастерски определял и вычислял свои оптимумы. В его последней утопии рациональная сельскохозяйственная регионалистика Чаянова, достигнув своего совершенства, вдруг становится бесполезной из-за триумфа промышленного производства почти всех бывших продуктов сельского хозяйства. В процессе этого технократического переворота теряет свой смысл и исчезает как мелкое, так и крупное аграрное производство со всеми их знаменитыми противоречиями. Правда, и здесь Чаянов не отрекается от самого себя: галилеевское «А все-таки она вертится!» воплощается в его безусловной эстетической тайне ценности цветка розы[54 - Образ розы как символ тайны альтернативных возможностей человеческого существования периодически со времен Средневековья всякий раз с новой силой воплощается в фантазийных произведениях всемирной литературы. Достаточно сослаться на роман Умберто Эко «Имя Розы» и науковедческие комментарии к этому произведению. В 1920-1930-е годы кроме чаяновского обращения к символике розы можно, например, упомянуть поля роз в фантастической повести Андрея Платонова «Эфирный тракт» и планету розы в фантастической сказке «Маленький принц» Сент-Экзюпери.].
Главный финальный вывод этой утопии Чаянова заключается в том, что индустриализм уберется из сельских территорий, ограничившись производством питания химическим способом в городской среде, а сельские пространства, обрабатывавшиеся индустриальным способом, в целом превратятся в футуристические рекреационные просторы для будущего многочисленного человечества[55 - С конца XX века в развитых странах неуклонно нарастает тенденция как забрасывания и одичания сельхозугодий, так и их перевода в зоны туристической рекреации, при этом бывшие фермеры-агропроизводители превращаются в хозяев сельских гостиниц и парков сельских развлечений.].
Утопический релятивизм чаяновских оптимумов
Часто противопоставляя в своих утопиях различные социальные, экономические, культурные, политические формы существования человеческих обществ, Чаянов стремился найти в этих противоречивых противопоставлениях оптимумы наиболее приемлемых решений и результатов взаимодействия – компромиссов, способствующих росту гармонизации развития мира.
Противоречия между городом и селом, промышленностью и сельским хозяйством, крестьянским и капиталистическим хозяйством, государством и его гражданами, наконец, между личностью и обществом с большей или меньшей полнотой находят свое отражение в рассмотренных нами утопиях.
Мы знаем, что, как правило, утопии создаются для формирования некоего социально-нравственного идеала, часто в условиях не только социально-экономического, но и культурного кризиса. Большинству наиболее известных и замечательных утопий свойственна попытка обоснования новой нравственности, новой этики, предполагаемого совершенного будущего. Но к этой нравственной аксиоматике всякого настоящего утопизма Чаянов, пожалуй, относится скептически, в своих собственных утопиях демонстративно, подчеркнуто избегая однозначных рассуждений о нравственности.
Пожалуй, один-единственный раз этический вопрос вдруг неожиданно ставится ребром в «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», когда представитель утопической элиты «крестьянской Москвы 1984 года» Алексей Минин заявляет: «По-нашему, если хотите, осознанная этика безнравственна»[56 - Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии // Венецианское зеркало: Повести. М.: Современник, 1989. C. 200.].
Кажется, по чаяновскому утопизму выходит то же самое. Впрочем, это не значит, что утопист Чаянов безнравствен. Все выглядит так, что, по Чаянову, эволюция, совершенствование нравственности заключаются лишь в увеличении многообразия различных сторон бытия, ищущих себе выход в преимущественно мирном сосуществовании компромиссных оптимумов. В этом смысле чаяновская этика чрезвычайно релятивистична. В его утопиях не существует абсолютной нравственности – нравственность в них всегда относительна. В смысле постановки детского вопроса, что такое хорошо и что такое плохо, из чаяновских утопий следует ответ: там, где больше условий для признаков многообразия мира, стремящихся гармонично сосуществовать между собой, там и лучше, там и хорошо; а единообразие – это хуже, это плохо.
Впрочем, здесь мы должны подчеркнуть, что Чаянов отнюдь не нейтрален в своих личностных социально-экономических и историко-культурных предпочтениях. Он аксиоматически убежден, что сельский мир крестьянских хозяйств является базой, фундаментом эволюции всемирного разнообразия человеческого общества. Здесь Чаянов – яркий представитель идеологии аграризма, противопоставляющий свои утопии другим идеологиям и другим утопиям: прогрессизму и урбанизму, капитализму и коммунизму[57 - Подробнее об идеологии аграризма см.: Бруиш К. Крестьянская идеология для крестьянской России: аграризм в России начала ХХ века // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. 2012. Вып. 7. С. 142–158.].
Чаяновский аграрный утопизм великодушен, в будущем он побеждает, но отнюдь не изничтожает своих основных противников, а лишь приручает, контролирует их. Государство и рынок, индустрия и город, капитализм и социализм имеют право на существование в стране крестьянской утопии, подчиненные власти оптимумов всеобщего кооперативизма, укорененного в мудрости сельской гармонии.
Насколько в реальности последних ста лет оказались осуществимы утопические идеи Чаянова, связанные с поисками оптимизации социально-экономической многоукладности в перспективе гармонизации исторических альтернатив?
Проблема заключается в том, что, несмотря на гигантский прогресс в создании самых разнообразных моделей оптимизации работы любых хозяйственных предприятий (не только аграрных), целых отраслей промышленности, различных рынков, логистических систем, планов государственного развития (с расширенным использованием за последние полвека компьютерных технологий), а также доминирование идеологии плюрализма и толерантности по крайней мере среди развитых стран Запада, чаяновский идеал достижения гармонии оптимумов альтернативных форм и стилей жизни человеческого общества остается по-прежнему малодостижимым.
Конечно, одна из главных политэкономических причин этого заключается в продолжающемся дисгармоничном доминировании-союзе бюрократии государства и стихий капиталистического рынка, когда часто на обочинах альтернатив прогресса ютятся иные дорогие сердцу Чаянова социально-экономические формы: домохозяйства сельские и городские, локальные кооперативные и муниципальные экономики, культурные ассоциации и так далее.
К тому же, безусловно, поиск гармоничных оптимумов сосуществования социальных институтов будет всегда неполным без нахождения оптимумов гармонии душевного равновесия человеческих личностей. Чаянов прекрасно осознавал эту труднейшую культурно-психологическую проблему человеческой индивидуальности, вот почему в его художественных произведениях порой даже на фоне всяческого социокультурного благополучия и уюта все равно так часто мучаются непостижимой тоской дисгармонии фигуры его утопических персонажей.
Чаянов полагал, что в сложной работе нахождения социально-экономических оптимумов для устойчивого развития человечества огромное значение имеет культурное развитие всего общества. Ученый столь много и достаточно профессионально занимался вопросами культуры, искусства, образования, что без специального исследования его интеллектуального культурологического наследия в самом широком смысле этого слова невозможно понять, как он собирался воплощать свои междисциплинарные футурологические замыслы в реальную жизнь. Поэтому от Чаянова – утописта теперь обратимся к Чаянову – культурологу.
Глава 2. Сельско-городское развитие через образование и культуру
Нас неотступно преследовала мысль: возможны ли высшие формы культуры при распыленном сельском поселении человечества?
А. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии
Чаянов неоднократно любил подчеркивать, что для грядущих революционно-футуристических реформ человечества преобразования в сфере образования и культуры имеют гораздо большее значение, чем реформы непосредственно в сфере экономики. Он прекрасно понимал, что в созидании оптимального баланса смычки между городом и деревней необходимо не только искусно действовать ножницами экономических цен, но и еще искуснее управляться и ножницами культурных ценностей[58 - Оригинальные размышления о направлениях взаимодействия экономики и культуры в современном мире см.: Долгин А.Б. Прагматика культуры. М.: Фонд науч. исслед. «Прагматика культуры», 2002.]. Поэтому экономист Чаянов плодотворно занимался не только собственно аграрной экономикой, но также экономикой и социологией сельско-городской культуры[59 - О значении культуры в эволюции крестьянства и сельского образа жизни см.: Гордон А. В. Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. М.: Наука, 1989.]. В этой главе мы проанализируем интеллектуальное наследие Чаянова прежде всего как культуролога, а также педагога, во главу угла обучения студентов и крестьян ставившего процесс усвоения и развития форм культуры в самом широком и глубоком значении этого слова.
Сельско-городской континуум чаяновского Петровско-Разумовского
Понятие сельско-городского континуума было введено в научный оборот чаяновским современником – социологом Питиримом Сорокиным, обосновывавшим этим термином относительность, стадиальность взаимопроникновения города и села друг в друга в динамике истории и современности[60 - Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исслед. изм. в больших системах искусства, истины, этики, права и обществ. отношений = Social & Cultural dynamics: A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, law and Social Relationships / пер. с англ. В.В. Сапова. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2000.].
Оригинальный пример такого видения и понимания сельско-городского взаимодействия с акцентом прежде всего на значении культурной исторической трансформации окружающей действительности дает чаяновская книжка «Петровское-Разумовское в его прошлом и настоящем». Формально эта книжка написана в жанре путеводителя для всех желающих отправиться из Москвы трамваем № 12 в бывшее подмосковное имение знаменитого аристократического рода Разумовских, превращенное во второй половине XIX века сначала в Петровскую сельскохозяйственную академию, а затем трансформировавшееся при советской власти в Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева.
Большая часть жизни самого Чаянова была связана с этим учебным заведением: он был его студентом, а затем стал и профессором. Маршрут трамвая № 12 – это путь Чаянова от дома в Москве до его подмосковного места работы, путь столь хорошо ему знакомый и изученный за многие годы, что продуман и описан в путеводителе всесторонне не только с культурно-историческими, но, кажется, даже и с философско-экзистенциальными подробностями.
Лишь некоторые из этих подробностей, на наш взгляд, самые существенные, мы здесь упомянем и проанализируем, чтобы пунктирно переосмыслить столь дорогую Чаянову тему развития человеческих пространств, как городских, так и сельских, через образование и науку, культуру и искусство.
Итак, описание начинается с упоминания начальной остановки трамвая № 12 на Страстной площади и с первой же его досадно-иронической достопримечательности – «…это сам хвост людей, стоящих в трамвайной очереди. Он зародился стихийно в 1918 году и был первым в Москве трамвайным хвостом, что и отмечалось в этом же году в „Известиях“, как пример организованности населения, достойный для подражания, и все московские хвосты произошли именно от этого хвоста…»[61 - Чаянов А. В. Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. Путеводитель по Тимирязевской Сельско-Хозяйственной Академии. М.: Новая деревня, 1925. С. 5.] Такова начальная точка этого сельско-городского континуума – Страстная площадь с хвостом страждущих сесть в трамвай. Вокруг этой точки Чаянов предлагает рассмотреть ее главные историко-архитектурные достопримечательности, представленные в виде своеобразного церковно-революционного симбиоза. На одной стороне Страстной площади стоит церковь Рождества Богородицы в Путинках, а на другой – Свердловский коммунистический университет, разместившийся в стенах бывшего Московского купеческого собрания (клуба), переполненный «коммунистической молодежью, съехавшейся со всех концов Советской России»[62 - Чаянов А. В. Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. Путеводитель по Тимирязевской Сельско-Хозяйственной Академии. М.: Новая деревня, 1925. С. 8.].
И далее по ходу движения Чаянов, с одной стороны, будет вести повествовательную линию некого историко-культурного церковного континуума: «Вообще по счастливой случайности во время поездки в Разумовское мы можем ознакомиться со всеми этапами русского церковного зодчества – деревянный шатровый храм Соломенной Сторожки, шатровый каменный храм в Путинках, „пятиглавие“ бутырской церкви, затем нарышкинское барокко церкви Петра и Павла в Разумовском и, наконец, постройка XVIII века в виде церкви Дмитрия Солунского на Страстной площади – все это типичные образцы последовательно развивающихся фаз русского зодчества»[63 - Чаянов А. В. Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. Путеводитель по Тимирязевской Сельско-Хозяйственной Академии. М.: Новая деревня, 1925. С. 10.].
С другой стороны, Чаянов в историко-публицистических подробностях ведет повествование о местах памяти революционных событий: Новослободская улица – один из эпицентров баррикадных боев революции 1905 года, Народный дом имени Каляева, Бутырская тюрьма как «один из „университетов революционного образования“ старого времени»[64 - Чаянов А. В. Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. Путеводитель по Тимирязевской Сельско-Хозяйственной Академии. М.: Новая деревня, 1925. С. 10.], место выстрела Каракозова, грот Нечаева, квартира В. Г. Короленко, места столкновений революционных студентов с полицией и черносотенцами.
Впрочем, кроме церковно-революционных достопримечательностей Чаянов успевает в ходе этой трамвайной поездки пусть и кратко, но рассказать и о повседневно-хозяйственной истории и современности обозреваемых мест – бывших ремесленных и стрелецких слободах, ныне городских кварталах домов, сменяющихся при приближении к Петровско-Разумовскому ландшафтами лесов и полей опытных сельскохозяйственных научных учреждений.
Особую главу в этом путешествии Чаянов отводит историческому описанию самого Петровско-Разумовского, достаточно подробно живописуя, как на месте роскошного барского аристократического поместья возник крупнейший в мире по тем временам сельскохозяйственный университет – Тимирязевская академия.
Самая большая глава путеводителя посвящена подробному описанию опытных полей, ферм, лабораторий, музеев, библиотек, кафедр, факультетов, кабинетов, станций, а также ученых знаменитой сельскохозяйственной академии.
В финале этой главы Чаянов подчеркивает, что его alma mater является ключевым звеном в происходящей революционной трансформации советского сельско-городского континуума:
Теперь, когда «смычка» города с деревней является очередным лозунгом дня, значение с.-х. Академии особенно возрастает. Главное, что город обязан дать деревне – это то научное знание, без которого немыслимо современное ведение земледелия. Этими научными знаниями Академия располагает в высшей степени и является главным аппаратом городской культуры, который должен обслуживать деревню в отношении передачи в ее пользование данных о мировой науке о земледелии[65 - Чаянов А. В. Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. Путеводитель по Тимирязевской Сельско-Хозяйственной Академии. М.: Новая деревня, 1925. С. 10.].
Но этим патетическим финалом самой большой главы еще не оканчивается все повествование чаяновской книги. Затем следует последняя, пятая глава «Окрестности Петровско-Разумовского», тема которой уже располагается за границами сельско-городского континуума повествования, окружая его фактически тревожными вопросами экзистенциально-экологического существования человека. Здесь описывается окрестная природа, возможные маршруты замечательных прогулок по лесопарковым зонам этого ближнего участка Подмосковья.
Завершается книга тревожными размышлениями Чаянова о задачах сохранения природного разнообразия в зонах экспансии пристоличных сельско-городских континуумов на примере Петровско-Разумовского:
По мере роста местного населения, улучшения транспорта из Москвы, увеличения числа живущих в Академии кошек, собак и коз, местная фауна и флора быстро убывают на горе будущим городским поколениям, обреченным видеть и слышать диких животных только в зоологических садах и музеях, а в городских парках встречаться с себе подобными ‹…› мы равнодушно смотрим и допускаем уничтожение таких интереснейших представителей нашей лесной фауны, как вальдшнеп и лисица, окончательно истребленных у нас в 1922-23 годах. Каждый праздник наезжающая публика увозит с собой охапки нарванных цветов и веток, и недалеко то время, когда школьные экскурсии, приезжающие в Разумовское, будут возвращаться с пустыми банками ‹…› Из общего количества видов позвоночных, населяющих Московскую губернию (350), мы смогли бы наблюдать в Разумовском около 150, но уже за последние 2-3 десятилетия это количество уменьшилось по крайней мере на 10 %.
Если природа Петровско-Разумовского, как и всякого подмосковного, должна служить преимущественно материалом для педагогики, для изощрения органов чувств подрастающих поколений и для освежения наших легких, то для этого она настоятельно требует охраны и бережливого отношения к ней[66 - Чаянов А. В. Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. С. 85–86.].
Чаяновский путеводитель по Петровско-Разумовскому дает нам замечательный образец историко-культурно-антропологического насыщенного описания сельско-городского континуума в духе предложенных полвека спустя интерпретаций Клиффорда Гирца[67 - Geertz С. Thick descriptions toward an interpretive theory of culture // Geertz C. The interpretation of culture. N. Y. t Bane book., 1973. Ch. 1. P. 3–30.]. Чаяновский путеводитель – это не просто увлекательная и квалифицированная брошюра для развлечения и просвещения туристов, но реальное полевое историко-социологическое исследование с практическими выводами и рекомендациями по направлениям взаимодействия города и села, а также науки, культуры, образования, искусства и экологии в России XX века.
В своих более специализированных работах, посвященных высшему и крестьянскому образованию, в собственных историко-культурных искусствоведческих исследованиях Чаянов конкретизировал и детализировал различные возможные направления сельско-городского развития не только через экономику, но и через образование и культуру. Обратимся к изучению этих рекомендаций Чаянова сначала как педагога, а потом как культуролога-искусствоведа.
Храм прометеева огня: вертикальная интеграция и оптимизация научного знания
В недолгой жизни Чаянова примерно четверть века выпадает на педагогическую деятельность – начиная с кружка общественной агрономии, который он возглавлял еще будучи студентом, до преподавания статистики в Алма-Атинском сельскохозяйственном институте во время политической ссылки. Невозможно учесть, сколько курсов, лекций, семинаров, бесед провел Чаянов не только в стенах академий и университетов, но и на разнообразных народных собраниях, прежде всего крестьянских.
Как и подобает профессиональному лектору, Чаянов творчески осваивал педагогическое дело. Многие опубликованные научные работы отличаются прежде всего педагогической ясностью и иллюстративностью учебного пособия, достаточно упомянуть такие его знаменитые работы, как «Краткий курс кооперации», «Основные идеи и методы работы общественной агрономии», «Основные идеи и формы сельскохозяйственной кооперации», успевшие выдержать несколько изданий в 1920-е годы. Но кроме них перу ученого принадлежит также несколько и специальных работ, посвященных проблемам преподавания[68 - Чаянов А. В. Методы изложения предметов. М., 1916; Он же. Методы высшего образования. М., 1919; Он же. Основные идеи и методы работы общественной агрономии. М., 1918; 1922; 1924.]. Исследование этих работ убеждает нас, что Чаянов был в совершенстве знаком с теорией педагогической науки[69 - Ссылки на воззрения П.П. Блонского, И.Ф. Гербарта и других теоретиков педагогической науки постоянны в соответствующих чаяновских работах.], а также имел собственные изыскания в области педагогики.