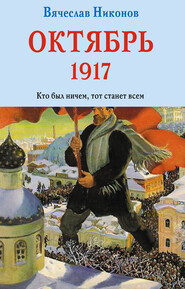
Полная версия:
Октябрь 1917. Кто был ничем, тот станет всем
Лидер левого крыла партии кадетов, инженер-железнодорожник и профессор Томского технологического института, Некрасов демонстрировал «огромные деловые способности, умение ориентироваться, широкий кругозор, практическую сметку»[30]. Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс, гимназическая подруга жены Ленина Надежды Константиновны Крупской, модная журналистка и писательница, замечала о Некрасове: «Он жаден к почету и неразборчив в средствах»[31].
Керенский настаивал на проведении заседания Думы, чтобы она взяла власть в свои руки. Его поддержал меньшевик Матвей Иванович Скобелев.
Сын промышленника, сектанта-молоканина, Скобелев учился в Бакинском техническом училище, но вылетел оттуда за участие в забастовке. С конца 1906 года жил в Вене, входил в редколлегию той «Правды», которую издавал Троцкий. В 1912 году окончил Венский политехникум, вернулся в Россию, где избрался в IV Думу от русского населения Закавказья. Скобелев запомнился Джону Риду – американскому журналисту левых взглядов – как человек, «похожий на светского ухажера, с выхоленной белокурой бородой и желтыми волнистыми волосами»[32].
Более умеренные депутаты с Керенским и Скобелевым не соглашались.
«Вопрос стоял так: не подчиниться указу Государя Императора, т. е. продолжать заседания Думы, – значит стать на революционный путь… Оказав неповиновение монарху, Государственная дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями… Но на это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно не способны»[33], – писал Шульгин. Было решено провести частное заседание всего наличного состава депутатов, и чтобы подчеркнуть его частный характер, собраться не в большом Белом зале, а в Полуциркулярном. Частное заседание открылось в полтретьего дня.
Предложение Думе взяться за формирование нового правительства прозвучало из уст Чхеидзе[34]. Дворянин, не доучившийся в Новороссийском университете в Одессе, он дважды арестовывался, избирался гласным Батумской и Тифлисской городских дум. После избрания в Третью Госдуму возглавлял в ней фракцию социал-демократов. Набоков находил в нем «что-то трагикомичное: во всем даже его внешнем облике, в выражении лица, в манере говорить, в акценте»[35]. Троцкий считал Чхеидзе «честным и ограниченным провинциалом»[36].
Заметим, инициатива исходила в те часы от Керенского, Некрасова, Скобелева, Чхеидзе. Их объединила не столько идеологическая близость, сколько масонское братство – все они были членами лож. «От нашей группы исходила сама инициатива образования Временного комитета, как и решение Думы не расходиться, т. е. первых революционных шагов Думы, – поведает Некрасов. – Весь первый день пришлось употребить на то, чтобы удержать Думу на этом революционном пути и побудить ее к решительному шагу взятия власти, чем наносился тяжкий удар царской власти в глазах всей буржуазии, тогда еще очень сильной»[37].
Тут слово попросил лидер кадетов Милюков. Выпускник историко-филологического факультета Московского университета, ученик великого Василия Осиповича Ключевского, он более десяти лет преподавал, но в 1895 году его уволили за «вредное влияние на студентов» и выслали в Рязань. Оттуда Милюков уехал читать лекции в Софию, много путешествовал по Балканам. Он с успехом преподавал в университетах Чикаго и Бостона, ездил по Европе. В Россию 1905 года Милюков приехал начинающим политиком, но вскоре благодаря своим зажигательным выступлениям стал настоящей звездой либерального движения. В самой его внешности не было ничего властного и величественного. «Так, мешковатый городской интеллигент, – писала Тыркова-Вильямс. – Широкое, скорее дряблое лицо с чертами неопределенными. Белокурые когда-то волосы ко времени Думы уже посерели. Из-под редких усов поблескивали два или три золотых зуба, память о поездке в Америку. Из-под золотых очков равнодушно смотрели небольшие серые глаза… Но в нем было упорство, была собранность около одной цели, была деловитая политическая напряженность, опиравшаяся на широкую образованность»[38].
Член кадетского ЦК профессор права Владимир Дмитриевич Набоков, отец будущего нобелевского лауреата, считая лидера своей партии «самой крупной величиной – умственной и политической», причину его популярности видел в незаурядных ораторских способностях: «На митингах ораторам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить растеряться»[39].
Милюков выступил с предложением: «создать временный комитет членов Думы “для восстановления порядка и для сношений с лицами и учреждениями”. Эта неуклюжая формула обладала тем преимуществом, что, удовлетворяя задаче момента, ничего не предрешала в дальнейшем. Ограничиваясь минимумом, она все же создавала орган и не подводила думцев под криминал»[40].
В полуциркулярный зал ворвался офицер, представился начальником думской охраны и срывающимся голосом закричал, что его помощника тяжело ранили, а его самого чуть не убили врывающиеся в Думу солдаты. Керенский встал со своего места. Говорит решительно и властно:
– Медлить нельзя! Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются! Я сейчас еду по полкам. Я должен знать, что сказать народу! Могу я заявить, что Государственная дума – с ними, что она берет на себя ответственность за управление страной, что она становится во главе движения?
Это был тот Керенский, который, по словам Виктора Чернова, «в лучшие свои минуты… мог сообщать толпе огромные заряды нравственного электричества, заставлять ее плакать и смеяться, опускаться на колени и взвиваться вверх, клясться и каяться, любить и ненавидеть до самозабвения»[41]. Шульгин объяснял феномен Керенского чуть более прозаично: «Он рос… Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить»[42].
Шидловский увидел, как толпа вошла в сквер внутри ограды дворца и стоит в некоторой нерешительности перед подъездом. «Решили, что нужно выйти и говорить с толпой. Все бросились на подъезд, уже занятый толпой, и в результате некоторой давки удалось попасть на ступени лицом к лицу с пришедшими четырьмя членами Думы: Чхеидзе, Скобелеву, Керенскому и мне. Начал речь к толпе Чхеидзе, за ними говорили Скобелев и Керенский… После этих речей толпа ворвалась в Таврический дворец и начала там хозяйничать»[43].
Присутствие солдатских и рабочих масс придало депутатам ускорение. За неимением лучшего было решено поддержать формулу Милюкова. Но как избирать Временный комитет? Было решено поручить его формирование сеньорен-конвенту, который незамедлительно – было около половины четвертого – удалился в кабинет Родзянко. Управились за полчаса.
Спикер появился за столом президиума и зачитал фамилии членов Временного комитета Государственной думы (ВКГД). Были представлены все партии за исключением крайне правых, представителей которых в зале и так практически не было. Справа налево: Шульгин (националист), Владимир Львов (центр), Родзянко, Иван Иванович Дмитрюков, Шидловский (октябристы), Владимир Алексеевич Ржевский, Коновалов, Михаил Александрович Караулов (прогрессисты), Некрасов и Милюков (кадеты), Керенский (трудовик) и Чхеидзе (социал-демократ). «В сущности это было бюро Прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе, – написал Шульгин. – Страх перед улицей загнал в одну «коллегию» Шульгина и Чхеидзе». Отныне и вплоть до Октября власть будет только леветь.
«С этой минуты Государственная дума, собственно говоря, перестала существовать, – констатировал Шульгин. – Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда – заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться… Кабинет Родзянко еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы – Комитет Государственной думы»[44].
Временный комитет Госдумы не в состоянии был ни на что решиться – страх и неуверенность. Напишет Милюков: «Никто из руководителей Думы не думал отрицать большой доли ее участия в подготовке переворота. Вывод отсюда был тем более ясен, что… кружок руководителей уже заранее обсудил меры, которые должны были быть приняты на случай переворота. Намечен был даже и состав будущего правительства. Из этого намеченного состава кн. Г. Е. Львов не находился в Петрограде, и за ним было немедленно послано. Именно эта необходимость ввести в состав первого революционного правительства руководителя общественного движения, происходившего вне Думы, сделала невозможным образование министерства в первый же день переворота»[45].
В кабинете Родзянко появился член Госдумы полковник Генерального штаба Борис Александрович Энгельгардт (он входил во фракцию центра, а затем перешел к октябристам), считавшийся одним из главных думских экспертов по военным вопросам. Энгельгардт уверял, что «ни военная, ни гражданская власти ничем себя не проявляют, что грозит полная анархия и что Временному комитету необходимо безотлагательно взять власть в свои руки»[46]. В полночь Энгельгардта кооптировали в состав Временного комитета, а еще через час он был назначен комендантом Петроградского гарнизона. Присутствие кадрового военного всех заметно приободрило. Все наперебой бросились уговаривать Родзянко заявить о принятии власти Временным комитетом. Спикер отбивался:
– Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу делать.
Полагаю, весомым для Родзянко оказалось мнение самого правого из членов ВКГД – Шульгина, который с неожиданной решительностью произнес:
– Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите как верноподданный. Берите потому, что держава Российская не может быть без власти. И если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить[47].
Шульгина не менее решительно поддержал Милюков. Родзянко просит четверть часа на размышление и удаляется в свой кабинет. «Тяжкие четверть часа! От решения Родзянко зависит очень многое, даже, может быть, зависит весь успех начатого дела». Родзянко вышел из кабинета и сел к столу. Откинувшись на спинку кресла и ударив кулаком по столу, он произнес (со слов Энгельгардта):
– Хорошо, я решился и беру власть в свои руки, но отныне требую от всех вас беспрекословного мне подчинения. Александр Федорович, – добавил он, обращаясь к Керенскому, – это особенно вас касается.
Милюков заметил: «О, великий Шекспир! Как верно ты отметил, что самые драматические моменты жизни не лишены элементов юмора. Михаил Владимирович уже чувствовал себя в роли диктатора русской революции. Удивленный Керенский сдержался и осторожно напомнил, что состоит товарищем председателя еще одного учреждения, которому обязан повиноваться»[48]. Он имел в виду Советы.
Уже в 2 часа ночи 28 февраля Родзянко подписал датированое задним числом постановление: «Временный комитет членов Государственной думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка»[49].
ВКГД в течение ночи лихорадочно выпускал воззвания и обращения, забирая власть явочным порядком. В телеграмме командующим фронтам и начальнику штаба Верховного главнокомандующего ВКГД сообщил, что ввиду устранения от управления всего бывшего состава министров правительственная власть перешла в его руки, и Комитет приложит все силы к борьбе с внешним врагом. Временный комитет постановил отрешить от должности членов царского кабинета и впредь до формирования нового правительства назначил комиссаров для заведования делами министерств. Кадровым резервом стали Прогрессивный блок Госдумы и масонские организации. Они лучше всех были подготовлены к происходящему.
Мандаты комиссарам в большинстве случаев подписывал Родзянко, но формулировал их полномочия и занимался инструктажем Некрасов. Всего в ту ночь было назначено 24 комиссара, имена которых на следующий день появились в печати. Милюков справедливо заметил: «Вмешательство Государственной думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии»[50]. Однако Дума скоро уйдет в небытие, а делить власть придется с Советами.
Кондиции временной власти
Затяжка с формированием нового правительства также объяснялась опасениями брать на себя ответственность. Однако серьезную роль сыграло и то обстоятельство, что наиболее активные руководители революции не желали, чтобы новое правительство вело свою легитимность от Государственной думы как института старого режима. И их совершенно не устраивала фигура Родзянко в качестве главы будущего правительства.
Об этом откровенно писал Милюков: «Дума была тенью своего прошлого»[51]. Общим было убеждение, что Родзянко совершенно не приемлем для левых, с которыми предстояло находить общий язык. Левые, подтверждал Шульгин, «соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Родзянко был для них только помещик Екатеринославский и Новгородский, чью землю надо прежде всего отнять»[52].
Князь Львов после полудня 1 марта приехал из Москвы. Он принадлежал к обедневшей ветви Рюриковичей. Окончив юридический факультет Московского университета, вернулся в родовое имение Поповку Тульской губернии и превратил ее вместе с братом в доходное хозяйство. На его политическое становление и мировоззрение в решающей степени повлиял сосед по имени граф Лев Николаевич Толстой, с которым князь был дружен и от которого усвоил идеи создания справедливого общественного строя. Философ Федор Августович Степун отмечал у Львова «славянофильское народолюбие, толстовское непротивленчество и несколько анархическое понимание свободы: «Свобода, пусть в тебе отчаются иные, я никогда в тебе не усумнюсь»[53]. Львов женился на графине Бобринской, которая являлась прямым потомком Екатерины Великой и графа Григория Орлова. Но супруга скоропостижно скончалась, и безутешный князь уединился в Оптиной пустыни, где даже хотел принять постриг. Но его сочли недостаточно готовым к монашескому подвигу. Из Оптиной Львов от общеземского движения отправился с врачебно-продовольственным отрядом на поля русско-японской войны, где его ближайшим коллегой стал Гучков.
Львов был депутатом I Думы, примыкал к правым кадетам. «Хотя он числился в рядах партии народной свободы, но я не помню, чтобы он принимал сколько-нибудь деятельное участие в партийной жизни, в заседаниях фракции или центрального комитета. Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что у него была репутация чистейшего и порядочнейшего человека, но не выдающейся политической силы»[54], – замечал Набоков. Затем политической карьере князь предпочел широкую филантропическую деятельность.
Сразу после начала войны возникла инициатива создания Всероссийского земского союза (ВЗС) для поддержки фронта. Львов выдвинул свою кандидатуру на пост председателя и прошел большинством в один (собственный) голос. Правой рукой Львова в ВЗС был Гучков. Локкарт подметил, что князь «говорил немного отрывисто и односложно. Он был скромен и, вопреки аристократической фамилии, больше походил на деревенского доктора, чем на аристократа. На мало его знающих он производил впечатление хитреца – исключительно благодаря своей застенчивости»[55].
Появление князя Львова в Таврическом дворце дало толчок формированию правительства. «Мы почувствовали себя наконец «au complet»[56], – писал Милюков. Слово Шульгину: «Между бесконечными разговорами и тысячью людей, хватающих его за рукава, принятием депутаций, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале; сумасшедшей ездой по полкам; обсуждением прямопроводных телеграмм из Ставки; грызней с возрастающей наглостью «исполкома» Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, писал список министров»[57].
В основу состава правительства были положены ходячие списки проектировавшихся «ответственных министерств». Предполагалось наличие у них организационных структур и возможностей, а также наличие тесных связей с армейскими кругами. Кроме того, конъюнктура диктовала включение кого-то из социалистов.
Князь Львов, который был весьма слабо известен в думских кругах, оказался консенсусной фигурой на пост главы правительства как воплощение Земства. Следующие два по значимости портфеля – министра иностранных дел и военного министра, – как и планировалось задолго до революции, были закреплены за самим Милюковым и Гучковым.
Еще два ключевых поста достались людям, которых не называли ранее в качестве возможных министров и чьи кандидатуры вызвали недоумение, которое не скрывал в своих воспоминаниях и Милюков. Некрасов и Терещенко получили министерства путей сообщения и финансов. Почему, хорошо поняли посвященные и сам Милюков, недвусмысленно указавший на их близость к конспиративным кругам – по масонской линии: «Я хотел бы только подчеркнуть еще связь между Керенским и Некрасовым – и… Терещенко и Коноваловым… Дружба идет за пределы общей политики. Из сделанных здесь намеков можно заключить, какая именно связь соединяет центральную группу четырех»[58].
Вечером 1 марта ВКГД и будущее правительство встретились. «В тот момент мы занимались в основном формированием министерств, – писал Керенский. – Вопрос о верховной исполнительной власти в повестке дня не стоял, ибо большинство Временного комитета Думы все еще считало само собой разумеющимся, что вплоть до достижения совершеннолетия наследником престола Алексеем Великий князь Михаил Александрович будет выполнять функции регента. Однако в ночь с 1 на 2 марта почти единодушно было принято решение, что будущее государственное устройство страны будет определено Учредительным собранием»[59].
Именно в этом духе был выдержан манифест ВКГК, который гласил: «Временный комитет членов Государственной думы в целях предотвращения анархии и для восстановления общественного спокойствия после низвержения старого государственного строя постановил: организовать впредь до созыва Учредительного собрания, имеющего определить форму правления Российского государства, правительственную власть, образовав для сего Временный общественный Совет министров в составе нижеследующих лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлою общественной и политической деятельностью»[60]. В списке значилось 12 фамилий министров. Председатель князь Львов был формально беспартийным. Кадетов оказалось больше всех – Милюков, Некрасов, Мануйлов, Шингарев, Родичев. Октябристов представляли Гучков и Годнев, центр – Владимир Львов, прогрессистов – Коновалов и Терещенко, трудовиков – Керенский.
В ночь на 2 марта члены только что сформированного правительства встречались с представителями Совета. Около часа ночи представители Исполкома Совета – Чхеидзе, Стеклов, Суханов, Скобелев – явились во Временный комитет Госдумы. Никаких полномочий от Исполкома у них не было. Именно с этими незнакомыми (за исключением Чхеидзе) людьми члены Временного комитета и только что сформированного правительства должны были вести переговоры о «кондициях», позволявших функционировать новой власти. В приемной к советским представителям присоединился Керенский.
Стеклов встал с торжественным видом, держа в руке листок бумаги, и зачитал выстраданные в Совете 8 принципов организации власти. Там не было того, чего больше всего опасались «буржуазные» политики, – вопросов о мире и землевладении. Но тем не менее весьма примечательно, что люди, так долго добивавшиеся власти для себя как для квалифицированнейших лидеров страны, почти моментально согласились реализовывать весьма примитивную социалистическую программу, многие пункты которой были убийственны для страны.
Когда Стеклов закончил, на лице Милюкова можно было прочесть что-то вроде облегчения. «Для левой части (Прогрессивного. – В.Н.) блока большая часть условий была вполне приемлема, так как они входили в ее собственную программу»[61], – напишет Милюков. Тем не менее разногласия, споры затянулись почти до четырех утра. Когда текст был согласован, Милюков повернулся к советским представителям:
– Это ваши требования, обращенные к нам. Но мы имеем к вам свои требования. Суть эти требований состоял в том, «чтобы и делегаты Совета… осудили уже обнаружившееся тогда враждебное отношение солдат к офицерству и все виды саботажа революции, вроде незаконных обысков в частных квартирах, грабежа имущества и т. д., и чтобы это осуждение было изложено в декларации Совета вместе с обещанием поддержки правительству в восстановлении порядка и в проведении начал нового строя. Оба заявления – правительства и Совета – должны были быть напечатаны рядом, второе после первого, чтобы тем рельефнее подчеркнуть их взаимную связь»[62]. Советские деятели согласились.
Последним обсуждался вопрос о составе Временного правительства. Представители Совета доложили постановление своего Исполкома, дававшего фактический карт-бланш в этом вопросе цензовым элементам. «Нам сообщили намеченный личный состав, – не упоминая, между прочим, о Керенском, – припоминал Суханов. – Мы помянули не добром Гучкова, поставив на вид, что он может послужить источником осложнений. В ответ нам сообщили, что он, при своих организаторских талантах и обширнейших связях в армии, совершенно незаменим в настоящих условиях… Удивлялись насчет Терещенки»[63].
Итак, к раннему утру 2 марта были согласованы состав Временного правительства, принципы его деятельности и совместная декларация о преодолении анархии. Но страна еще более суток будет в полном неведении об этих решениях. Почему? Печатать эти документы хотели сразу, но не нашли бодрствующих печатников. А около пяти утра в Таврическом дворце появился Гучков, всю ночь объезжавший войска и готовивший оборону столицы от ожидавшейся карательной акции.
Гучков был неординарной личностью. Потомственный почетный гражданин и бизнесмен, «он получил очень хорошее образование, прекрасно говорил по-французски и имел изящные манеры, приобретенные им от матери, по происхождению француженки»[64]. Окончил гимназию с золотой медалью, поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где учился вместе с Милюковым. Военная служба будущего военного министра ограничилась одним годом в 1-м лейб-гвардии Екатеринославском полку, где вольноопределяющийся Гучков был по увольнении произведен в прапорщики запаса. Затем уехал за границу, где три года изучал историю, право, политэкономию в Берлинском, Тюбенгенском и Венском университетах.
В 1890-е он с братом отправился в армянские вилайеты Малой Азии, документируя факты резни армян турками. Затем записался в оренбургскую казачью сотню, охранявшую КВЖД. Из-за дуэли подал в отставку и совершил вояж верхом через Китай, Монголию и Среднюю Азию длиной 12 тысяч километров. Через год он отправился в Южную Африку, чтобы воевать против англичан на стороне буров, которым горячо сочувствовала вся российская общественность. Был тяжело ранен в бедро в бою близ Линдлея в Оранжевой республике и навсегда остался хромым. Немецкий госпиталь, в котором Гучков лечился, захватили англичане, он оказался в плену. Британцы отпустили его под честное слово, как только он смог передвигаться. В 1901 году он стал директором крупного Московского учетного банка, и председателем наблюдательного комитета страхового общества «Россия». Но уже через два года, отложив собственную свадьбу, поехал воевать с турками на стороне восставших македонцев.
Еще большую известность Гучков приобрел в годы русско-японской войны, когда отправился в Маньчжурию в качестве помощника главного уполномоченного Красного Креста. По возвращении он выдвинулся на политической арене, призвав императора положить конец войне, созвать Земский собор, а также вступившись за честь всеми критиковавшейся армии. С тех пор за Гучковым закрепилась слава крупного политика и ведущего специалиста в военных вопросах. Но он предпочел карьеру партийного лидера.
Успех пришел к возглавляемым Гучковым октябристам на выборах в III Думу, их фракция числила в своих рядах более 200 человек. Огромное значение имело создание в III Думе по инициативе и под руководством Гучкова комиссии по государственной обороне. Внимание Гучкова к работе в армии усилилось после того, как в 1908 году султан Абдул Гамид II был свергнут группой офицеров и генералов Генштаба, получивших название «младотурок». Вот оно! Гучков распоряжался полученными с санкции военного министра знаниями весьма специфически: для критики высшего армейского руководства страны с думской трибуны, что стало для него трамплином к посту Председателя Государственной думы.
В психологии перехода Гучкова в решительную оппозицию власти пытался разобраться Мельников, утверждавший, что тот «был чрезмерно самолюбивым и честолюбивым… Ему непременно надо было привлечь к себе особенное внимание, резко выдвинуть свою фигуру, встать на высокий пьедестал»[65]. Генерал Лукомский писал: «Начал он борьбу с военным министром Сухомлиновым и прибегал иногда к недопустимым приемам. Затем возненавидел Государя и позволял себе недостойные выходки»[66]. Именно Гучков вбросил в общественное мнение тему управляющих Николаем «темных сил» и «распутинщины».

