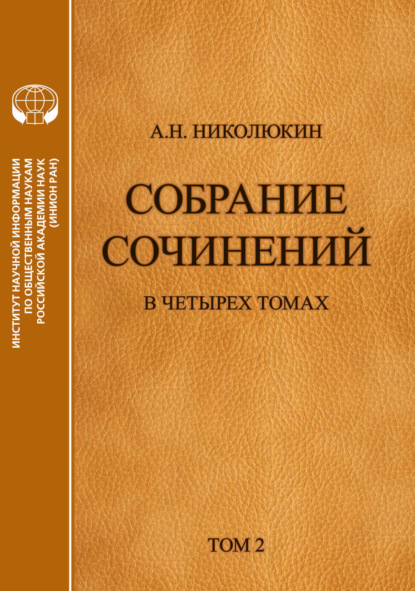
Полная версия:
Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов
Сообщая Пушкину, что он начал писать «Мертвые души», Гоголь говорит, что в романе ему хочется показать всю Русь «хоть с одного боку». Не всесторонне, многогранно и полно, а именно «с одного боку». Что это – скромность молодого писателя или неуверенность в своих силах? Отнюдь нет. Перед нами определенный эстетический замысел, установка на заданный угол зрения (в дальнейшем в ходе работы над романом писатель отошел от этого принципа романтической эстетики).
Одна из сторон романтизма Гоголя в «Мертвых душах» – знаменитые лирические отступления, завершающиеся романтическим апофеозом Руси в последней главе. Пристальный анализ романтической природы отступлений мог бы выявить их внутреннюю связь с лирическими отступлениями в «Евгении Онегине», а с другой стороны, с отступлениями в романах Достоевского (например, о фантастическом петербургском утре в восьмой главе первой части «Подростка»).
В канун восстания декабристов в журнале «Сын Отечества», где печатались многие из будущих декабристов, появилась статья К.Ф. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии», утверждавшая принципы романтизма. Она открывалась сопоставлением романтизма и классицизма – острейшей проблемой литературной жизни той поры: «Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас»[26].
Классицисты полагали, что романтизм – это обозначение атеизма, либерализма, терроризма, «чадо безверия и революции»[27]. Московский журнал «Атеней», печатавший произведения русских и зарубежных романтиков и вместе с тем довольно скептически относившийся к романтизму как литературному направлению, постоянно полемизировавший по этому поводу с «Московским Телеграфом», в ироническом отделе «Африканские новости» сообщал: «Несколько дней тому назад изобретен новый род словесности – Романтизм, и вслед за тем образовалось новое, а именно историческое направление века. Так пишут в мароккском “Жирафе”, который пред прочими африканскими журналами похваляется своим проворством в преследовании века»[28]. И здесь же приводится «Новое определение романтизма»: «Что такое романтизм? был вопрос в одном № мароккского “Жирафа”. Ответ помещен там же. “Это новый вид словесности, в котором для краткости выпускается здравый смысл” <…> У всякого барона своя фантазия».
Рецензируя в те же годы роман Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем», А. Бестужев-Марлинский мог со всей определенностью заявить: «Мы живем в веке романтизма. Есть люди, есть куча людей, которые воображают, что романтизм в отношении к читателям мода, в отношении к сочинителям причуда, а вовсе не потребность века, не жажда ума народного, не зов души человеческой»[29]. Романтики открыли историю, показали национальное как выражение общеисторического. Эта мысль, легшая в основу статьи Бестужева-Марлинского, еще ранее высказывалась Н. Полевым.
Первым признаком романтизма Полевой считает проявление творческой самобытности человеческой души (у Бестужева это приобрело формулу: «стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах»). Романтизм складывался «не только отдельно каждым народом, но даже отдельно каждым писателем. Мы не можем сказать, чтобы современный нам романтизм был французский, немецкий, английский, испанский: он многообразен, всемирен, всеобъемлющ… облекается в формы по времени, духу, местности народа, в котором явился тот или другой романтик»[30].
В своей программной статье «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах», откуда взято приведенное высказывание, Полевой пользуется понятием «романтизм» в двух смыслах. Он применяет его к европейской средневековой и возрожденческой литературе, а с другой стороны, «для означения литературы современной». Отличительной особенностью современного романтизма Полевой считает включение всех литератур в общий процесс взаимосвязей. «Быстрота литературных сношений, количество разнородных и разнонародных произведений истинно изумительны»[31], – замечает он. В качестве примера критик приводит французских писателей, которые черпают свои темы и сюжеты отовсюду – из Китая и Англии, Индии и Германии, Аравии и Испании, Африки и Италии, России и Северной Америки – «все платят дань… деятельности французов».
А через два года Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» писал о жанровых сдвигах в литературе: «Теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже так называемая или, лучше сказать, так называвшаяся романтическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, – все это теперь не больше как воспоминание о каком‐то веселом, но давно минувшем времени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя. Какие книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повести. Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? Романы и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, призванные и непризванные, начиная от самой высокой литературной аристократии до неугомонных рыцарей толкуна и Смоленского рынка? Романы и повести… Вследствие каких же причин произошло это явление? Кто, какой гений, какой могущественный талант произвел это новое направление?.. На этот раз нет виноватого: причина в духе времени, во всеобщем и, можно сказать, всемирном направлении» (1, 261).
Говоря о роли в этом процессе влияния иностранных литератур, Белинский утверждает, что русский народ «не может быть чуждым никакого общего умственного движения» (1, 261). Он одним из первых обращается к литературной типологии как методу исследования и критики современной литературы, утверждая, что в XIX столетни явления национальной литературы невозможно рассматривать вне связи с «всемирным направлением».
Изучая типологию романтической повести и романа в литературах России и Соединенных Штатов, следует иметь в виду, что черты сходства, наблюдаемые в этих двух литературах, могут быть в известной мере прослежены и в некоторых других литературах мира в периоды романтизма. Романтические повести и романы – явления национальной культуры. Мы знакомимся с ними как с фактами определенной литературы в определенный период ее истории и воспринимаем особенности этих жанров в связи с их местом и ролью в национальном литературном процессе.
При всем разнообразии творческих индивидуальностей и национальных особенностей развития романтической прозы в разных странах она несет на себе черты художественной соотнесенности. Как справедливо отмечает Ю.В. Манн, одним из важнейших аспектов изучения художественной эволюции романтизма является «соотношение фантастики и реальности»[32]. В итоговом труде Пушкинского Дома «Русская повесть XIX века» утверждается, что фантастика сделалась не только литературным течением, но и элементом общественного быта, питаемым литературой и, в свою очередь, питающим литературу. «Такое явление – едва ли не единственное в своем роде в истории новой русской литературы и почти не имеющее себе аналогий в истории западноевропейских литератур XIX века»[33].
В американской литературе происходило нечто аналогичное. История знакомства русского общества с произведениями американских романтиков рассмотрена нами в первой книге настоящего исследования. Сейчас же нас занимают явления иного рода.
Романтическая фантастика была «в духе времени», как говорил Белинский. И действительно, «Пиковая дама» Пушкина, «Петербургские повести» Гоголя – вершины фантастической прозы русской и мировой литературы. Как известно, Достоевский считал, что «Пиковая дама» – «верх искусства фантастического» (Письма, IV, 178).
В Соединенных Штатах романтическая новелла, зародившись в конце XVIII в. (Френо, Брокден Браун), складывается в 20–30‐е годы. Вслед за рассказами Ирвинга в американских журналах появляются новеллы Готорна, собранные затем в двух выпусках «Дважды рассказанных историй» (1837, 1842). В 1840 г. вышли два тома повестей По, печатавшихся в различных изданиях 30‐х годов. Сборник Гоголя назывался «Арабески» (1835), двухтомник По – «Гротески и арабески» (1840). Повесть Гоголя «Нос» (1836) и его набросок рассказа «Ночи на вилле» (1839) как бы предвосхищают новеллы По «Разговор Эйрос и Хармионы» (1839), «Беседа Моноса и Уны» (1841). Арабески и гротески становятся жанром, распространенным во многих литературах.
В середине 40‐х годов, когда в русской литературе утверждается реализм, в американской литературе происходит дальнейшее развитие романтической повести. Выходят «Повести» (1845) Эдгара По, «Легенды старой усадьбы» (1846) Готорна. Еще позднее, в 50‐е годы, с романтическими повестями выступает Мелвилл. При этом возникают новые ассоциации и сравнения: «Система доктора Смоля и профессора Перро» (1845) По и «Записки сумасшедшего» (1834) Гоголя, «Писец Бартлби» (1853) Мелвилла и «Нос» Гоголя.
Русские писатели читали американских романтиков по-русски с 1825 г., а по-английски и по-французски – и того ранее. Американским писателям-романтикам не довелось познакомиться с крупнейшими произведениями русского романтизма. Они были переведены слишком поздно.
Можно допустить известное воздействие художественной манеры Ирвинга и Купера на русскую литературу того времени, особенно на писателей второго и третьего плана (И.Т. Калашникова, автора сибирского романа «Дочь купца Жолобова» (1831), за который друзья прозвали его «русским Купером»). «Большие романтики» нередко использовали произведения своих американских современников в целях полемики или парафразы. Так, Н.Я. Берковский рассматривал пушкинскую «Метель» как полемическое выступление против новеллы Ирвинга «Жених-призрак»[34].
Русская литература долго оставалась неизвестной в Америке. И тем не менее в России и США складывался во многом сходный вид романтической повести. Конечно, немецкий и английский романтизм был достаточно хорошо известен в обеих странах, однако не эти инонациональные традиции определили черты русского и американского романтизма и элементы их сходства. Типологическая общность в развитии литературы в России и Соединенных Штатах была вызвана не отдельными случаями прямого влияния или заимствования, а историческими тенденциями литературной эволюции в обеих странах. Прослеживаемая общность дает основание говорить о том, что некоторые особенности романтической повести и романа не являются специфически национальными, а выражают свойства этих жанров в мировой литературе романтизма.
Обращая внимание не только на различие, но и на сходство далеких друг от друга литератур, возможно выявить в них некоторые черты, кажущиеся на первый взгляд случайными, но приобретающие определенный смысл в мировом литературном процессе. При этом важнейшее значение получает метод исследования подобных явлений. Приведем пример.
Сопоставляя описание беспокойного впечатления, произведенного на героя висящим над камином портретом в рассказе В. Ирвинга «Таинственный портрет», с чувством страха, испытываемого художником в повести Гоголя «Портрет», Г.И. Чудаков приходит к выводу, что сходство между повестями В. Ирвинга и Гоголя довольно близкое. «Объяснить его можно тем, что именно описание страха, возбуждаемого портретом, у Вашингтона Ирвинга произвело сильное впечатление и на самого Гоголя, читавшего, конечно, “Атеней”, где был помещен перевод “Таинственного портрета” в 1829 году, и первая мысль о “Портрете” могла зародиться у него под влиянием чтения названной повести, вследствие чего сцена, наиболее поразившая Гоголя, отразилась и в его произведении»[35].
Рассуждения исследователя безупречны в отношении фактов. Действительно, вполне вероятно, что Гоголь читал рассказ Ирвинга, переведенный в журнале «Атеней». Однако необъяснимым остается главное – почему среди всего, что читал Гоголь и в «Атенее» (где печатались повести не только Ирвинга, но и Л. Тика, отрывки из романа Купера «Пионеры» и другие переводы), и в иных журналах и книгах, его внимание обратилось именно к тому или другому произведению. Лежит ли причина интереса Гоголя в сочинении иностранного автора, или смысл обращения Гоголя к Ирвингу или другому писателю заключается не в них, а в самом Гоголе? Таково различие компаративистского и историко-литературного подхода к феномену, который принято обозначать словом «влияние». Научно объяснить факт близости повестей Ирвинга и Гоголя как проявление общих типологических тенденций развития романтической повести позволяет теория активного отбора, согласно которой представители одной национальной литературы обращаются к опыту другой национальной традиции в результате назревшей необходимости и потребности собственного литературно-художественного процесса.
3
Когда в 1834 г. Николай Полевой, приступая к рассказу о жизни русских крестьян, воскликнул: «Дай мне перо Ирвинга…»[36], за этим стояла уже многолетняя история восприятия американского писателя-романтика в России. Это афористическое восклицание передает восторженно-романтический настрой, с каким читался в пушкинскую пору Ирвинг.
С другой стороны, не следует преувеличивать значение подобных высказываний русских писателей. Когда современники Полевого стали говорить, что основанием для его исторического романа «Клятва при гробе Господнем» послужил «Шпион» Купера, Полевой решительно опроверг это утверждение. Его таинственный герой Гудошник совершенно не похож на героя куперовского романа. Редактировавшийся Полевым журнал писал по этому поводу: «У Купера изображен верный сын отечества, который… употребляет все силы и средства для его спасения… Но Иван Гудочник у Полевого и Блуд <в романе “Аскольдова могила”> у г-на Загоскина совсем другое: это люди, поклявшиеся мстить за отчизну, уже погибшую»[37].
Вместе с тем Полевой охотно использует форму очерка Ирвинга для создания новых жанров художественно-публицистической журналистики в своем «Московском Телеграфе». Он пишет рассказ о четырех старых русских журналах, о которых никогда и никто из его современников, вероятно, и не слыхивал, «разве кроме старожилов библиографических». Обращаясь к этим забытым ныне журналам, которых не найдешь даже в известных библиографических каталогах Сопикова, Плавильщикова и Смирдина, Полевой говорит: «Время, истерзав пестрые, красные, синие, дикие, голубые, желтые обвертки наших повременных книжечек, в которых иной думает дожить до потомства, истерзает и внутренность их, и тогда добрый журналист XX века, взворачивая пыль старых библиотек, удружит, может быть, и нам несколькими строчками и оживит память нашего существования, забвенную у потомков…»[38].
«Шутливый Ирвинг Вашингтон, – продолжает Полевой, переставляя местами имя и фамилию американского писателя, – написал остроумную статью о переменчивости книжной славы. Он говорит, что подслушал в какой‐то английской библиотеке разговор старых и новых книг. Что если, не переводя разговора этого, вообразить: какой бы мог быть разговор между старыми и новыми произведениями нашей литературы?»[39] И Полевой пишет рассказ, действующие лица которого – книги Симеона Полоцкого, Тредиаковского, Сумарокова.
Типологические параллели русского и американского романтизма весьма многообразны. Не предполагая дать исчерпывающей картины этой историко-литературной соотнесенности, начнем с того, что и русские, и американские романтики не уставали повторять, что «у нас нет литературы», имея в виду не всякую литературу, а лишь национальную и романтическую, которую они сами создавали.
Этот романтический лозунг был впервые выдвинут в программной речи Андрея Тургенева «О русской литературе» (1801), хотя подобные мысли возникали и в XVIII в. Призывая к созданию национальной словесности, он вопрошал: «Есть литература французская, немецкая, английская, но есть ли русская?»[40] В 1824 г. А.А. Бестужев писал в обзоре русской словесности: «У нас есть критика и нет литературы»[41]. В письме к Бестужеву Пушкин оспорил это утверждение: «Нет, фразу твою скажем наоборот; литература кой-какая у нас есть, а критики нет. Впрочем, ты сам немного ниже с этим соглашаешься» (XIII, 178). Но и сам Пушкин десять лет спустя пишет оставшуюся незаконченной статью «О ничтожестве литературы русской». Наконец, Белинский в романтический период своей деятельности говорил о «сомнительности существования» (I, 259) русской литературы.
Однако у Белинского эта мысль, высказывавшаяся до него Д.В. Веневитиновым, И.В. Киреевским, Н.И. Надеждиным, Н.А. Полевым, П.А. Вяземским и др., получает новое истолкование. Он, по существу, отбросил старую романтическую формулу, заменив ее анализом наследия Пушкина и творчества Гоголя как явлений национального духа.
Социально-исторический анализ действительности – одно из существенных свойств романтической прозы, как и реалистической. Русские писатели нередко решали в романтической повести или романе вполне конкретные вопросы общественной и политической жизни страны. Таков рассказ А. Бестужева «Кровь за кровь» («Замок Эйзен»), где за событиями древности постоянно ощущается романтическая интерпретация современных споров о проблеме справедливого возмездия, о средствах борьбы с деспотизмом. Не случайно такая новелла была включена в декабристский альманах «Звездочка».
Социально злободневны и многие произведения американских романтиков. Сатирическая «История Нью-Йорка» Ирвинга вся построена на недвусмысленных ассоциациях с современной общественно-политической жизнью. Рассказ По «Делец» отражает черты складывающегося нового человека буржуазной Америки. Этическая проблематика пуританской Америки во многом определяет новеллистику Готорна. В «Марди» Мелвилла за сложной романтической символикой ощущается живое биение пульса общественной жизни Америки и Европы того времени. И если до сих пор еще живуч миф об абстрактно-вневременном характере произведений романтизма, то это в значительной мере объясняется инерцией историко-литературного мышления. Хотя связи романтического произведения с действительностью иные, чем в реализме, именно художественная специфика отражения общественной жизни и определяет лицо романтизма.
Рассмотрим характерный случай историко-литературной ошибки, происшедшей в XIX в. в результате сходства жанра романтической новеллы на русском и английском языках. В 1839 г. основанный Пушкиным журнал «Современник» напечатал романтический рассказ «Праздник мертвецов. Перевод с малороссийского В.Н.С.». В XIX и в начале XX в. эта новелла считалась одним из ранних переводов По на русский язык – так называемый перевод-обработка, стилизованный на манер романтических повестей Гоголя из украинской жизни.
Сведения об этом раннем переводе По на русский язык вошли в справочники и неоднократно повторялись[42]. Так, А. Блок, выступая против распространенного в русском обществе мнения, «будто По был только “эстетом”, или, говоря более грубо, – только развлекал, пугал, вообще – “потешал публику”», полагал, что знакомство русского читателя с По началось еще в 30‐е годы XIX в., «когда один рассказ его был напечатан в “Современнике”» (5, 618).
Американское академическое литературоведение повторило эту версию уже в наше время. «Литературная история Соединенных Штатов Америки» (1948) утверждает: «Русские читали По в конце 30‐х годов, задолго до того, как он получил признание во Франции»[43]. Действительно, если бы в «Современнике» оказался опубликован рассказ По, это означало бы, что в России познакомились с великим американским писателем еще до того, как его новеллы, печатавшиеся в американских журналах, были собраны и изданы в первой книге его рассказов в 1840 г.
Только сравнительно недавно американские литературоведы убедились, что появившийся в «Современнике» рассказ не принадлежит По. В России псевдоним В.Н.С. был раскрыт давно, и теперь рассказ «Праздник мертвецов» печатается в сочинениях украинского писателя-романтика Г.Ф. Квитки-Основьяненко.
Ошибку атрибуции «Праздника мертвецов» нельзя считать лишь случайной путаницей. В самом деле, случайно ли рассказ выдающегося украинского писателя был принят за произведение Эдгара По? Или, может быть, у живших столь далеко друг от друга писателей были какие‐то черты, сближавшие их манеру повествования? Ответ на этот вопрос проливает свет на смысл и сущность типологического исследования литературы.
В русском и американском романтизме получил распространение жанр таинственной повести с реальной развязкой, когда сверхъестественные явления объясняются (или делается вид, что объясняются) вполне естественными обстоятельствами. В «Письмах к графине Е.П. Ростопчиной» В.Ф. Одоевский рассказывает об одном из таинственных случаев, свидетелем которого он стал. Однажды летней ночью он работал в своем петербургском кабинете на четвертом этаже. «Вдруг сзади меня послышался шелест шагов; сначала я подумал, что проходит кто-нибудь из домашних, и не обратил на это внимание; но шелест продолжался; он походил на медленное шарканье больного человека; словом, это были точь-в‐точь такие шаги, каких можно ожидать от привидения; признаюсь вам, что я несколько… хоть удивился, встал с кресел, посмотрел вокруг себя: двери были заперты, шелест явственно слышался в углу у печки»[44].
Страх и любопытство заставляют автора внимательно исследовать всю комнату; шелест то ослабевал, то усиливался, смотря по тому, приближался автор к углу с печкой или удалялся от него. Человек с пламенным воображением, наверное, даже увидел бы нечто похожее на привидение… Но вскоре загадка объяснилась самым простым образом: на Фонтанке против окон стояла барка с дровами, из которой выплескивали воду, обыкновенно натекающую в подобные барки. Этот звук не слышен при городском шуме, но ночью, входя в открытое окно четвертого этажа, «по особому акустическому устройству комнаты» отражался в одном из ее углов.
Этот случай Одоевский использует, чтобы сформулировать смысл своих фантастических рассказов. «Я хочу объяснить все эти страшные явления, подвести под них общие законы природы, содействовать истреблению суеверных страхов». Однако мы сделали бы непоправимую ошибку, если бы стали рассматривать романтическую прозу только с этой просветительской точки зрения.
Иное, «реальное» объяснение фантастического в романтической прозе весьма напоминает вынужденную уступку, которую делает Иван Карамазов, поясняя Алеше свою «безбрежную фантазию» о Великом инквизиторе: «Если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь qui pro quo, то пусть так и будет» (14, 228).
Этот пушкинский прием прозрения сквозь фантастику являлся нам и в «Гробовщике», и в «Пиковой даме», и в «Медном всаднике». Без фантазии немыслим романтизм, но без нее не может обойтись и реализм Достоевского.
К жанру таинственной романтической повести с реальной развязкой относится «Латник» А. Бестужева-Марлинского, «Черная перчатка» В. Одоевского, исполненные романтической иронии рассказы «Опал» И. Киреевского, «Перстень» Е. Баратынского. В американской литературе можно назвать новеллы «Жених-призрак» В. Ирвинга, «Сфинкс» Э. По и некоторые рассказы Н. Готорна («Деревянная статуя Драуна», «Снегурочка»).
Многие романтики воспринимали рассказы о привидениях с большой долей иронии. Ирвинг в самый напряженный момент своего рассказа, когда жених-призрак, вставший из могилы, на вороном коне похищает невесту, спокойно поясняет в авторской ремарке, что «случаи подобного рода не представляют в Германии ничего необычного, что подтверждается великим множеством вполне достоверных рассказов»[45]. В том же духе романтической иронии завершает свою повесть «Странный бал» русский романтик В.Н. Олин. В качестве неопровержимого подтверждения истинности всей истории с генералом, попавшим на бал к Сатане, рассказчик приводит следующий довод: «Я слышал ее от самого генерала, который только что оправился от белой горячки…»[46]. Еще более определенно о подобных историях высказался герой рассказа Е. Баратынского «Перстень»: «Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие»[47].
Рецензируя повесть В. Олина «Странный бал», которую автор в предисловии попытался уподобить «фосфорическим повестям» Гофмана и Ирвинга, Белинский высмеял представление о романтизме как поэзии кладбищ, чертей, ведьм, колдунов и привидений. «Только в двадцатых годах понимали так романтизм» (3, 74). К 1839 г., когда написана рецензия Белинского, романтизм означал нечто совсем иное. Гофманская фантастика была высоко оценена Белинским. В центре дискуссии о романтизме находилось понятие фантастического в жизни человеческой души. И Белинский, который никогда не был противником фантастического как такового, утверждает, что фантастическое «есть один из самых важных и самых глубоких элементов человеческого духа; мысль великая мерцает в таинственном сумраке царства фантастического…» (3, 75).
Отношение Белинского к романтизму до недавних пор трактовалось довольно односторонне. В его суждениях стремились выискивать критические нотки или в лучшем случае оценку романтизма как устремленности к последующему историко-литературному методу. И.В. Карташова обратила внимание на причину критического отзыва Белинского о «Портрете» Гоголя: «Эта оценка не была вызвана фантастическим характером повести, как часто считается. Неудовольствие Белинского вызвала вторая часть “Портрета” своей отвлеченностью и отчетливо проявившимися религиозными идеями… Первая же часть повести, причем не только социально-бытовой колорит ее, но и фантастический план, получила высокую оценку критика»[48]. Действительно, говоря о великой силе фантастики Гоголя, Белинский пишет: «Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что‐то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая‐то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страшно» (1, 303).



