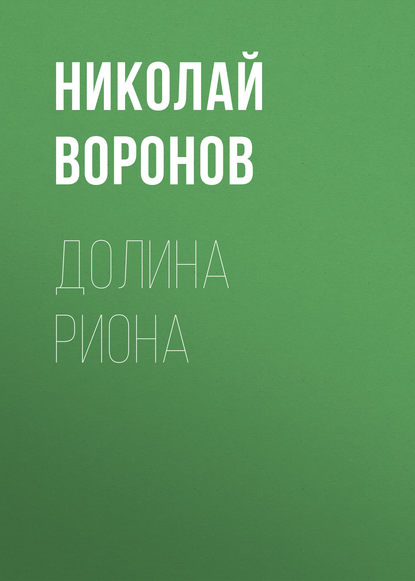 Полная версия
Полная версияДолина Риона

Николай Воронов
Долина Риона
(Из путевых воспоминаний)
Черное море на этот раз глядело действительно черным. В глубоких волнах его отражались одни лишь тучи, заслонявшие все небо. Мы плыли в нескольких милях от Мингрелии, но берега ее казались с палубы парохода неясным призраком. Сверху падал мелкий дождь, снизу поднимался туман, от берега также сквозь дождь полз туман: все бралось сыростью, все глядело кисло, неприветливо.
Вдруг море изменило свой цвет. Черные его воды как бы разом загрязнились, помутясь посторонними примесями, и пошли переливаться то свинцом, то аспидом, то охрой. Оглянувшись назад, можно было ясно очертить границу этой мутной воды, от которой чистые волны моря вежливо уклонялись, как бы боясь от нее загрязниться. А между тем эта загрязненная всякими примесями масса воды когда-то считалась священною… Словом, мы вступили в бассейн Риона, древнего Фазиса – одной из четырех великих рек земного рая; водою этой реки, по словам греческих географов, древние моряки запасались как святыней и как лучшею водою в мире…
А от берега все еще отделяло нас несколько миль. Не скоро туманные очерки его обозначились определенною полосою леса, густого, точно бесконечного леса, выпускавшего из себя двумя рукавами всю обильную массу рионской воды. В устьях этих рукавов вода вздымалась белыми гребнями: это речной бар, не пускающий в Рион большие суда, почему и наш пароход бросил якорь в почтительной дистанции от этой сердито-пенящейся преграды.
Глядя на сплошь поросший лесом берег, трудно догадаться, что мы пристали к портовому городу: его и не слыхать и не видать. Правда, у самого леса заметны два-три шалаша – вероятно, для таможенной стражи, а на просторном, открытом с моря рейде покачиваются на волнах всего два-три казачьих сторожевых баркаса. Но не сомневайтесь, порт здесь действительно есть, и в доказательство этого – смотрите – из лесной чащи дымит уже маленький пароход, скользит и прыгает по белеющему речному бару… Вот он добегает к нашему грузному судну, забирает пассажиров и кладь и снова убегает в лесную трущобу. Стало быть, где-нибудь же найдем мы пристанище, отыщем порт…
И вот на этом маленьком пароходе мы вошли в южный рукав Риона. Справа – лес, слева – лес; идем этой аллеей версты две, идем шибко по мутной извилистой реке, шириной в этом месте саженей в шестьдесят, и, наконец, направо показываются людские жилища – небольшая куча деревянных домиков, всех с полсотни, да и те смотрят не то бараками, не то амбарами, а за ними – серые стены полуразрушенной крепости. Это и есть портовый город Поти.
Впрочем, не беда, что он такой маленький и неказистый. Ведь он еще дитя – порт, не проживший и десяти лет. Куда ж ему выситься и шириться! Благо уж, что он, как ни на есть, стоит и не увяз в этой лесной и болотной трущобе. И что он не увязнет – в этом порукой могут служить его патроны, которые ухаживают за ним с отеческой заботой, планируют его, обстраивают и устраивают. Дай же ему Бог всяческого благоденствия![1]
Но – пока соорудят здесь гавань, пока проведут к ней железную дорогу, пока, наконец, минет детство этого порта и станет он выситься, шириться, служа настоящими воротами для торговли Закавказья с Европой, – все же не мешает оглядеть его теперь как калитку этих будущих ворот. С виду она действительно не очень пригожа. Пристанью служит какая-то стенка, подле которой склепано несколько досок. Затем – тут же и весь город: улицы узенькие, тротуаров нет, хотя почва топкая, а деревянные домики – весьма оригинальной постройки. Так как местность здесь болотистая, то придумали ставить строения на бревнах, вышиною в один и в два аршина; на эти бревна кладутся балки, на балках же настилается пол, и возводится весь бревенчатый остов дома. Такой способ постройки, вероятно, очень удобен для собак и свиней, которые под домами всегда могут находить для себя прохладные прогулки и спокойные ночлеги… Болотистую почву города предположено осушить дренажом, для чего прорыты и канавы; но вода, собираясь в них, не находит стока и гниет, заражая и без того нездоровый воздух, тогда как, казалось бы, можно было дать сток этой воде прямо в Рион. На торговую роль города намекают только стоящие у пристани турецкие кочермы и мингрельские каюки.
Однако, чтобы поскорее скрасить всю неблаговидную наружность дитяти-порта, спешу сказать, что уже и теперь, при всей ничтожности стоящего здесь каботажа, чрез Поти ввозится товаров на 700 тысяч, а вывозится почти на 4 миллиона рублей, что для торговой калитки Закавказья, согласитесь, очень и очень немало[2].
Но и этого еще недостаточно для совершенного оправдания неблаговидной наружности потийского порта; нужно вспомнить кое-что из прошлого об этом местечке. Не залезая в глубь времен, не тревожа праха ни Язона, ни Медеи, не поминая лихом даже турок, построивших потийскую крепость, довольно для нашей цели коснуться истории этого поселения лишь с тех пор, когда на устьях Риона окончательно утвердились русские. Тотчас же возникла было мысль основать здесь порт для всего Закавказья. Мысль перешла и в дело. В самый 1828 год переселили сюда жителей Редута и учредили порт. Но десять лет спустя, говорят, вследствие злейших лихорадок, упразднили потийскую крепость, а порт с жителями перенесли обратно в Редут. Наконец, в 1856 году снова повернули порт в Поти и опять потревожили жителей Редута… Вспоминая это прошлое, потийские обыватели недоумевали, как им быть: а оттого-то они плохо и обстраиваются… Капитальные постройки, предпринятые в последнее время по устройству потийской гавани, могут удостоверить долго кочевавших портовиков-жителей, что кочевке их настал конец.
Что до меня, то я верю в возможность будущего для Поти как порта. На юге России, далеко при менее благоприятных обстоятельствах, существуют же портовые города. Ради привилегий и свободы от рекрутской и гильдейской повинностей, в них обыкновенно стекается бедный скитальческий люд, а ради торговли понемногу собираются сюда греки, армяне, наконец, появляются русские чиновники, и станет порт официально существовать во всем как следует, представляя из года в год ведомости о количестве ввоза и вывоза, о числе приходивших и уходивших кораблей… Наружность его, при усердии начальства и обывателей, приукрасится и городским садом, и бульваром, и даже – публичной библиотекой, словом – всем благоустройством наших южных, созданных свыше, привилегированных портов. Так было с другими местечками, возведенными в портовый чин, – отчего же не случиться этому и с Поти? Я верю даже, что с ним и лучшее что-нибудь случится… Он уж и теперь имеет городской сад, хотя не устроил еще достаточных помещений для склада транзитных товаров, которые иногда долго совершенствуются, лежа под открытым небом. Видно, по южному своему темпераменту он больше склонен к удовольствиям, чем к холодным расчетам.
Я очень неравнодушен к будущей его участи; в мое чувство к нему я желал бы увлечь и читателя. А потому поведу вас еще в потийскую крепость, от которой, как от центра, пойдут радиусами улицы будущего города к самому морю. В потийской крепости есть цветы и деревья, и притом, какие цветы и какие деревья! Здесь та тощая гортензия, которую мы выращиваем в горшках, разрослась в громадные кусты, которые куда повыше нас с вами, читатель, и куда пошире наипространнейшего вашего кринолина, читательница! А сколько аромата от золотистых цветов азалии, и какие тут розы, жасмины, лилии и гвоздики! Здесь единственная в России рощица лимонных и померанцевых деревьев… К сожалению, жестокие морозы зимы шестьдесят первого года проникли даже и в этот вполне тепличный уголок Закавказья; от них померанцевые и лимонные деревья в Поти значительно пострадали, так что пришлось их вырубить и дать рост только молодым их побегам… Зато все еще какая тут темная глянцевитая зелень от густой листвы миртовых, лавровых, фиговых дерев, среди которой местами как жар горят ярко-пунцовые цветы граната! Словом: в этой крепостце, построенной в XVI веке турецким генералом Мустафою во время войн турок с персами, заглохшей потом в тридцатых годах настоящего столетия, возник теперь хорошенький сад, который может служить выставкой здешней богатейшей флоры. В стенах этой крепости воинственными ее обитателями служат разве одни скорпионы, да и те, говорят, от влажности здешнего климата не очень-то ядовиты.
Едва пришлось мне проплыть немного от Поти вверх по Риону, как я услышал возгласы пассажиров: «Что за прелесть! Да это наша Бразилия!».
Не знаю, какова настоящая американская Бразилия, а наша, пририонская, глядит действительно вызывающею на возглас поэтическою дичью. Направо – берег Гурии, налево – берег Мингрелии одинаково заросли густым-прегустым девственным лесом; полоса реки, шириною саженей в 200, сереет главной водной аллеей в гуще нескончаемой зелени, а зелень эта глядит перепутанной, скомканной из разнообразной листвы и разнокалиберных стволов чащей. Берега – низменные; корни прибрежных дерев постоянно моются в воде, а ветви наклоняются к самой поверхности реки. Справа и слева в Рион течет много притоков; все они пробиваются из такого же непроглядного леса; взглянешь в полоску их течения, и опять перед вами сереют боковые водные аллеи, в которых также купаются ветви прибрежных дерев и кустов. Глушь неприветливая, давящая сердце; простору совсем нет; в воздухе – душные испарения – не то туман, не то мелкий дождь; растительность точно глушит жизнь всего, что не дерево, не куст, не былинка… Но это только кажется так. А прислушайтесь в тишине вечера к животной жизни этих трущоб: сколько шелеста, шуму и крику! От возни древесного червяка, который, как часовой маятник, стучит в каждом дереве, от жужжанья бесчисленных мошек и комаров, от всплеска рыбы на поверхности речной до тысячегласного кваканья лягушек, до проницательного крика шакалов – сколько тут разнохарактерных голосов животной природы!
Чем выше, однако, от устья Риона, тем здешние леса все больше теряют вид никем не обитаемой трущобы. На странный среди этой дичи шум колес парохода, особенно же на свисток паровика, начинают выбегать на берег жильцы этих древесных чащ – люди и животные. Те и другие ведут себя совершенно одинаково: большею частию, выбежав из-за кустов, навостряют уши по направлению к изумившему их шуму, глядят долго, стоя, как вкопанные, и вдруг – быстрым поворотом назад скрываются в непроглядных кустах. Редкий смельчак из людей простоит на берегу и в ту минуту, когда мимо него скользит пароход, и если уже простоит, то нельзя не залюбоваться его свободной и грациозной позой. Что за красивое племя! Мужчина ли, женщина – одинаково проворные – бегут они на берег, как стройные гончие, вытягивают шеи вперед, точно нюхают воздух, – и вдруг остановятся, точно замрут в этой стремительной позе. Живая модель для художника! А одежи на них всего какая-нибудь цветная тряпка; на головах – одни вьющиеся черные кудри; ребятишки же выбегают и совсем нагие… Помню, в одном месте берега дала осмотреть себя целая семья этих пририонских дикарей. Кто сидел на траве, кто оперся спиной о дерево, все – в самых непринужденных позах, а впереди, у самого берега, полулежала изжелта-смуглая нагая женщина, глядевшая на пароход совсем как безумная: черные, скомканные косы падали у ней на отвислые желтые груди, глаза ее не моргнули ни разу, точно окаменелые, а изо рта текли слюни… Холодом обдал меня вид этой библейской прокаженной…
Еще выше по Риону – и в лесной чаще, на несколько приподнятых над водой берегах, начинают попадаться маленькие поляны с жилищами туземцев. Все это – отдельные дворы, огороженные кустарником или же досками, перевитыми плющом, тыквами, хмелем. В тени отдельно растущих раскидистых каштанов или яворов стоит обыкновенно приземистая бревенчатая сакля, без окон, без трубы, с соломенной крышей, которая напереди опирается на пять столбов с резными перилами. Под этим передним навесом, составляющим почти половину всей сакли, прохлаждаются жители большую часть дня; в избе только спят или возятся около очага. На дворе – и поле: тут и кукуруза шуршит своими широкими листьями, тут кустится и гоми – здешнее плодовитое просо, тут и виноградная лоза вьется по стволу гиганта-орешника, обильно убираясь фиолетовыми гроздьями. Все эти дары природы здесь нипочем: виноград – общая собственность; за лукошко грецких орехов с вас много запросят – шаур, то есть 5 копеек; а местный хлеб из гоми – самую обычную пищу туземцев – и даром не берите: это вполне камень-хлеб…
Еще и еще выше по Риону – и плыть становится все отраднее. Дичь и глушь лесная редеют; горизонт расширяется; к берегам реки подходят живописные холмы, а над ними все картиннее встают горы в самых прихотливых очерках. Изгибы Риона учащаются. Один поворот – и перед вами, поверх лесного моря, встают в туманной дали громады Кавказа с серебристыми ледяными вершинами, то зубчатою стеной, то широкими шатрами, то наподобие остроконечных сахарных голов; другой поворот – и так близко, что, кажется, рукой бы их взять, приходят изгибы ахалцыхской гряды, с золотистыми полянами на скатах, с темными сосновыми рощами на перевалах, с голыми ребрами красных скал на вершинах; еще поворот, и опять белеют в отдалении снеговые громады, но уж не Кавказа, а Анатолии, и к ним, покрываясь мглою, расстилается другое лесное море. Повороты так часты, что не успеешь осмотреться; все же самым заманчивым ландшафтом глядятся все ближе и ближе подходящие холмы Имеретии. Их нежный светло-зеленый колорит, их мягкие, озолоченные солнцем изгибы так приветливо смотрят, что поскорее бы к ним – из этой пририонской лесной трущобы, пропитанной сыростью, затянутой тяжелыми болотными испарениями, – из этой области воды и леса…
С такими ощущениями доезжаешь до Усть-Цхенис-Цхали. Только до этого местечка и доходят пароходы. Выше – Рион уж вполне горная река; там он течет по каменному ложу, бурлит, пенится, хлещет волною в гранитные глыбы и шумит-шумит каскадами…
При мелководье проезжающим по Риону приходится тянуться на туземных каюках – допотопного устройства плоскодонных лодках, поднимающих 300-500 пудов груза. На таких каюках делают переезд в 80 верст в несколько дней, подвергая себя и жалам множества комаров, и ливням здешних дождей, и припеку здешнего жгучего солнца. Большое уж благо, если на каюке есть навес, хотя бы из свежих виноградных лоз, даже с кистями спелого винограда… Местами тянут эти каюки бичевой, местами подталкивают их на шестах. Беда, если навстречу им несется пароход: каюки нагружаются вплотную, а борты у них низкие, так что прибой внезапной волны чуть не заливает их вконец. Тут-то крику и брани на этого шайтана, на этот пароход – заморскую выдумку! Тем не менее весь почти груз отправляющими чрез Поти заграницу перевозится на этих длинных ящиках-лодках. На них грузят нухинский шелк, эриванский хлопок, имеретинский маис, грузинскую овечью шерсть и прочее.
Вообще фарватер Риона глубок, но он часто меняется. Где сегодня удалось пароходу пройти свободно, там завтра он может врезаться в мель. Но еще большая помеха плаванию по Риону – карчи, подводные деревья, пустившие корни свои на дне реки и выглядывающие из-под воды только верхушками или, что еще хуже, вовсе не выглядывающие: попадет на такое подводное дерево пароход и как раз разобьет свои колеса. Кормчий зорко следит за рябью бегущей реки; где эта рябь берется кругами, где она расстилается гладью или же маслится, там наверно засела на дне карча. Также немало затруднений управлять пароходом вниз по течению: река быстра и к тому же извилиста; на крутых поворотах часто приходится носом толкаться в берег и отваливать от него груды земли; хорошо, что грунт мягкий…
Усть-Цхенис-Цхали или Марань – местечко на правом берегу Риона, при впадении в него реки Цхенис-Цхали, – обстроились заново после восточной войны, на месте старой Марани, сожженной нашими войсками. Здесь есть довольно благоустроенная станция, так как отсюда начинается уже шоссейный путь через Имеретию в Тифлис; есть площадь, застроенная духанами; есть хорошенькие, в русском духе домики, принадлежащие поселенным тут скопцам. Бесконечно тянувшийся доселе пририонский лес в окрестностях Марани переходит в бесконечный сад – библейский рай, не насажденный руками человека. Таким именно раем и слывет Имеретия в устах народа. Тут уже не так сыро, как в низовьях Риона: маранская станция уже на 67 футов выше моря, тогда как Поти лишь на 5. Все же и здесь ощущается значительная влажность воздуха; мгла незаметно стелется между зеленью дерев, дальние очерки гор Кавказа и Анатолии плавают в светлых испарениях, мягко и нежно сливаются окраины земли и неба…
Рыночный день, как и во всем здешнем крае, в Марани бывает в пятницу, накануне еврейского шабаша: обычаи евреев вообще распространены на востоке… В силу этого в Мингрелии на неделю приходится три нерабочих дня: пятница как базарный день, суббота как праздник восточный и воскресенье как праздник христианский. На маранский базар сходятся окрестные жители не столько для торга, сколько для гульбы и щегольства нарядами: это вполне праздник и выставка красивых, кокетливых туземок… Мингрелки и гурянки спешат сюда не столько с целью продать фазана, или корзину орехов, или другой какой пустячок, сколько – себя показать…
Но любоваться здешними красавицами могут одни скопцы, поселенные в Марани целою колонией. Еще в 1826 году генерал Ермолов собрал этих фанатиков со всего кавказского края и, составивши из них инвалидную роту, поселил при Рионе. В этой нездоровой местности они обязаны были тяжкою работою сплавлять по рекам Мингрелии фураж и провиант к взморью – к Редуту и к рионскому форту. Такое специальное назначение хорошо ознакомило их с краем и приучило к речному плаванию, так что они сделались ловкими коммерсантами и опытными лоцманами. В настоящее время для всякого приезжего в этот край скопцы – истинное сокровище: только у них можно найти помещение в их опрятных жилищах; у них только можно нанять лошадей и повозку, у них запасетесь и провизией на дорогу: икрой, рыбой, птицей, хлебом; они – скупщики местных произведений, они и на пароходах рионских служителями и кормчими. Ермоловым было собрано их сюда до 300 человек; по статистическим сведениям за 1855 год, их считалось уже всего 165 мужчин и 6 женщин; теперь их, вероятно, еще меньше. К ним принадлежат люди разных краев России и разных званий. Считают они себя в числе православных, хотя цитируют такие места из Священного Писания, каких в нем вовсе нет. Впрочем, нужно сказать по правде, в их верование трудно проникнуть: они скрытничают, не открываясь в своих религиозных убеждениях, никого и ни за что не допуская подглядеть свои мистерии, совершающиеся у них по субботам и воскресеньям. У них есть свои жрецы или проповедники; кажется, проповедями этих главных фанатиков и держится секта. Скопцы – большие постники; они не едят мяса, не пьют вина. Все одинаково отзываются об их трудолюбии, честности, вежливости и деликатности в обхождении; в обстановке своей они опрятны и чистоплотны. Наружность их невольно бросается в глаза. Это все длинные и тощие фигуры; на них солдатские серые шинели мотаются неуклюже, как на вешалках. Лица – больше бабьи, чем мужские. На щеках, желтых и брюзглых – ни кровинки; глаза мутные, оловянные; губы тонкие, высохшие; усы и борода не растут. На всех их один и тот же отпечаток выражения, и с трудом отличаешь одно лицо от другого. Вообще видом своим они напоминают исхудалых обитателей какого-нибудь госпиталя; их серые обвислые шинели точно больничные халаты; восковые, безжизненные их лица, как и лица больных, производят тяжелое впечатление… Скопчих я не видал, но слышал, что скопчихи вообще не в состоянии достигать своих религиозных целей подобно мужчинам: после всевозможных уродований своего организма они все-таки иной раз волнуются страстями и похотями. Да и мужчины не избавились от всех страстей. Освободив себя от волнений любви, они впали в страсть копить, приобретать, так или иначе зашибать копейку. Страсть к стяжанию главным образом побуждает их и к постоянному труду и к промышленной предприимчивости. Оттого все они люди зажиточные, некоторые – даже почтенные капиталисты…
Эти-то добровольные евнухи толкаются на моранском базаре промеж полногрудых мингрелок и гурянок. Les extrêmes se touchent. Под навесом раскидистых каштанов и орешников, в этом не насажденном руками человека саду, туземки, хотя не задаваясь никакими верованиями[3], жадно посматривают кокетливым взглядом на любителей их прелестей…
Впрочем, на моранском базаре встречаются и щеголи-мингрельцы. Иные из них лихо гарцуют на коне, потряхивая черными кудрями, едва прикрытыми пестро-вышитою куди или папанаки – кружком черного сукна, подвязанным на ремне под подбородок и надвигаемым то на глаза, то на темя, то на затылок, смотря по тому, как падают лучи солнца.
Как ни картинна пририонская страна, как ни красивы ее жители, а все же вы придете чуть ли не в ужас, если только дадите полную веру путешественникам, описывавшим здешнюю жизнь, а главное – если не возьмете на себя труда проверить их описания требованиями здравого смысла и указаниями исторической науки.
В конце XVII века, проездом в Персию, посетил пририонский край швейцарский путешественник, m-r Le chevalier Chardin, и в первых двух томах своего десятитомного сочинения, изданного еще в 1711 году в Амстердаме, поместил несколько любопытных известий о западном Закавказье. Эти известия отчасти собраны им самим, а еще больше позаимствованы от отцов театинов, которые поселились здесь с 1627 года, то как медики, то как миссионеры. Без сомнения известия их о пририонском крае не отличаются ни религиозной, ни социальной терпимостью.
И вот этот Шардэн послужил обильным источником для следовавших за ним в долину Риона нравоописателей-путешественников. Чуть развернешь любое из их сочинений о Гурии и Мингрелии, так уж и изволь вслед за авторами хныкать по поводу всевозможных пороков местного населения[4]. «Нищета, – твердят они, – в крае ужасная; дети – полунагие, испачканные; женщины – в высшей степени развратные; мужчины – плуты и разбойники; а все вместе, и дети, и женщины, и мужчины, – страшные пьяницы». «Je n'ai rien vu de sale de dégoût comme cela!» – воскликнул Шардэн, и вслед за ним до сих пор путешественники большею частью служат эхом такого благонравного возгласа. Сколько мне известно, только путешественник le chavalier Gamba отнесся к жителям Мингрелии хоть несколько вежливо, сказавши мимоходом, что нравы их, после путешествия Шардэна, значительно улучшились. И слава Богу!.. А более других добродушный путешественник, барон Гакстгаузен, чуть не плачет даже и о том, что здесь, в Мингрелии, когда-то аргонавты искали золотое руно, что здесь, на Рионе, когда-то любились Язон и Медея, – и увы! всего этого не осталось и следа в воспоминаниях людей, ныне населяющих эту землю… Я бы мог утешить достопочтенного путешественника, сказавши, что мне доподлинно известна одна мингрелка, которая не только помнит об аргонавтах, но считает себя в прямом родстве с Медеей и даже показывает кубок, некогда напоявший уста Язона: быть может, и утешился бы этим сведением добродушный немец, да легко ли станет от того самим мингрельцам?..
И отчего же так жалки и отвратительны обитатели рионской долины? «А все потому, – твердят одни путешественники, – что они бедны». «Нет, – замечают другие, – потому что они не столько бедны, сколько невежественны…». «Да еще ленивы», – добавляют третьи. «Нет, это все еще не то… – перебивает кто-то, – главный источник зла скрывается в невежестве жителей и в совершенном неразумении ими собственной своей пользы». Еще бы! Какие, в самом деле, чудаки эти пририонские жители: даже собственной своей пользы не разумеют?! И за это, именно за это обратился к ним другой путешественник с такою речью: «О коптители неба! Какое самое заботливое правительство в состоянии вас вывести из того состояния невежества, глупости и лени, в которых вы коснеете?..». Жаль, что мингрельцы не читают по-русски: они бы, наверное, исправились от такой изящной и назидательной речи. Но я должен сообщить подобным путешественникам, что им несколько противоречит один русский смотритель пририонской станции. На вопрос мой, что он скажет насчет туземцев, он отозвался, что – «и говорить об них не стоит: сказано – пропащий народ! даже в праздник работает, все равно, что нехристь…». Неужели? Да они – говорят – ленивы, три дня в неделю празднуют?.. – «Э, кто не рад полениться! – заметил смотритель, – только у них вся беда из-за того, что праздников не почитают…». «Да, правда! – подумал я. – Вот и барон Гакстгаузен испорченность пририонских жителей приписывает именно упадку церкви. Но к этому Гакстгаузен привлек в виновные еще и высшие слои общества…». Словом, как видите, причин жалкого состояния обитателей рионской долины оказывается много, и нельзя не сказать, что эти причины одна другой несколько противоречат. Ради этих-то противоречий и нужно как можно обстоятельнее осмотреться в здешнем крае: быть может, жители его народ еще не совсем пропащий…

