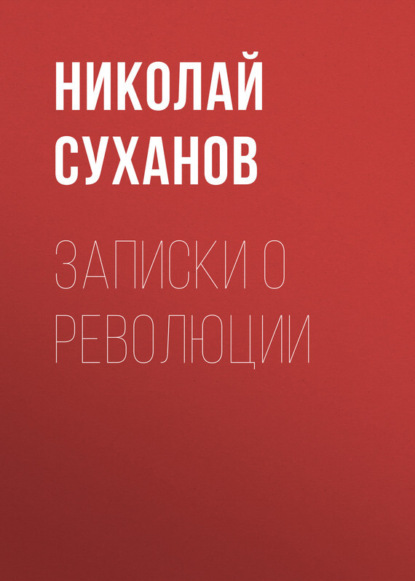 Полная версия
Полная версияЗаписки о революции
– Ваше Высочество, вы благородный человек, и я всегда отныне буду заявлять это. Ваш поступок оценит история, он высокопатриотичен и обнаруживает вашу любовь к родине…
Керенский был искренний, хороший человек. Он самоотверженно и деятельно любил и родину, и революцию, и социализм, и демократию. Злостный вздор говорит Милюков, что в этих словах Керенского ничего не «чувствовалось», кроме «страха за себя» (!). Но… не чувствуется ли уже в этом импульсе Керенского и в редакции его заявления такой размагниченный, ребячливый, не знающий чувства меры романтик-импрессионист, которому, как до звезды небесной, далеко до вождя революции и государства?..
С Романовыми было покончено формально… Но в советских сферах и даже в Исполнительном Комитете обо всем вышеизложенном ничего не знали, как не знали и об обстоятельствах отречения Николая. Не знали об этом чуть ли не до вечера, до выхода № 8 информационного листка «Известий», издававшихся репортерами большой прессы. Там над текстом отречения Николая красовался аншлаг об отказе Михаила в редакции, достойной высококультурной и не менее демократической бульварно-литературной братии. «Великий князь Михаил Александрович отказался от своих прав на престол», – писали эти господа, всенародно наградившие его таковыми «правами».
Вероятно Чхеидзе, хотя и был членом думского комитета, ничего не знал ни о посылке в Псков Гучкова и Шульгина, ни о предприятиях правого крыла по отношению к Михаилу. Но министр Керенский в этих последних предприятиях во всяком случае принимал самое деятельное участие, будучи вместе с тем товарищем председателя Совета и членом Исполнительного Комитета.
Обо всем вышеизложенном ни тогда, 3 марта, ни когда-либо после Керенский не счел за благо сообщить демократическим советским организациям, посланником которых в министерстве он себя именовал. Пусть он действовал тысячу раз правильно, пусть он владел даже даром предвидения и наверняка знал, чем увенчаются его действия. Но не любопытно ли, не характерно ли, не знаменательно ли для будущей судьбы Керенского, что от имени демократии он действовал без согласия и ведома ее полномочных органов с первых же шагов…
Дело о Романовых 3 марта уже не грозило серьезными опасностями революции. Но все же, не дай Михаил Романов своего ответа, так восхитившего нового министра юстиции, пустись Романов на авантюру отстаивания «своих прав», прояви Гучков больше осмотрительности, обратись он вместо железнодорожников к юнкерам, организуй он небольшой сборный отряд, хотя бы и вне Петрограда, существенных осложнений с делом Романовых нам бы не миновать.
И все же Керенский не подумал держать Исполнительный Комитет в курсе хлопот и мероприятий новорожденного кабинета, не подумал предупредить левое крыло о возможных осложнениях и войти с ним в контакт на случаи боевых действий и защиты действительных прав демократии… Керенский был демократ недемократический, чуждый ее методов, оторванный от ее корней. Дурную службу сослужили эти его свойства и революции, а пуще ему самому.
3 марта не было заседания Совета. Накануне он уже выполнил основную задачу этих дней и первую политическую задачу революции: создал новую власть и определил ее программу.
Текущая работа не могла выполняться пленумом и легла на Исполнительный Комитет, который, имея в своем составе президиум Совета, естественно, должен был намечать программу работ пленума и заготовлять проекты его решений. Недостаточное внимание Исполнительного Комитета к этому делу и недостаточные возможности заниматься им, конечно, были бы источником разрыва или недостаточного контакта между Советом и его исполнительным органом.
Это могло иметь очень нежелательные последствия. На примере заседания 1 марта, где независимо от Исполнительного Комитета вырабатывались основы «Приказа № 1» мы уже видели, к чему в иных случаях могла бы привести такая параллельная «самостоятельная» работа Совета и Исполнительного Комитета в разных углах.
Заваленные необходимой мелочной текущей работой, мы решили покончить с ежедневными заседаниями Совета и, в частности, не собирать его 3 марта. К тому же Совет не только был «излишен», а члены его бесполезны в Таврическом дворце: они были крайне полезны на местах, в районах, на своих заводах. И информация, и контакт Совета с массами были необходимы, как хлеб насущный; выступления же «на местах» советских лидеров, особенно виднейших, были возможны лишь в единичных случаях. Было необходимо каждому члену Совета развить агитаторскую и организационную деятельность среди своих – soit dit[42] – избирателей.
Неловко сказать, но грех утаить: была и еще причина отложить заседание Совета: Совет безмерно увеличивал толкотню, суету, беспорядок и неразбериху во дворце революции. Это сделалось наконец невыносимо для членов Исполнительного Комитета, совершенно истрепанных и без того. Работа в условиях, когда переход из комнаты в другую требовал невероятных усилий и времени, стала нестерпимой. Надо было хоть денек «отдохнуть от Совета» и тысячных толп, привлекавшихся им во дворец. Это стало чувствоваться всеми, и многие выражали таковые неприличные чувства, недвусмысленно посылая к черту этот перманентный митинг среди рабочих апартаментов Исполнительного Комитета.
Заседание было назначено на субботу, 4-го, причем было постановлено, что пятница будет посвящена членами Совета работе на заводах и каждого в своих учреждениях… К субботе предполагалось очистить хоры Белого зала от арестованных и приспособить думский зал – зал Милюкова, Шульгина и Пуришкевича – для заседаний Совета.
Около 7 часов вечера я отправился обедать к доктору Манухину. И только тут я узнал об обстоятельствах отречения Николая. Манухин в этот день видел Гучкова, от него узнал об его поездке с Шульгиным в Псков и рассказал о ней мне.
Вернувшись во дворец, я застал его пустым, а все заседания законченными. В новой комнате Исполнительного Комитета среди беспорядка, в облаках табачного дыма, новый секретарь Капелинский собирал свои бумаги и приводил в порядок протоколы. А в коридоре у этой комнаты, близ входа в большой думский зал, в конце вереницы раскинутых здесь партийных лавочек с плакатами и литературой, совсем «на ходу» зачем-то сидел в кресле измученный Чхеидзе и не спеша переговаривался с кем-то из товарищей, одетый, несмотря на жару, в шубу, положив ноги на придвинутый стул… Поблизости стояло несколько посторонних людей, рассматривавших знаменитого рабочего депутата. Чхеидзе благодушествовал после трудов в мирной приватной беседе и, несмотря на отчаянную усталость, имел какой-то удовлетворенный вид…
Об этом «папаше» революции, несмотря на вредные его позиции, я храню самые теплые воспоминания. Чхеидзе не был годен в пролетарские и партийные вожди, и он никого никогда и никуда не вел: для этого у него не было ни малейших данных. Напротив, у него были все данные, чтобы вечно ходить на поводу, иногда немного упираясь. И бывали случаи, когда его друзья заводили его в такие дебри политиканства, где ему было совсем не по себе, и в такие авантюры, которым он не только не сочувствовал, но против которых решительно протестовал, хотя и… не публично.
Но, превратив его в икону, его водили, ибо основательно упираться он не имел силы. А зайдя куда не следует, он бесплодно протестовал, ибо этот «околопартийный человек», по выражению Ленина, был безупречно честным солдатом революции, душой и телом преданный демократии и рабочему движению.
Я подошел к беседующей группе с намерением рассказать о подвигах Гучкова и Шульгина в Пскове и запросить и выразить свое негодование по поводу политики правого крыла в вопросе о монархии. Но я не успел этого сделать. Чхеидзе имел ко мне свое дело. Он подозвал меня к самому уху:
– Вот, Николай Николаевич, я хотел с вами поговорить, чем надо озаботиться. Надо ведь нам издать обращение к европейскому пролетариату… От имени Совета и русской революции.
Конечно!.. Я, как и многие товарищи, уже думал об этом. Но было некогда… И сейчас мы не успели окончить этот разговор. Подбежал кто-то и потребовал «на минутку» собраться в заседание Исполнительного Комитета: есть экстренное дело…
Поплелся Чхеидзе, побежали разыскивать друг друга, и человек двенадцать через несколько минут собрались в комнате № 12, в первом зале заседаний Совета… Ярко освещенный зал был довольно пуст. Стол «покоем» был разобран, и отдельные его части были теперь расположены по стенам. Через несколько дней в этой комнате утвердилась надолго канцелярия Исполнительного Комитета. Сейчас же в ней виднелись небольшие кучки людей, солдат и матросов. Человек двадцать сгрудились в конце комнаты около какого-то стола. Оказалось, что перед нами «важное» нововведение: впервые раздают горячий ужин. Люди расходились от «буфета» с тарелками, плошками, мисками супа.
Сесть было негде. Мы, Исполнительный Комитет, сбились в кучу в углу комнаты и открыли «заседание» стоя. Экстренное дело состояло в гельсингфорсских событиях.
Были получены известия, что в Гельсингфорсе в Балтийском флоте произошли события, подобные кронштадтским. Переворот, несмотря на упорство, противодействие и провокацию чинов флота, администрации и жандармов, произошел легко и быстро, но именно благодаря всему этому сопровождался эксцессами и насилиями над начальствующими лицами. Несколько флотских офицеров было убито, и многие на кораблях и на суше сидели под замком.
Конечно, буржуазные источники передали нам об этих эксцессах в преувеличенном виде. Говорили о погромах и массовых избиениях. Эксцессы эти были неприятны и опасны тем более, что происходили они на фронте, можно сказать, в виду неприятеля. Намерений и возможностей германского генерального штаба никто не знал, и никак нельзя было ручаться, что немцы сугубо не используют заминки и неизбежной временной неурядицы в нашем флоте.
Во всяком случае, было необходимо принять меры к урегулированию отношений среди моряков и обеспечить защиту Петербурга с моря. Надо было послать известного матросам и авторитетного для них делегата. Мы недолго поговорили и послали Скобелева, прикомандировав к нему одного солдата и одного матроса из членов Исполнительного Комитета.
Скобелев выехал немедленно, в тот же вечер. Вернувшись через два дня, он 6 марта докладывал в Совете о своей поездке. Это была не «командировка», а триумф представителя советской демократии и в Финляндии среди финнов, и во флоте среди его нижних чинов…
Совету еще предстояла упорная борьба за армию, которую было необходимо вырвать из-под влияния буржуазии, чтобы обеспечить полное торжество демократии. Но флот уже был завоеван: он был отныне и навсегда уже верен Совету. И здесь перед нами стояла иная задача: беречь флот не от буржуазии, а от анархистских эксцессов и от разгула стихий. Во всяком случае, в смысле сохранения относительной боеспособности, флот остался надежным до конца, несмотря на все вопли патриотов, делавших вид, что они находятся в панике от возможного пришествия немцев, на деле же бывших в ярости от фактического пришествия демократии…
Что же касается мартовских эксцессов в Балтийском флоте, то они были неприятны и опасны. Но, судя по рассказу Скобелева о поведении гельсингфорсских и флотских властей, надо удивляться, что эти эксцессы были так незначительны…
Раньше чем разойтись из нашего угла, где «заседал» Исполнительный Комитет, я сделал «внеочередное сообщение» и рассказал о поездке в Псков, за спиной Совета, делегатов думского комитета на предмет спасения династии и монархии. По-видимому, никто из членов Исполнительного Комитета ничего не знал об этом до сих пор.
Отдельные члены выражали свое возмущение обычным рыцарским поведением верховодов плутократии. Но особого значения этому делу никто не придавал; официального его обсуждения никто не потребовал, и мы ограничились совершенно приватными комплиментами по адресу правого крыла.
И в самом деле, стоили ли большого внимания все эти хитроумные махинации и планы думских политиканов, когда политиканы уже явно превращались в беспомощное игралище, в неприглядные жертвы революционного процесса, а махинации уже пошли прахом и планы рассеялись как дым…
Республика была фактически завоевана, и мы были непростительно близоруки, если бы приковали к ней внимание в ущерб иным очередным насущным нуждам момента.
Мы разошлись до завтра на покой. Я опять не пошел домой на Карповку и собирался ночевать к «градоначальнику» Никитскому. Но сначала я решил забежать в правое крыло повидать Керенского или кого-нибудь из «министериабельных» людей и расспросить, что там сделано, что делается, что намерены и когда намерены сделать во исполнение объявленной утром программы нового правительства… В частности, я хотел выяснить, как обстоит дело с амнистией.
Я шел в правое крыло неофициально, меня никто не делегировал. Но все же впредь до реализации зревших у меня планов организационного воздействия на деятельность, правительства, планов, о которых речь будет дальше, впредь до этого я твердо решил не упускать из виду работу правого крыла и систематически оказывать давление на него в пределах выполнения им основных и простейших пунктов нашей программы.
Уже простая, легкая демонстрация контроля со стороны Исполнительного Комитета могла в правом крыле для всех, имеющих глаза и уши, достаточно разъяснить горизонты по части наших будущих взаимоотношений. Давление и контроль на первых же шагах без всякой передышки должны были продемонстрировать, что со своей программой, со своими условиями Исполнительный Комитет шутить не намерен, что намерения его, напротив, вполне серьезны, и если новое правительство видит в них «клочок бумаги», в частности, или рассчитывает на самодержавное положение вообще, то оно жестоко ошибается.
Правое крыло переехало за это время еще правее. Вход в министерские апартаменты был теперь уже в самом конце коридора – чуть ли не первая дверь от входа во дворец с Таврической улицы.
Звание члена Исполнительного Комитета, сообщенное часовым-юнкерам и блестящему офицеру, подействовало достаточно хорошо. В одной из ближайших комнат, где стучала машинка, диктовались бумаги, трещал телефон, я застал довольно много разного рода людей. Половина была незнакомых и совершенно чужих, важного вида военных и штатских. Но другая половина состояла из хорошо знакомой дореволюционной сферы Керенского, из разных радикал-народников, литературно-педагогических народных социалистов и думских трудовиков.
Тут же сидела и жена Керенского Ольга Львовна, совершенно измученная, в ожидании мужа. Она тоже дежурила здесь в целях «давления» и «контроля»: она контролировала, чтобы Керенский в течение дня хоть что-нибудь проглатывал на ходу, и сейчас собиралась оказать на него решительное давление, заставив его пойти домой и заснуть несколько часов. Сама совершенно изнемогающая от бессонницы, она рассказала мне, что Керенский за дни революции еще не ложился в постель ни разу…
Был тут и Зензинов, окончательно фигурировавший в роли приближенного лица и адъютанта нового министра юстиции. Вообще тут было очень много «от Керенского». Он сильно заполонил министерские сферы и, как видно, энергично действовал и шумел среди них.
Мне сообщили, что сейчас он занят на важном заседании с другими членами кабинета. Я разговорился с некоторыми из присутствующих в ожидании его о том о сем – о событиях в провинции и на фронте, о положении дел в левом и правом крыле.
Информация была как нельзя более благоприятна. Что же касается политики, то я вынес совершенно определенное впечатление: вся эта периферия Керенского, все эти радикальные и «народнические» обыватели совершенно не знали, что происходит у нас в советских кругах, и совершенно не интересовались этим.
Подобно просвещенной литературной братии из большой прессы, все эти люди носили в себе молчаливое убеждение, что Совет и демократия слишком маловесный фактор «высокой политики»; вся же политика сосредоточивается в «большом свете» блестящих эполет и блестящих министерских имен, избранных историей не из какого-нибудь чумазого, а из самого лучшего общества… Заблуждение, конечно, очень приятное, но в конце концов недешево оно стоило всем этим салонным демократам и сливкам интеллигенции!..
Насчет амнистии Зензинов или кто-то другой сообщил мне, что Керенский уже принял необходимые меры, разослал телеграммы и во многих местах уже началось освобождение товарищей из тюрем и ссылки. Из ряда городов уже получены ответные телеграммы об исполнении приказа. Но в некоторых таких телеграммах имеются указания, что старое губернское начальство путается в категориях арестантов и встречает затруднения, требуя от министра юстиции более определенных распоряжений, детальных разъяснений.
Вполне вероятно, что со стороны части местной администрации это было саботажем на почве недоверия к совершившемуся перевороту и не полной определенности нового статуса: ведь телеграфный приказ Керенского, по всем данным, на местах был получен раньше, чем извещение об образовании нового министерства и список новых министров…
Телеграмма Керенского должна была бы быть подписана и премьером Львовым, и непонятно, почему это не было сделано. А затем, была необходима не телеграмма, а немедленный соответствующий декрет, который пара опытных «политических защитников» могла бы достаточно (для практических целей) разработать в два-три часа.
Об этом я считал необходимым поговорить с Керенским. Но он был занят на важном совещании…
Я достоверно не знаю, но предполагаю, что это было за совещание. Именно в это время, поздним вечером 3 марта, от имени Временного правительства была отправлена в Европу знаменитая радиотелеграмма «Всем, всем, всем», извещающая официально весь мир о происшедшем в России перевороте.
Об этой радиотелеграмме мы, в Исполнительном Комитете, узнали только на следующий день, и нам предстоит основательно заняться ею в дальнейшем. Ибо важность этого акта и его влияние на общественное мнение Европы, и в частности на мнение европейской демократии, совершенно неоспоримы.
Также неоспоримо, что радио от 3 марта своим появлением всецело обязано Милюкову и было делом его рук. Но на нем был штемпель всего кабинета, который, очевидно, принял и, вероятно, обсудил это первое свое выступление перед лицом Европы. Вполне вероятно, что этому и было посвящено «важное совещание», на котором был занят Керенский в эти часы.
Последнее обстоятельство, впрочем, слишком несущественно, чтобы стоило делать на этот счет предположения, к тому же весьма скудно обоснованные. Но я делаю его потому, что мне хочется сделать тут еще одно предположение: обосновано оно, правда, еще меньше, но правдоподобия во всяком случае не лишено. А именно я склонен думать, что Керенский по вопросу об этом радио дал в совещании министров бой. И быть может, он повлиял на редакцию радио, которое, вероятно, было составлено Милюковым в чертах, имеющих еще менее общего с действительностью…
Что Керенский в происходившем сейчас совещании вообще выдержал бой, в этом я почти не сомневаюсь согласно нижеописанному контексту обстоятельств. Вопрос только в том, был ли бой по вопросу о радио или на другой почве.
Керенский наконец вышел. Несколько человек бросилось к нему с разными делами. Несмотря на умоляющие глаза Ольги Львовны, я также решил задержать его на несколько минут.
Керенский был возбужден и, пожалуй, сердит. Но против обыкновения встретил меня ласково, с некоторым удовольствием и какими-то иногда случавшимися у нас нотками интимности. Как будто на этом он срывал свою досаду на кого-то третьего… Я заговорил с ним об амнистии, о необходимости декрета и точных категорических распоряжений.
Керенский живо реагировал.
– Да, да… Где же Зарудный? Нашли его наконец?.. – обратился он громко к присутствующим, причем иные из его приближенных сделали вид, что они бросаются искать Зарудного. – Два дня не могу отыскать его!..
Я приглашаю его в товарищи министра юстиции, – добавил Керенский, обращаясь ко мне.
Зарудный мог, конечно, через несколько часов представить надлежащий декрет об амнистии. Но, во-первых, Зарудный отклонил предложение Керенского. А во-вторых, очевидно, у Временного правительства были еще «серьезные причины», заставившие опубликовать этот декрет только через неделю. Во всяком случае, Керенский обещал немедленно принять меры, а затем заговорил о другом.
Он был уже в шубе, на ходу. Мы неудобно стояли у стены на проходе; тут выжидательно стояли какие-то люди. Но Керенскому, видно, хотелось высказаться и выложить какую-то «сверлящую» мысль… Он довольно неопределенно начал насчет борьбы на два фронта и насчет трудности ее, заговорил о затруднениях и препятствиях, которые ему приходится преодолевать в правительстве «в качестве социалиста», и довольно злобно отозвался о некоторых из своих коллег, которых он не назвал, но с которыми, видимо, имел столкновение. Затевать обстоятельный разговор на эту тему было явно невозможно. Я хотел ограничиться шуткой или отпиской, хотя бы даже и довольно тривиальной.
– Разумеется, – сказал я, – министерское положение вообще хуже губернаторского, а ваше положение в министерстве Гучкова – тем более… Но подождите: через два месяца у нас будет министерство Керенского, тогда будет иной разговор…
Керенский слушал серьезнее, чем следовало бы. Я не берусь восстановить его замечание в ответ на это; но за его смысл я ручаюсь. Проворчав по адресу каких-то своих коллег нечто вроде того, во-первых, что с ними нельзя иметь дела, а во-вторых, что они не особенно пригодны для управления революционной страной, Керенский с сомнением, как бы про себя проговорил:
– Два месяца… Почему два месяца?.. Прекрасно справились бы и без таких людей…
Это было любопытно. Любопытен не только импрессионизм, заставлявший Керенского бросаться справа налево и обратно, ища и там и здесь и опоры, и родной сферы. Такого рода качания в его трудном и, по существу, ложном положении были бы понятны и без импрессионизма. Но любопытен порыв Керенского, порыв в горние сферы «мессианства», проявившийся снова и появившийся на фоне столкновений и противодействий, встреченных в правом крыле…
Керенский, простояв три дня «во главе угла» величайшей революции, проскакав три дня по широкой столбовой дороге исторического бессмертия, уже не хочет ждать два месяца! Высоко залетает этот шумный адвокат, этот бойкий лидер микроскопической группки третьеиюньских обывателей в Государственной думе, этот патетический референт петербургских полулегальных кружков. Высоко залетает, где-то суждено ему сесть?..
Я направился по Таврической и Суворовскому к Никитскому на Старый Невский… Я все еще не видел нового Петербурга, ни разу не побывав ни дома, ни где-либо в отдаленном районе от Таврического дворца. В городе сохранялось весьма строгое «военное положение» в виде частых патрулей и постов новых, вооруженных с головы до ног милиционеров, останавливавших подозрительных и проверявших все без исключения автомобили…
Еще не были окончательно ликвидированы выступления «фараонов». Эксцессы и «несчастные случаи» еще имели место. Но беспорядков уже не было. Порядок и безопасность были установлены и обеспечены в столице.
Население организовалось не по часам, а по минутам. Новые «комиссариаты», районные Советы возникали как грибы и работали наперебой. Широко раскинулись в несколько дней социалистические партийные организации. На всех парах уже готовили муниципальную реформу и среди старых «отцов города» измышляли, какие бы заплаты в экстренном порядке внести в старую организацию самоуправления соответственно новому духу времени…
Петербург встряхнулся сверху до самых глубин и жил полной жизнью, дыша и функционируя всеми своими клетками. Здесь дела были в блестящем положении, и не могло быть сомнений, что этот организм легко справится со всеми болезнями и на почве старой инфекции, и на почве своего революционного роста.
Опасности могли угрожать еще со стороны армии – не столько гарнизона, сколько со стороны пришлых частей, широким и непривычным потоком вливающихся в столицу. Об их агрессивных, контрреволюционных намерениях, конечно, уже не могло быть речи. Переворот был завершен и на фронте легко и безболезненно, за исключением некоторых отдаленных частей, где до гроба преданные «его величеству» генералы еще целыми неделями скрывали от масс революцию и держали их почти в старом режиме. Но генералы эти, конечно, были совершенно бессильны, а их части совершенно безопасны.
Другое дело – дезорганизация и разложение полков, особенно прибывающих в столицу. Вот на этой почве – на почве разгула военщины, переполнявшей Петербург, в связи с недостатком хлеба могла возникнуть опасность.
Правые элементы во всяком случае на всех перекрестках кричали об этом стихийном разгуле, об анархии, о полном разложении и распылении частей, не желающих ни кому-либо повиноваться, ни выполнять какие-либо обязанности. Наводнение же Петербурга войсками из всевозможных городов более или менее близкого тыла и фронта прямо трактовалось как переход города во власть военной стихии.



