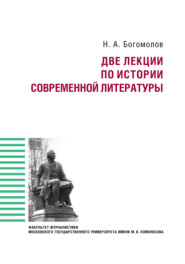 Полная версия
Полная версияДве лекции по истории современной литературе
Прекратил существование журнал «Литературное обозрение» (или «Старое литературное обозрение», как он назывался в последние годы своего почти уже виртуального бытия). Так, по нашему мнению, и не сформировался в качестве целостного отдел современной литературы в журнале «Новое литературное обозрение», ограничивающийся весьма узким кругом критиков. Особенно очевидно было это при составлении специального номера, посвященного современной поэзии8.
Получается, что лишь «толстые» журналы в какой-то степени продолжают традиции русской литературной критики, и без них сколько-нибудь объективную панораму современной литературы оказывается невозможно выстроить. Правда, и они не могли остаться в стороне от тенденции к краткости и информационности. В «Знамени» появился раздел Анны Кузнецовой «Ни дня без книги», содержащий фактически аннотации (но, конечно, не совпадающие с издательскими и явно основанные на знакомстве с текстами), в «Новом мире» раздел «Библиографические листки» ведут С. Костырко, главный редактор журнала А. Василевский и П. Крючков, в «Континенте» существует «Библиографическая служба “Континента”», делящаяся на три части: «Религиозная мысль в русской периодике» такого-то года, «Философская, историческая, историософская и культурологическая мысль в русской периодике» и «Художественная литература и критика в русской периодике». При этом стоит отметить, что в «Новом мире» и «Континенте» регулярно фиксируются и цитируются материалы, напечатанные не только в условно говоря «либеральных» журналах, но и в «Москве», «Нашем современнике» или каком-нибудь «Спецназе России». Вдобавок к этому достаточно употребительной практикой стало ведение критических обозрений, где из номера в номер какой-либо критик пишет нечто среднее между развернутой аннотацией и рецензией о целом ряде произведений, привлекших его внимание. В «Новом мире» это – «Книжная полка имярек» (в 2008 году этими имярек были Ольга Балла, Андрей Василевский, четырежды Владимир Губайловский, Данила Давыдов, Василина Орлова, Валерия Пустовая, Ирина Роднянская, и Михаил Эдельштейн), в «Звезде» раздел «Печатный двор» ведет Сергей Гедройц (псевдоним). Стоит, пожалуй, обратить внимание на то, что среди авторов подобных разделов – не только опытные критики, как Роднянская или Василевский, но и совсем молодые, как Валерия Пустовая, в 2004 году окончившая факультет журналистики МГУ по кафедре литературно-художественной критики и уже в студенческие годы зарекомендовавшая себя не только маленькими рецензиями, но и основательными, как говорилось раньше, «проблемными статьями».
Таким образом, получается, что и ниша классической литературной критики оказывается заполнена, хотя, бесспорно, не с тем эффектом, как еще в конце ХХ века.
3. Подробнее о книгоиздательском процессе мы поговорим несколько позже, в связи с переменами в самом составе литературы, однако отметим несколько принципиальных моментов. Прежде всего – резкое сокращение тиражей, связанное с общей тенденцией к предпочтению аудиовизуальных искусств литературе и в теснейшей связи с этим – резкому количественному уменьшению домашних библиотек как в числе, так и в объеме. Даже если не учитывать, что ухудшение экономического положения основных категорий русских читателей заставило их отказаться от покупки книг или свести ее к минимальным количествам (лишь сравнительно немногие библиотеки профессионалов продолжают более или менее интенсивно формироваться, тогда как неумолимо расширявшиеся в советские годы библиотеки инженеров, научных сотрудников, врачей, музейщиков и пр. словно застыли на конце 1980-х годов), зато коллекции звукозаписей и видеокассет стремительно растут. Книга пока что по всем статьям проиграла соревнование кассетам и дискам. Это заставило издательства не только сменить репертуар выпускаемой литературы, но и более агрессивно работать на своем рынке. Явная и скрытая реклама, в том числе даже на телевидении с его очень высокими ценами, тесный контакт с книгоиздательским миром Запада (а иногда даже и Востока – отошлем к успеху книг Х. Мураками), когда книги о Гарри Поттере или романы П. Коэльо появляются на русском книжном рынке, причем легальном, а не пиратском, едва ли не одновременно с прочими ретрансляторами их на другие языки (насколько нам известно, последний роман Дж. Роулинг был отправлен в Россию в те же сроки и на тех же условиях, что и в другие страны мира), диверсификация основных типов (количественное соотношение бумажных обложек и переплетов) и внешнего облика изданий, тесное взаимодействие с кинематографом и телевидением, моментальная реакция на популярные по тем или иным причинам проблемы (обилие псевдоисторической беллетристики, документальной и художественной литературы о «спецслужбах» и о «коридорах власти» настоящего и прошлого, освоение острых тем сегодняшней российской и мировой действительности, вроде «Мечети Парижской Богоматери» Елены Чудиновой и мн. др.) – все это видимые следствия разрушения порядка вещей, характерного для советских времен. Однако вместе с этим существенно отметить, что, несмотря на постоянные жалобы издателей, особенно мелких, на кризис и возможное прекращение существования, количество серьезных изданий в области гуманитарных наук и художественной литературы являет собой отрадное зрелище. Ни одно сколько-нибудь заметное произведение литературы, от массовой до маргинальной, не минует полки книжных магазинов Москвы и Петербурга, и это не говоря уж о переизданиях и введении в оборот прежде неизвестных фактов литературы и гуманитарной науки прошлого. Для примера возьмем только одну сферу, известную нам в силу профессиональных интересов – русскую литературу начала ХХ века, и увидим, что на рубеже XX и XXI века продолжает издаваться академическое полное собрание сочинений М. Горького, начали издаваться академические собрания сочинений А. Блока (Т. 1–5, 7; 1997–2003) и Вл. Соловьева (т. 1–3; 2000–2001), вышли собрания сочинений З. Гиппиус (9 томов, 2001–2006), Ф. Сологуба (дважды -8 томов в издательстве «Интелвак», и с ненумерованными томами в издательстве «Навьи чары»), А. Ахматовой (7 томов, 1998–2005), О. Мандельштама (4 тома, 1993–1997), Н. Гумилева (8 томов, 19982007), Б. Пастернака (11 томов, 2003–2005), И. Северянина (5 томов, 1995–1996), В. Хлебникова (6 томов в 7 книгах, 2000–2007), Вл. Ходасевича (4 тома, 1996–1997), М. Цветаевой (7 томов, 1994–1995), А. Ремизова (10 томов, 2000–2003), М. Волошина (7 томов в 9 книгах, 2003–2008), оборвалось собрание сочинений Андрея Белого (5 томов, 1994–2000), но продолжают издаваться – Мережковского (6 томов, 1996–2004), Блока (в новом, не академическом варианте издательства «Прогресс-Плеяда», 3 книги 1995–2005), Розанов (27 томов, 1994–2009), Адамович (6 томов, 1998–2002). Наверняка список не полный, но впечатляющий, даже если принять во внимание, что ко многим из этих изданий возникали справедливые претензии, как высказанные в печати, так и прозвучавшие в устных дискуссиях. А если еще прибавить дающие немало нового собрания стихов Гиппиус, Мережковского, Минского, Александра Добролюбова, Андрея Белого, Гумилева, Кузмина, Георгия Иванова, Крученых, братьев Бурлюков, Пастернака, Шершеневича, Садовского в «Новой библиотеке поэта», «Мелкий бес» Сологуба, «Петербург» и один из вариантов собрания стихотворений Белого, «Лев Толстой и Достоевский» Мережковского, собрание стихов Северянина, «Книгу о смерти» Андреевского в «Литературных памятниках», разнообразные издания Брюсова, Бальмонта, Коневского, Эллиса, и так далее, и так далее, вплоть до ранее почти никому не известных Аделаиды Герцык, Тинякова, Потемкина, Злобина, Муни, Ауслендера, то составится солидная и впечатляющая библиотека.
Конечно, в этой области, в отличие от современной литературы, мы можем провести инвентаризацию и сказать, что сделано, что надо сделать, что переделать, – но все же при взгляде на каталоги библиотек и полки книжных магазинов становится ясно, что и современность отнюдь не осталась вне поля зрения издателей, от маргиналов, вроде «Глагола», до вполне респектабельного «Вагриуса». Изменился репертуар, тиражи, другие параметры книгоиздательского дела, но оно отнюдь не рухнуло. Нам трудно достоверно понять, каковы тут причины, но очевидно, что помимо грамотно организованного бизнеса, ему существенно помогает поддержка государства (как бы мы ни ругали федеральную программу поддержки книгоиздательства, она продолжает существовать и с ее помощью издаются и весьма достойные книги), заинтересованных западных стран (как французская программа «Пушкин»), негосударственных фондов (тут стоит добрым словом вспомнить ушедший из России фонд Сороса, он же «Открытое общество» и его программы по собственному книгоизданию и финансовой поддержке других фирм), спонсоров. Частная инициатива, если она не поддержана солидным капиталом (как в случае «Издательства Ивана Лимбаха») в настоящее время с большим трудом находит себе место в ряду тех форм издательской деятельности, которые имеют постоянную финансовую поддержку.
4. Писательские организации, как известно, в конце 1980-х и начале 1990-х годов пережили серьезнейший кризис, стали раскалываться, а в связи с этим – утрачивать свое влияние. Но не только расколы были тут причиной. Выяснилось, что, как это ни горько констатировать, организации, объявлявшие себя демократическими, довольно быстро оказались в состоянии перманентного кризиса. Не желая вмешиваться в окололитературную политику, не будем подробно говорить об этом, тем более, что далеко не все факты известны нам в подробностях, скажем только о том, что ПЕН-клуб, на который возлагались особые надежды, не только не приобрел сколько-нибудь заметного влияния, но и постоянно оказывается в центре какого-нибудь скандала. То он занимает непродуманную (на наш взгляд, конечно) позицию в «деле Алины Витухновской», защищая поэтессу, приговоренную к полутора годам заключения за хранение и распространение наркотиков, то возникает напряжение между московским и петербургским отделением, то у государства появляются финансовые претензии, о справедливости которых мы судить не возьмемся, но которые должны констатировать. Союз писателей Москвы и демократическая фракция Петербургского отделения союза писателей проиграли и в финансовом отношении, по разным причинам потеряв свои площадки в городах и свои издательские возможности, и в отношении инициатив, что в конце концов на общероссийском уровне оказалось закреплено назначением Сергея Михалкова на пост старо-нового гимнопевца и тем самым писательского главы, а в Петербурге – стремлением городской власти воссоздать единый союз с некоторыми посулами для тех, кто пойдет навстречу этому предложению. Впрочем, сколько-нибудь действенных рычагов уже не осталось ни у одного из существующих союзов: дома творчества и «лавки писателей», утратив поддержку Литфонда, потеряли свою былую привлекательность, квартиры, дачи и поликлиники ушли из ведения писательского начальства, издательства, газеты и журналы обрели независимость (а монстры, вроде «Советского писателя» или «Московского рабочего», рухнули). Таким образом, этот фактор практически ушел из реальности.
5. Общественное мнение, со снятием барьеров на появление скандальной информации в печати и в электронных СМИ, равно как и повсеместным распространением Интернета, также сильно ослабело в своем воздействии на литературную ситуацию. Вдобавок к этому появилась особая категория писателей или претендующих на это звание людей, которые выплескивают то, что могло бы стать предметом внепечатного обсуждения, на страницы прессы, на радио или телевидение. Несколько смягчает ситуацию, что литература в гораздо меньшей степени привлекает внимание средств массовой информации, чем поп-культура. Привлекает внимание каждый шаг не только Аллы Пугачевой или Олега Меньшикова, но и каких-либо совершенно безвестных молодых людей, только что выпущенных с «фабрики звезд» или участвующих в очередном реалити-шоу. Практическая неизвестность современных писателей (за исключением активно вводимых в общественный оборот в данный момент какой-либо рекламной кампанией, вроде Елены Трегубовой, Оксаны Робски или Сергея Минаева) делает неинтересным их появление на радио или на телевидении. И формулировки общественного мнения также становятся никому не интересными.
Потому оно продолжает существовать в виде известной кулуарности, выплескиваясь на страницы только специализированных изданий, да и то далеко не всегда. Так, скажем, публикация романа А. Наймана «Б. Б. и др.» вызвала довольно значительное количество печатных отзывов, касавшихся не только эстетической стороны этого произведения, но и его этических особенностей, что завершилось известной историей, о которой выразительно рассказал главный редактор издательства «Вагриус»: «Многие здесь присутствующие были в этом <2003 – Н. Б.> году на Франкфуртской ярмарке. Россия – почетный гость, выехало 140 писателей. Кто-нибудь отслеживал публикации? Смотрел на их направленность? На Франкфуртской книжной выставке-ярмарке было два события. Одно – исчезновение картины со стенда, а второе – дали по шее Анатолию Генриховичу Найману. Больше ничего на книжной выставке-ярмарке не было. А разве что-то еще было? А? Конечно, ничего не было!»9 Точно так же парижский книжный салон 2005 года запомнился исключительно инициированным «Литературной газетой» обсуждением, почему туда отправляется столько писателей, не русских по крови, да приемом в присутствии Путина.
Вместе с тем существует довольно много проблем, где именно общественное мнение могло бы обладать значительным эффектом. Одна из историй такого рода, все же получивших некоторое освещение в печати, – история с предполагавшимися переводами стихов Туркменбаши и связанными с этим печальными историями – смертью поэтессы (параллельно с этим активно занимавшейся журналистской деятельностью) Татьяны Бек и скандалом вокруг имени редактора Журнала «Знамя» Сергея Чупринина. Не вдаваясь сейчас в подробности, которые нам известны далеко не в полной мере, следует все же сказать, что первопричиной всех этих серьезных обсуждений, на довольно продолжительное время занявших «литературную общественность», было именно мнение, и реакция самих действовавших лиц показывает это со всей очевидностью. Значительно менее известна история с повестью Семена Файбисовича «История болезни», которую отказывались печатать московские журналы и издательства, а после ее появления многие близкие и давние знакомые автора перестали подавать ему руку. Насколько нам известно, об этом ничего не было напечатано, да и в СМИ история не попала. Однако эффективность акции, кажется, была достаточно велика для всех участников.
6. Наконец, связь с другими сферами культуры в начале XXI века оказывает все большее и большее влияние на существование литературы. Это проявляется как в стремлении попасть в орбиту поп-культуры в качестве киносценариста (тем более сценариста телевизионных сериалов), сочинителя текстов эстрадных песен или того, что в России необоснованно именуется телевизионным юмором, так и в миграции в обратном направлении. При этом следует отметить, что речь идет не только о массовой культуре, но и о претендующей на серьезность и даже элитарность. Деятельность Андрея Кивинова как сценариста популярнейших телевизионных «Ментов» («Улицы разбитых фонарей») или перенесение на киноэкран «Дозоров» Сергея Лукьяненко все-таки должна быть рассмотрена особо. Но, скажем, вполне показательной является судьба А. Слаповского, постоянного автора журналов и претендента на различные премии (правда, кажется, так ни разу их и не получившего). Перебравшись из Саратова в Москву он сперва попробовал себя в журналистской деятельности, что не принесло особенного успеха, но он состоялся в сценариях по крайней мере двух сериалов – «Остановка по требованию» и «Участок», прошедших по первому каналу телевидения в престижное время. Хуже получается с песнями и юмористическими текстами, где ниши уже плотно заполнены профессионалами, конкурировать с которыми вряд ли смогут Сергей Гандлевский или Фазиль Искандер.
Зато весьма активно идет обратный процесс, когда книгами становятся сериалы («Бригада», например), а сочинители песенных текстов обретают репутацию «настоящих» поэтов. Не будем говорить о текстах русского рока или авторской песни, которые уже давно рассматриваются в качестве самостоятельной поэзии. Возьмем лишь одного деятеля современной эстрадной песни – Илью Резника. Вот некоторые сведения, взятые с его официального сайта: «1996 г. – литературная премия имени Р Рождественского за лучшие достижения в области песенной поэзии. <…> 1998 г. – И. Резник становится кавалером «Ордена Почёта». В издательстве «Художественная литература» выходит однотомник поэзии «Избранное» с иллюстрациями Ю. Купера. 1999 г. – становится членом Союза писателей Москвы. 2000 г. – Выходят авторские книги «Жизнь моя – карнавал», «Мужик» и книги для детей «Король Артур», «Почему на синем небе золотые облака?», «Непоседа по имени Лука». Ко дню защитника Отечества созданы патриотические песни: «Служить России», «Тревожный вальс», «Моя Армия» В 2002 г. вышла в свет книга о ветеранах спецслужб России, с вступительными статьями В. В. Путина и Н. П. Патрушева. В 2002 году избран членом совета директоров ОАО «Первый канал»». Даже такому человеку, причастному к высшим сферам власти, почему-то приятно почувствовать себя членом союза писателей и автором авторитетнейшего в советские времена издательства «Художественная литература».
Как видим, внешние параметры литературного процесса свидетельствуют о том, что выработавшиеся в советское, а иногда даже и в досоветское время принципы его организации сохраняются, хотя временами и в достаточно преображенном виде, который вполне можно назвать руинированным.
Предпримем однако попытку взглянуть на литературный процесс еще и с точки зрения некоторых существенных закономерностей, не исчерпывающихся его внешними регуляторами. Попробуем мысленно сравнить репертуар книжных магазинов советского времени и начала XXI века.
Прежде всего бросится в глаза, что радикально переменилась система распределения книг по разделам. До сих пор к удивлению многих выходящая газета «Книжное обозрение» (правда, теперь уже в специальном отдельно выходящем выпуске под названием «Pro», посвященном профессиональной деятельности издателей) придерживается системы регистрации вышедших книг, выработанной в советские времена. Если же попробовать пройти с этой газетой по залам какого-либо крупного книжного магазина, то выяснится, что несоответствия в рубрикации разительные. И начнется это в первого же раздела, где объединены «Философские науки. Теология. Психология. Философия». В реальности книжных магазинов они разделены: философия существует отдельно, теология объединена или со вторым разделом «Книжного обозрения» (религия), или примыкает к различно называемым, но по сущности единым разделам всякого рода квазирелигиозной литературы (например, фигурирующие в «Книжном обозрении» среди теологических книги Р Штейнера окажутся, конечно, среди оккультной литературы). Значительная часть того, что понимается в «Книжном обозрении» под психологией, также уйдет в другие отделы книжных магазинов: «Кадры для эффективного бизнеса: Подбор и мотивация персонала» или «Деньги в вашей жизни: Национальный практикум богатства» окажутся среди экономической литературы или литературы, посвященной бизнесу, а «Аура человека: Укрепление, гармонизация, защита» – среди квазирелигиозной (примеры взяты из №№ 49 и 50 за 2005 год). Не останавливаясь далее на литературе из разряда «нон-фикшн» во всех смыслах этого термина, обратимся собственно к «фикшн».
Она представлена в газетных рубриках «Художественная литература народов России», «Зарубежная художественная литература», «Детская литература». В реальности книжных магазинов мы столкнемся с тем, что такого разделения нет (разве что детская литература действительно будет изолирована, если не считать некоторых общих книг, вроде «Гарри Поттера»). Как правило, там будут актуальны следующие членения: «Русская проза» (с особым выделением собраний сочинений), «Иностранная проза», «Поэзия», «Детективы и триллеры», «Фантастика», «Биографии», «Литературоведение» (во всяком случае, в крупнейших московских книжных магазинах – «Дом книги» на Новом Арбате, «Библиоглобус» на Мясницкой, «Москва» на Тверской, а также в петербургском «Доме книги» этот раздел не будет отделен от «Художественной литературы»). Как кажется, это свидетельствует о двух тенденциях не только в сфере книготорговли, но и в сфере читательских интересов и предпочтений. С одной стороны, появление биографий в разделе «художественная литература» демонстрирует активное вторжение «нон-фикшн» в сферу «фикшн»; если обратить внимание уже не на книжные магазины, а на книготорговые лотки, то станет понятно, что там это вмешательство происходит еще более активно: в разряд «фикшн» фактически попадают исторические и псевдоисторические повествования самых разнообразных сортов, от рассказов о деятельности «спецслужб» до псевдоисторий славян, основанных на «Влесовой книге» и других столь же авторитетных источниках. Собственно говоря, по большому счету эти подделки и являются «фикшн» в чистом виде – из разряда классических в мировой литературе «Песен Оссиана», «Кралодворский рукописи», «Записок Видока» и тому подобной художественной литературы. Однако именно перемена акцентов и отнесение к литературе документальной придает этим книгам особую окраску, превращая их в источник мифотворчества для миллионов. «Влесова книга» как памятник художественной литературы середины ХХ века никому не нужна.
С другой стороны, решительное выделение некоторых жанров, характерное для традиционной массовой литературы, заставляет говорить об интенсивном слиянии двух принципиально отличных друг от друга, как казалось еще не так давно (а некоторым и до сих пор кажется) ветвей культуры. Как изготовители рекламных и музыкальных клипов все активнее начинают определять эстетику кинематографа, как поп-музыка и невиданный прежде жанр «русского шансона» перестраивают музыкальные воззрения большинства населения страны, так же эстетика массовой литературы с ее строго выдерживаемым каноном того или иного типа повествования (детектива, иронического детектива, женского романа, псевдоисторического романа, «бульвара крутой эротики», триллера, нескольких типов фэнтази и т. д.), несомненно, влияет на систематизацию и структурирование типов «подлинной» литературы. Тем более это становится очевидным в тех случаях, когда авторы массовой литературы являют очевидные попытки так или иначе обозначить свои тексты как наследующие мировой (и, в особенности, конечно, русской) литературе. Таковы, скажем, два романа-фэнтази Андрея Лазарчука и Михаила Успенского – «Погляди в глаза чудовищ», где главным героем является Николай Гумилев, и «Гиперборейская чума», озаглавленный словами О. Мандельштама. А в блеснувшем на короткое время и вскорости благополучно забытом романе Линор Горалик и Сергея Кузнецова «Нет» эротическая сцена построена так: «На озаренный потолок посмотреть страшно – мечется темное пятно, два слитых тела, как если бы был пожар и мы пытались друг друга прикрыть <…> а в сердце тем временем косо ложились тени, росли страхи, в сердце лежал камушек <…> а скрещенья рук тем временем становились тесней и судорожней, а скрещенья ног отдавались спазмом и сполохом, и хотелось не думать ни о чем, а все равно думалось, думалось – в пятнадцать лет ничего не умели, не имели ни опыта, ни интуиции, ни сноровки – а в постель ложились как боги, не сомневались, что все получится, не сомневались, что лучше нас нет любовников <…> а как приведут судьбы скрещенья к кому-нибудь…» и далее по тексту Пастернака. Там же есть и Булгаков, и Кафка, и Майринк – шедевры подлинной литературы, аппроприированные массовой культурой, давней или недавней.
Названные и многие другие факты свидетельствуют о стремительной диффузии того, что еще недавно относилось к ведомству внелитературных сообществ (прежде всего, конечно, социологии) и собственно литературы. Так или иначе литературный процесс как в предреволюционной России, так и в советское время вырабатывал те или иные способы сохранения status quo, которые в настоящее время стремительно рушатся. Конечно, пока что некоторая хотя бы видимость прежнего положения дел сохраняется, однако уже и сейчас очевидно, что массовая литература стремительно расширяет свои границы, сохраняя собственные видовые признаки и в то же время маскируясь под то, что традиционно считалось литературой «высокой». Конечно, историки литературы без труда найдут примеры подобного и в своей области. Так, для начала ХХ века классическим примером диффузии массовой и элитарной литературы является «Творимая легенда» Ф. Сологуба, сознательно использующая как опыт символистского романа, так и стремительно развивающиеся законы научно- (или ненаучно) фантастической литературы, прежде всего Ж. Верна и Г. Уэллса. Напомним, что в «снятом» виде их неоднократно использовала З. Гиппиус, но только в трилогии Сологуба они сделались конструктивным принципом повествования.



