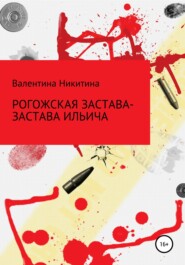 Полная версия
Полная версияРогожская застава – Застава Ильича
Кстати, эти стаканы использовали для своих дел местные пьяницы. И, представьте себе, вы только представьте это – они ВОЗВРАЩАЛИ стакан на место! Не верите? А тогда – обычное дело! А еще в городских автобусах были кассы с билетами по 5 копеек. И все честно бросали туда свои кровные и отрывали билет. Совесть – лучший контролер.
А еще . Дым валит, едкий запах по всей квартире. Дощечка такая с письменами. Что вам представляется? Индийский великий жрец Арамонетригал? На самом деле это вы-жи-га-ние. Обычное дело! Миллионы советских детей выжигали открытки мамам на 8 марта – Мамочка, поздравляю с международным женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой, а твоему сыну – велосипед…
А еще все сидели в ванной, причем на опущенном стульчаке, причем в темноте – и светил там только красный фонарь… Догадались? Обычное дело – печатали фотографии. Вся наша жизнь на этих черно-белых фотографиях, отпечатанных собственными руками, а не бездушным дядькой из Кодак…
Девчонки, а вы помните резиночки? Удивительно, но ни один мальчишка на свете не знает правила этой игры!
А сбор макулатуры в школе? До сих пор мучает вопрос – зачем?
Сдал около 40 молочно-кефирных бутылок, чтоб купить 1 жвачку «Laser».. мдя.. и ещё была Tip&Top жвачка.. А наши кофейные и клубничные вообще не ценились, ибо там не было вкладышей..
А ещё на переменах все играли в игру, переворачивая вкладыши, ударом руки по ним.А ещё ботинки Скороход, гимн в шесть утра, обязательная форма в школе и значок октябрёнка, красивый такой, с молодым Лениным…
А во! Ежедневные очереди в магазинах за хлебом, но в двадцать раз длиннее очереди за каким-нибудь сиропом, что выдавался сугубо пропорционально пришедшим за этой покупкой людям.
А ещё тема. Когда мы приезжали к бабушке в деревню, то всегда шли в магазины. и почему – то там всегда был больше выбор различных товаров..
А ещё куча китайского тряпья с поезда марок типа «Abibas» , «Roobok» и магнитофонов марки «Sany» и «Panasound»
Были кожные ремни которые надевали друг на друга и играли в лошадок, белые гольфы в которых ходили в детский сад мальчики и девочки.
Были приветливые соседи по лестничной площадке, мамы спокойно отпускали детей гулять, не боясь, что их украдут. И без всяких цивилизационных наворотов из нас вырастили достойное поколение. А самое главное сейчас все, куда то спешат,
даже в выходные. А куда? Зачем? Никто не ответит, потому что некогда…спешим…Да.. было время… ))
Но самое главное , что было –это уверенность в завтрашнем дне. Не так ли? « Лучше и не скажешь.
СТАЛИНКИ , ХРУЩЕВКИ И ОПЯТЬ КОММУНАЛКИ
Наш дом сломали в конце пятидесятых годов. Отдельная квартира в то время была несбыточной мечтой каждой семьи.
Однако, расселяя бараки и ветхие дома , советская власть не могла сразу обеспечить всех отдельным жильем, особенно в больших городах , население которых росло ударными темпами. Так был запущен процесс создания коммуналок. В квартиру, состоящую из нескольких комнат, заселялись совершенно разные люди, часто целые семьи. Соответственно у них было по комнате и общая кухня и санузел. Соседи по коммунальным квартирам – люди разного социального статуса, жизненных интересов и привычек – жили в одном месте, переплетались судьбами, ссорились и мирились. Только чуть позже стали строить пятиэтажные дома ( хрущевки) с отдельными крохотными квартирами, что было настоящим счастьем для их получателей.
Незадолго до слома старого дома, мой отец, занимающий ответственный пост в Исполкоме городского Совета города Москвы , получил однокомнатную квартиру, куда мы все вместе и переехали. Однако, он умудрился вписать в ордер только себя и меня, оставив жену, мою маму в коммунальной квартире. Поэтому при расселении матери дали комнату в большой двухкомнатной квартире сталинского дома, построенного для научных работников.
Мои подружки со своими родителями получили жилье в разных районах и мы пошли в разные школы. С тех пор связь с ними прервалась.
Комната в новой квартире пустовала , пока я не вышла замуж.
Моя соседка, недавно вышедшая на пенсию, в то время казалась мне старой . Она с мужем и сыном , нашим ровесником,
занимала большую 25-метровую комнату. Встретила она меня не очень радушно. Сказала, что мне надо делать в мою двухнедельную очередную уборку. Мытье или протирка зимой кухонного окна , уборка газовой плиты , с чисткой до блеска, туалета и ванной , причем ванну надо мыть и вытирать насухо после каждого мытья . Надо сказать , что квартира была огромной, с двумя большими коридорами со встроенными шкафами , что для тех времен было чудом, с кухней, где под окном был ,так называемый , холодильник, который представлял собой углубление в толстой кирпичной стене. Зимой там все замерзало, а летом было чуть прохладнее, чем дома. У каждой была своя полка , где мы хранили небольшой запас продуктов. Как мы жили летом без холодильников , ума не приложу.
С другой стороны, продуктов тогда много не покупалось. Бутылка молока или кефира , сто или двести граммов сливочного масла. Первое блюдо готовилось из мяса на несколько дней . За продуктами ходили в магазин каждый день. В другом коридоре квартиры располагалась огромная ванная , туалет и подсобное помещение или черный ход, куда выходили двери четырех квартир, расположенных на этаже. Там хранили ведра, тазы, картошку зимой и прочие вещи для хозяйственных нужд.
Большие деревянные двери в подъезд , открывали такие же просторные парадные , с широкими лестницами и необъятным лифтом. Лифт был совсем не такой , как сейчас. Он двигался внутри большой железной клетки, обтянутой стальной сеткой.
Сначала надо было открыть железную дверь , а потом и двери лифта , кстати сказать , те и другие были наполовину застеклены. Двери можно – было открывать только при полной остановке лифта на этаже , иначе он автоматически останавливался и нужно было ждать дежурного лифтера , который приходил нескоро.
Вот там, у лифта , и пришлось мне встретиться со старыми знакомыми и узнать продолжение загадочной истории, произошедшей в детстве.
После работы я зашла в свой подъезд , нажала на кнопку лифта и когда он спустился , открыла первую дверь. В это время кто-то сзади , втолкнул меня в лифт и закрыл двери. Я оказалась внутри с двумя мужчинами – молодым и постарше. Видок у них был еще
тот. Все-таки законопослушные граждане отличаются от людей из преступного мира. Я сразу вспомнила наш двор, тех «темных личностей» , которые посещали его .
Я настолько испугалась, что превратилась почти в глухонемую и на вопрос : « На какой ?,
Не сразу ответила. Молодой мужчина повторил ;
--Какой этаж , чуня ?—
-– ВВВосьмой ! ,– как в том анекдоте, заикаясь ответила я.
-– И нам на восьмой , ты к кому ? .
Я стояла ни жива , ни мертва, не в силах произнести ни слова. К тому же старалась вспомнить , кого мне напоминает этот второй и
который произнес : « Это , по-моему Пашина соседка»
--Не боись , своих не трогаем , – успокоил молодой.
Паша – это Прасковья Федоровна и в правду моя соседка.
Выскочив из лифта , я в панике стала звонить в дверь , мужики вошли в соседнюю квартиру.
Соседка, открывшая дверь ,недовольно спросила :
--Что ключи забыла ? И свою комнату почему не запираешь, коли что пропадет , на кого думать будешь ? Сегодня дверь от сквозняка открылась , я ее должна закрывать ?
-– Не на Вас , успокойтесь , да и красть там нечего , сами видели,
Придя в себя ответила я и тут же спросила :
--Со мной в лифте ехали двое незнакомых мужчин, какие-то страшные,–
-– А это сын соседки Васька , а второй дружок его, Виктор.
Они в своем доме никого не трогают , так что не бойся.-
--Ничего себе , успокоила , а если с ними встретишься в другом месте , – подумала я.
Прошло время и я забыла про эту встречу. Пока не встретилась со своим двоюродным братом Владимиром . Он закончил юридический факультет Университета, а дядя Гриша , к тому времени генерал и большой начальник , устроил его в Московский уголовный розыск ( МУР).
Когда я рассказала , что встретила Витьку , он начал сетовать , почему я раньше не сообщила ему об этом. Оказывается, незадолго до того , как снесли дом ( мы к тому времени уже уехали) в сарае нашли повешенного старика Исканцева. Сначала думали , что это самоубийство , но потом пришли к выводу , что убийство. Володя сообщил , что эта история тянется с революционных времен и только недавно ее рассекретили .
Однако, чтобы завершить следствие , нужно еще найти Виктора и его подельника. Полностью эту историю я узнала несколько лет спустя, когда стала глубоко взрослой женщиной.
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… И НЕ БУДЕТ
А начало этой истории было положено еще до революции.
Хозяин трактира Савва Давыдов овдовел рано. У него росла дочь, которая год от года превращалась в красавицу, напоминая собой умершую жену. Помогала ему Дарья , поначалу работавшая у него поварихой, а потом превратившаяся в полноценную хозяйку трактира.
Правда, официальной женой она не считалась, брак был не венчан, за что она постоянно упрекала Савву. У нее был сын, незаконнорожденный от проходимца , что служил в Дангауэровской тюрьме охранником и второй малолетний от Саввы. Она всячески старалась сжить со света дочку трактирщика , считая ее помехой на пути к ее отцу , мечтая заполучить Савву и его хозяйство в свои руки. Но все её уловки были тщетны . Отец безумно любил свою дочь и никакие уговоры на него не действовали. А дочка выросла и отец искал для нее подходящую партию для замужества. Дарья понимала , что выдав дочь замуж и породнившись с высокородными сватами, Савва никогда не женится на ней. Она стала думать, как помешать свадьбе.
И придумала. Её великовозрастный сын, Степан вместе с малолетним Ильей , жил у бабки, ее матери. Она подговорила Степана приходить к ней каждый день и подружиться с дочкой трактирщика, с тем , чтобы любым способом на ней жениться. Степану идея понравилась. Он сразу же включился в дело. Правда, понравиться Елизавете не смог.
Лиза была девушкой начитанной и образованной, к тому же набожной и высоконравственной. Степан с его мужиковатым грубым нравом и невежеством никак не мог привлечь её внимание. Но мать настаивала, убеждая его поспешить и как угодно выполнить задуманное. Конечно, он мог придумать, как и где сделать свое черное дело и тем самым испортить будущее Лизы. С другой стороны, насилие тогда каралось жестко , а учитывая деньги и характер трактирщика ,который непременно отправил бы его на каторгу за содеянное, это никак не вязалось с их планами.
Савва Давыдов спешил породниться с богатым купцом Меркуловым.
Смотрины невесты, во время которых происходил обмен подарками, прошел удачно. Молодые друг другу понравились.
Был назначен день обручения, после которого должна состояться свадьба. Богдану, так звали жениха, настолько понравилась невеста, что он завалил ее подарками. Савва был счастлив от того , что так выгодно сосватал любимую дочь, да к тому же с ее согласия .
Дарья бесилась, что никак не может помешать свадьбе , после которой у Саввы может появиться внук и законный наследник его имущества.
Она понимала, что все мечты об обеспеченном будущем терпят крах, которое теперь представлялось смутно и расплывчато. Беспокоила неопределенность , народ нищал, время от времени устраивая стачки и забастовки , шла затяжная война с немцами , которая еще больше усугубляла обстановку в стране. К тому же, общий с Саввой ребенок был мал , и хотя был признан отцом, однако, официально никакими правами не наделен, а в церкви при крещении записан , как не имеющий отца. Дарья задумала избавиться от Лизы, для чего сговорилась со Степаном отравить её на обручении, где будет много народу , чтобы не попасть под подозрение.
Согласно законодательству Российской империи, регистрация брака для лиц православного вероисповедания производилась через обряд церковного венчания, который записывался в церковных метрических книгах.
Препятствиями для брака кроме возраста могли быть душевные болезни, несогласие родителей или состояние в браке одного из супругов, близкородственные отношения брачующихся, количество браков. Согласно православной традиции, каждый последующий брак (особенно если дело касалось дворян) был уступкой человеческой слабости и страсти, поэтому всего их разрешали не более трех. Обряд обручения называли помолвкой, так как она считалась "половиной венца". В этот день обменивались образами и кольцами. Жених обычно преподносил подарки невесте. День заканчивался праздничным столом для родственников. Жених начинал проводить много времени в доме невесты.
Помолвку решили делать в доме у жениха, где был накрыт стол на 70 человек и куда были приглашены только родственники жениха и невесты.
Ни Дарья, ни Степан соответственно, на помолвку не попали. Но это даже к лучшему, решила Дарья.
Степану надо было проникнуть на праздник и незаметно подлить яд в Лизин бокал.
Обряд обручения вышел пышным, Елизавета, одетая по парижской моде, в дорогом платье, блистала красотой. Все поздравляли молодых, назначили день свадьбы. Степан долго толкался у дома Меркуловых, никак не находя повода зайти туда. Уже прибыл посыльный с пирожными от купца Елисеева, а Степан все слонялся около дома , пока его не заметил слуга и не пригрозил полицией. Ему пришлось уйти. Бутылка с «сельтерской» , куда был насыпан яд , осталась нетронутой. Дарья разозлилась, а потом смекнула после застолья Лиза , наверняка , захочет пить, значит надо поставить бутылку воды у нее в комнате.
Так как комната Лизы была заперта, Степан залез туда через окно и оставил там бутылку с ядом. Дарье теперь надо было вовремя от нее избавиться.
Савва с дочерью приехали на извозчике поздно ночью. Пожелавши друг другу « Доброй ночи» , разошлись по комнатам. Дарья жила в самой дальней комнате, в коридоре у входа в дом.
Она чутко прислушивалась, готовая первой броситься на крики Лизы. Под утро она уже задремала, как ее разбудили стоны и крики Саввы. Она вбежала в комнату Лизы, но Савва тут же отправил ее за доктором. Она стала метаться по комнате, якобы от горя, а сама искала бутылку с ядом , однако ее нигде не было. На крики сбежались постояльцы трактира. Савва кричал на Дарью, чтобы та немедленно привезла доктора. Она вышла во двор, взяла извозчика и поехала за доктором.
Лиза умирала, она задыхалась, а через несколько минут, врач констатировал смерть от отравления. Приехала полиция. Доктор написал заключение, на основании которого завели «дело».
Елизавету хоронили в подвенечном белом платье, предназначенном для венчания и свадьбы. Богдан поклялся найти и убить отравителя.
Следствие быстро во всем разобралось , суд признал Степана виновным в убийстве и приговорил к каторжным работам. Дарья еле ушла от наказания, как соучастница, ссылаясь на Степана, который ее не выдал, надеясь, что она оттуда его вызволит. Савва был убит горем , выгнал Дарью из дома, а позже забрал их общего сына к себе.
Дарья кинулась в ноги к отцу Степана, уговорив его устроить любым образом побег из тюрьмы до отправки Степана на каторгу. У нее остались сбережения, накопленные во время проживания в доме Саввы, которые она пообещала за побег. Побег из Дангауэровки был невозможен. Однако, решили попробовать.
Дарья перешла жить к бывшему мужу в барак , напротив Дагауэровской тюрьмы, где он занимал небольшую комнатку. После дома Саввы, с его хлебосолами Дарье пришлось несладко.
Но она постепенно обжилась, родив позже сына Виктора и дочь Римму, Танькину мать.
Тем временем , теперешний муж Дарьи задумал хитрый план. Ему захотелось получить дом Саввы Давыдова. Наступила революция . Дворян, купцов и прочий торговый люд безжалостно уничтожали , присваивая их добро. Трактир у Саввы Давыдова отняли , сначала сделав там ночлежку.
Дом, в котором жил Савва с сыном оставался пока за ними.
Степана должны были отправить на каторгу , а пока он находился в пересыльной тюрьме. Богдан все время дежурил у ворот тюрьмы, ждал случая, когда выведут осужденных, чтобы напасть на Степана. Исканцев, так звали мужа Дарьи, заприметил его , подошел к нему , расспросил , что здесь делает. Разговорились. Богдан рассказал кого он ждет здесь, чтобы отомстить. Тот сразу вызвался помочь ему , да так , чтобы избежать наказания. Исканцев обещал, что переведет Степана в карцер, а Богдана провезет в бочке из под воды в тюрьму а там уж его воля расправиться со Степаном, тем более, что тот будет закован в кандалы.
После возмездия таким же путем вывезет Богдана за ворота . Оговорили и сумму взятки за такое пособничество. Богдан обрадовался и согласился.
Дарья и Исканцев в этот раз основательно подготовились к преступлению, разбавили дозу яда, чтобы Богдан умер не сразу, а мучился несколько дней в карцере . Докторов туда не зовут, а смерть спишут на заразную болезнь, в тюрьме особо не разбирались , кто отчего умер. И в назначенный день Богдан пришел к Исканцеву. Расплатился, его посадили в бочку , сверху накрыли двойной крышкой с водой и провезли в тюрьму. Исканцев заранее договорился со своим напарником, заплатив ему часть Богдановских денег. Перед карцером , остановились, дали ему финку, предложили выпить для храбрости – « ведь не
свинью идешь резать , тут не до церемоний , нужно быстро и тихо, наставляли они. Богдан пить не хотел , но пригубил, что его и спасло. Тюремщики , ссылаясь на какие-то причины , попросили его тихо посидеть , сами ждали , когда начнет действовать яд.
Через несколько минут беспомощного Богдана втолкнули в карцер ,сняли с него одежду, чтобы переодеть Степана, которого еще не успели наполовину побрить, засунули его в пустую бочку и вывезли за ворота. Оставаться ему в Москве было нельзя, он уехал в Сибирь, к родственникам отца.
Богдан провалялся без памяти около месяца. Кроме воды ничего не пил и не ел и сильный молодой здоровый организм выкарабкался, пошел на поправку. Правда, он долго не мог вспомнить кто он и откуда , поэтому его под именем Степана, еще совсем слабого повели на этап , на каторгу.
Когда Богдан полностью оправился от болезни, пришел в себя, он был уже в Сибири, на поселении. Он все вспомнил , долго ругал себя за опрометчивость и безрассудство ,как мог попасть в хитро расставленные сети, но тут же благодарил бога , что оставил его в живых. Теперь надо было думать, как выбраться из этого положения.
Время благоволило ему. Революция тоже шла навстречу, быстро шагала по стране, с новой властью, законами и порядками.
Каторгу отменили. Политических освободили, а уголовным заменили каторгу на несколько лет поселения. Его вместе с другими заключенными пригнали на золотодобывающие прииски. Однако, после начала гражданской войны предприятия золотодобывающей промышленности оказались на территории, захваченной белогвардейцами и интервентами. Прииски возвратились золотопромышленникам и арендаторам , среди приискового населения стали проводится массовые аресты и расстрелы участников революции. Все перемешалось, бывших начальников расстреляли, а заключенные
превратились в рабочих , которым был назначен 12-ти часовой рабочий день. Однако, остались не все.
Большинство рабочих, успели уйти с приисков в Красную Армию и партизанские отряды, чтобы бороться с белогвардейскими войсками Колчака и атамана Семенова.
Богдан был в их числе. В отряде ему выдали справку на его настоящее имя.
Савва Давыдов от пережитых потрясений сильно сдал .
Он занимался теперь сыном, прекрасно понимая, что наступление новой эпохи перевернуло жизнь с ног на голову. Да и Дарья стала часто наведываться , предъявляя свои права на сына и дом , в котором они жили без подселения. Он решил уехать к дальним родственникам в Тульскую область, где в деревне обустроить свою старость и будущее сына.
Он оставил дом и хозяйство Дарье и ее новой семье и уехал в деревню. Исканцев с Дарьей и детьми перебрался в дом Саввы.
Степан добрался до родной тетки в Иркутск и стал выжидать, когда смена власти , людей и обстоятельств позволит забыть о нем и он сможет вернуться домой.
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА БЕЗ ЗОЛОТА
Богдан Меркулов в Красной Армии прижился. Во-первых, он был рад, что вернул настоящее имя и теперь может жить полноценной жизнью никого не опасаясь. О своих приключениях он молчал. Он понимал, сейчас не время и не место ворошить старое, да и жаловаться было некому. Но в душе занозой засела обида и жажда мести. Богдан вспоминал дом, родителей, не имея вестей, беспокоился за них. Вспоминал Лизу , свою любовь. Ночью снились кошмары, от которых он вскрикивая, просыпался. Иногда Лиза приходила во сне , ласково кивала головой, давая понять, что ей там хорошо и она следит за ним сверху, оберегая от бед и несчастий.
После этих снов он стонал от ярости и отчаяния, что не смог уберечь ее от беды и сам, действительно, считал ее своим Ангелом- Хранителем.
Богдан привык к труду с малолетства, помогал отцу в лавке, закупал и разбирал товар, занимался хозяйством. И здесь в отряде, не чурался никакой работы. Кроме того , постоянно приходилось воевать за основные места золотодобычи, куда новая власть добралась не сразу. Работавшие шахты и прииски переходили то к «белым», то к «красным». Противники уничтожали оборудование, заливали шахты и разгоняли артели старателей. К тому же, Богдан отлично владел грамотой, что особенно выделяло его из числа его соратников . Вскоре он возглавил отряд, а потом и батальон. Гражданская война подходила к концу.
В то время у ручья Незаметный, на месте будущего города Алдан в Якутии, вспыхнула одна из последних в нашей истории классических «золотых лихорадок».
Всего через два месяца на ручье Незаметном промывали породу свыше тысячи человек, а новые «вольностаратели» всё прибывали и прибывали со всей Сибири и Дальнего Востока.
Не обошла сия весть и Степана. Услышав, как его теперешние земляки сплошь покидали семьи и отправились за золотом, он поспешил за ними. Надо сказать, что приехав к тетке несколько лет назад, после побега из тюрьмы ,он первое время жил тихо и незаметно, стараясь ничем себя не выдать не проявить к себе интерес. Он всячески избегал людных мест, собраний, встреч и прослыл нелюдимом и бирюком.
Нося чужое имя и фамилию, к которым он никак не мог привыкнуть , он боялся, что его примут за купеческого сына, а там кто знает, как могут расправиться с ним. Поэтому узнав о возможности поменять место жительства и раствориться в толпе страждущих обогащения , он тут же решил присоединиться к ним. Как ни отговаривала его тетка, не убеждала и стращала болезнями, голодом и другими пакостями, какие подстерегают золотодобытчиков, он собрался в дорогу.
Поток нелегальных охотников за золотом был столь велик, что вокруг месторождения возникали целые «республики» из тысяч «вольных старателей».
Если старателю не «фартило» найти особо богатую золотую «жилу», то зачастую он после нескольких месяцев каторжного труда оставался почти без денег. Всё добытое уходило оборотистым торговцам, в чьих руках и оседало «намытое» золото.
Неслучайно среди золотоискателей бытовала грустная присказка: «Золото мыть – голодным быть». Наличных денег в тайге не хватало, старатели предпочитали расплачиваться за товар намытым золотом.



