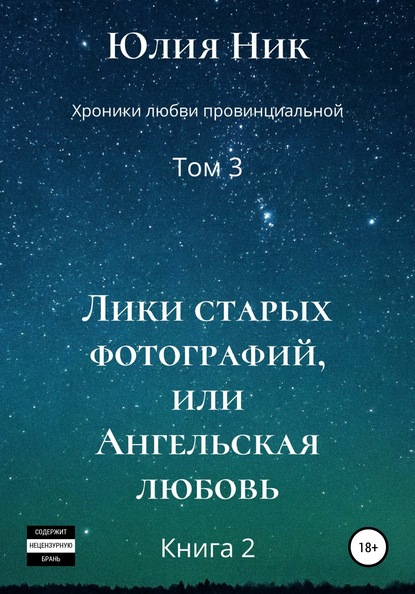 Полная версия
Полная версияХроники любви провинциальной. Том 3. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь. Книга 2
– Вот моё обиталище. Только порядок не успел навести. Сейчас я простыни буду искать, были тут где-то, – Лео открыл дверцы шифоньера полированного с выпуклыми дверцами с лёгким, почти штрихами нанесённым китайским рисунком с фанзами, горами и деревьями. В этом доме любили комфорт и основательность.
– Стаси, – Леон обхватил её шутливо простынёй, – ты – первая девушка переступившая порог этой комнаты. Тут никого никогда не было из женщин, кроме тети Тани, ну и матери моей однажды. В этой крокодильей пещере чисто, я знаю твою принципиальность, поэтому предупреждаю, что никого и никогда. Двери и окна закрыты, теперь вообще навсегда. Подходит?
– Подходит, – Стаси улыбнулась. – А шапочка резиновая у тебя есть, чтобы волосы не намочились под душем?
– Волосы? Нет, нету. Давай, я пойду в ванну воды наберу?
– Давай. Сто лет в ванной не была.
– Я сейчас, мигом! – Лео исчез в темноте коридора.
Стаси, не торопясь, переходила от одного предмета к другому, пытаясь проникнуть за завесу неизвестного ей пока мира того мальчика, юноши, который столько времени жил здесь, рос, изменялся, становился мужчиной. А она ничего о нём не знала с тех пор, как почти подростком его увез куда-то отец, забрав от бабушки сразу после войны. Стаси даже скучала тогда о нём некоторое время. Потом всё забылось, осталось в детстве. И вот он оказался в центре её жизни. Как тут всё странно, и как же всё волшебно! Планер из папиросной бумаги, казалось, вот-вот взлетит, Стаси взяла его в руки. Каждая бумажка была тщательно приклеена и заглажена на тонюсеньких, со спичку, ребрышках модели. Она провела пальцем по покрытой лёгкой пылью игрушке.
– Это мне было лет четырнадцать, когда клеил, лень выбросить, пылесборник… – обнял её сзади вернувшийся Лео.
– Нет, его надо почистить и повесить под потолком, и он будет летать, как будто бы. Ему станет весело, и можно будет смотреть на него утром и начинать сразу радоваться.
– И где мы его повесим? Чтобы с утра сразу радоваться? Здесь? Или всё-таки ту комнату обживать начнем, ей тоже скучно было пустовать все эти годы. И от отцова кабинета там подальше, и к ванной комнате ближе, а Стаси? Можно, я сам решу?– Лео снова рылся носом в её завитках совершенно парализуя её волю.
– И, всё-таки, я слишком невоздержанна, – мелькнула мысль в Стасиной головке, когда он взял её на руки и, не дожидаясь ответа, понёс куда-то по коридору. – И мне всё равно что будет, лишь бы быть рядом с ним. Мне – конец!
– Вот это и будет наша комната – Лео поставил её на коврик около широкой, кровати с выгнутыми, как и у шкафа, спинками, со свечой, стоявшей на прикроватной тумбочке, ярко высвечивающей белую простыню кровати, оставляя в темноте углы этой большой комнаты.
– Мебель отец заказал тогда в Москве в новую квартиру, целый месяц она ехала сюда. А мать сюда уже не приехала. Вот так. Для нас заказал, получается. Для тебя, любимая. Я тут простыни приготовил, тут тоже бельё есть, оказывается. И в ванной я зажег свечу. Иди ко мне, девочка моя любимая.
Губы и язык Лео опять творили волшебство со Стаси, его руки расстегивали её пуговки на кофточке, нащупывали крючок на юбке, и всё это мягко сползало вниз, на пол, потом пальцы его расстегнули её лифчик, и стянули одновременно с плеч и лямочки шелковистой комбинашки, и лямочки лифчика, обнажив грудь, упругую и маленькую и совсем не нуждающуюся в предписанной всем женщинам корсетной поддержке.
– Какая же ты!… – Лео оторвался от её губ и изумлённо смотрел, как его руки скользят по её коже, огибая бугорки, вздымая маленькие розовые соски, болезненно стягивающие кожу, заставляя Стаси судорожно втянуть воздух от неожиданности. –Девчонка ты моя, … мы вместе сейчас будем купаться, у нас большая ванна, я её помыл… Лео нёс какую-то словесную околесицу, время от времени отрываясь от Стаси, целуя её и окончательно раздевая. Не отрываясь от неё, он стащил с себя рубашку, скинул брюки, и тут ему пришлось отпустить её.
Носки, закреплённые подколенными подтяжками, требовали участия обеих рук.
– Чёрт, какие же они неудобные… – Лео расстегнул застежку и стянул свой щегольский длинный носок, бросив его на пол.
– Дай, я тебе помогу, я помню, у папы были такие же, – Стаси опустилась у его ног и прижавшись к ноге аккуратно расстегнула застежку сбоку от колена, заставив его сесть на кровать.
– Стаси, я сейчас тронусь умом, ты у моих ног… обнаженная…
– А ты одетый до сих пор, как на пляже… – Стаси улыбнулась.
– Так я же… носки… черт, я сейчас. Отвернись. Лео очень плохо соображал в этот момент. Зато его невеста, прижавшись к его колену, смотрела на него снизу вверх и ласкала ладонью его мурашек обильно проступивших на смуглой, загорелой, почти тёмной в свете свечи, коже ног её мужчины. Тех самых ног, которые так легко и по-тигриному красиво носили его по земле, заставляя её иногда замирать от восторга.
– Раздевайся, и не буду я отворачиваться.
– Так… запах же..
– И что? Я всё равно должна его узнать. Скоро он станет моим.
– Стаси, – Лео поднялся и поднял её, прижав к себе, другой рукой стянул с себя трусы и накинул на плечо свежие простыни с метками прачечной. – Теперь мы, как два ангела в раю. Я тебя унесу в наш Эдемский сад с целым озером теплой воды.
Ванна действительно была очень большой, и их стройные тела легко в ней поместились. Свеча, стоявшая на высоком подоконнике ванной комнаты, лишь частично выхватывала своим светом блестевшие от воды руки и ноги, переплетающиеся в нетерпеливых ласках.
– Лео, замри…,
– Что?
– Ты посмотри, как красивы наши ноги сейчас. Они, ведь уже никогда не будут такими больше.
– Почему?
– Потому что. Завтра они будут уже другими и не будут так волноваться, как сейчас. И завтра на них появится где-то крошечная незаметная совсем морщинка старости. Понимаешь?
– Понимаю. Но она же незаметная будет совсем. Этим завтра можно будет пренебречь. Ты навсегда хочешь остаться молодой?
– Конечно. Я и буду всегда молодой. – Стаси счастливо засмеялась, прижавшись к его мокрой в душистой мыльной пене груди.
А Лео нетерпеливо искал её губы, пахнущие мятной пастой и смелой рукой гладил мокрую шелковистую кожу своей женщины, впервые попробовавшей ответить ему на поцелуй. Она ответила неумело и робко, но и это вскинуло его волосы дыбом.
Иногда люди говорят пророческие слова даже не приостанавливаясь в потоке других слов. Походя или шутя.
Он навсегда запомнил их впервые соприкасающиеся ноги, её ноги, переплетенные с его ногами в свете свечи. И свечу в старом подсвечнике на прикроватной тумбочке с оплывающими каплями воска тоже навсегда запомнил. Старинный подсвечник потом всегда стоял на его письменном столе. Только с огарком уже совсем другой свечи. Та, первая, давно сгорела до конца.
Никогда и никого больше Лео не мыл так нежно и осторожно, как свою жену в первый раз. Так моют ребёнка, иногда целуя его в мокрый животик, щёчки, спинку, попку, не в силах удержать восторга любви к нему. И никогда так остервенело не отмывался он сам. Никогда больше Стаси с таким захлёстывающим дыхание чувством новизны и острой близости не рассматривала мужское тело, как в этот раз.
– Теперь ты уверена в нашей чистоте и не солёности? А, врачиха ты моя чистюльская? – Лео обмотал её в простыню и сам обматывался, полуобернувшись. Его мужское естество бушевало и мешало нормально замотаться, чтобы выглядеть мало-мальски прилично. – Идём ко мне на ручки, я просто презирать себя буду, если не донесу жену до брачного ложа.
У Стаси от волнения слегка кружилась голова, а Лео ещё и целовал её, и кружился по широкому коридору спецособнячка не в силах остановить свой восторг от драгоценности, которую нёс.
– Ты меня уронишь.
– Ни за что! Никогда! – Лео осторожно опустил её на кровать. – Вот и всё. Не уронил. Свечу потушить?
– Зачем? Я хочу всё время видеть тебя.
– Да я-то только «за», но… – Лео вдруг смешался.
– Тебя что-то смущает? – Стаси серьёзно и взросло смотрела на него, он ей чем-то напоминал растерявшегося мальчишку-подростка, который вдруг споткнулся и не знал, что делать дальше.
– Всё смущает. Понимаешь… ну в общем, ты меня простишь, если я буду не очень уж ловким и умелым?
– Поцелуй меня. Говорят, что женщины никогда не забывают своего первого мужчину. А ты у меня станешь ещё и единственным. Я очень хочу тебя, у меня всё горит внутри, это нормально.
Возможно именно этих слов и не хватало ему, чтобы исчезло сомнение, боязнь «окарать», и природа повела его по точному, давно ею обкатанному маршруту.
– У меня совсем сна нет, я только о тебе и грежу все ночи. Не верю, что это ты уже со мной. Это, ведь, ты? – и он, смеясь, прижался к ней, ложась рядом.
Гладкое тело, в свете свечи окаймлённое светящейся полоской контура, как лёгкий и точный пластичный контур рисунка, возбуждало сознанием того, что внутри, в глубине этого контура громко стучит и рвётся навстречу любимому воспаленное страстью и предвкушением смертельного восторга пылающее нежное сердце.
И только два желания рвали каждое из двух сердец на части: смести последнюю преграду и вознестись и… не торопить этот единственный в жизни миг, последний миг на краю огромной и невозвратимо поглощающей их бездны, в которую навсегда погружались Стасин мир девственной мечты, её сказочные идеалы и мир прежнего Лео.
Лео только сейчас понял смысл обладания, ибо мог ВСЁ! И он внезапно затормозил время, реально ощущая, что всё, что таилось в нём, может воспламениться заживо. Он вспомнил о трепещущем цветке в её сказке и стал ласкать её, просто ласкать и нежить, согревать дыханием вдруг похолодевшие соски, животик.
Он, не давая себе чёткого отчёта в том, что он делает, зажигал лепестки того цветка, который отныне будет непрерывно гореть внутри него благодарным, тёплым и мягким, уютным пламенем, зализывая его рубцы и раны, которые жизнь неизменно наносит настоящему мужчине, пока он охраняет и отвечает за свою крокодилью крепость.
К слову: по другому жизнь настоящего мужчины и не складывается. За настоящую жизнь мужчина постоянно находится на боевом ристалище так или иначе. Пробивает новый путь в пустыне, во льдах, в науке, в битве за жизнь страны, своего народа, своей семьи, племени, в битве за справедливость и истину.
И в последней из них, виртуальной, казалось бы, – битве за справедливость и истину – жертв бывает обычно больше всего.
Мочки её ушек и шейка с его любимыми завитками, объятые поцелуями, остались вскоре одни, зажженные им и пламенеющие, а его губы поползли туда, куда потянула их рука, ниже… к соскам… и ещё ниже…
Боль небольшого спазма, казалось, утихнет, если он поцелует её животик… но нет, не утихала, …
А он, как почувствовал это, положил тёплую ладонь на больное место, согревая его, и вернулся к губам, там он лучше её чувствовал, и там она лучше следовала инстинктам, которым во все прочие времена не очень доверяла.
Только теперь она смогла по достоинству оценить его теоретическое предположение о настоящем поцелуе. Да, стоять бы было невозможно и оторваться просто так – тоже невозможно!
Это преддверие даёт иногда больше смысла и восторга, чем открытие самих дверей. И ничего не поделаешь, никуда не свернёшь, если от веку рука мужчины тянется туда, где центр жизни всей вселенной. В нём жизнь зарождается, в нём растёт, пока необходимо расти, и из него на свет рождается. Рождается уже совершенная, наделённая всем необходимым и важным, новая жизнь, зачатая в любви.
Рука Лео прижала её, выгнувшуюся в изнывающей истоме желания, она затихла и он ощутил натяжение нити, связывающей их в этот момент, понял, что больше тянуть эту звенящую струну наслаждения нельзя, можно задохнуться от страсти и желания и умереть. Последнюю преграду необходимо снести напрочь, ни о чём не сожалея, не стыдясь. На мгновение он как бы стал ею, чтобы понять, как надо сделать последнее, самое тревожное и нежное, и склонился над животом её, прокладывая путь поцелуями от пупка и ниже. А рука шла впереди, разглаживая, снимая спазм вытолкнувший влажный комочек, чтобы уж точно любому недотёпе стало бы всё понятно, что его отчаянно ждут. Запах влажности тронул его обоняние, и разум работать перестал совсем. Работали, и очень чётко, только инстинкты и чувства. Ноги её разошлись в стороны под упругими поглаживаниями, и он, оторвавшись, почти одними губами сказал: «Стаси, я никогда этого не делал. Я боюсь, тебе будет больно, да?»
– Я хочу, чтобы мне стало больно. Это пройдёт… быстро.
– Надо посмотреть. Боюсь промахнуться сдуру, я же ничего не соображаю.
–Встань на колени и приподними меня на себя. Вот и всё, я думаю. Или спусти меня на край кровати ближе к свече.
– Нет, лучше приподниму. Но если будет очень больно… Господи, и почему ты не сделал так, чтобы это мне было больно? А? Я же трясусь весь, Стаси.
– Я тоже. Но дальше уже невозможно …
– Да понимаю я всё. Только ты меня прости за всё заранее, ладно?
– Хорошо, любимый.
– Любимый ?– тихим эхом повторил он и отчаянно ловко подтянул жену свою на колени и сосредоточенно, и чётко сделал всё, что просила его эта душистая капля, смазавшая весь путь и сгладившая короткую резкую боль первого узнавания.
Стаси, удерживаясь от вскрика, закусила губу и вытянулась, а Лео смотрел на неё и чуть не плакал и от вины, что причинил ей боль, и от гордости, что она, наконец, его женщина, такая желанная и томительно-сладкая. И теперь…
– Ляг на меня, я хочу почувствовать твою тяжесть,– тихо выдохнула она.
– А я раздавить тебя боюсь. Я сегодня всего боюсь. И я так тебя хочу… уже не вижу ничего, ослеп.
– Обними меня… Какой же ты тёплый там внутри меня, я это запомню навсегда… ты со всех сторон меня обнимаешь…
– Тебе не больно?
– Немного.
– Можно не бояться?
– Да, можно.
–Ты не жалеешь? – он виновато уткнулся в её шею.
– Нет, любимый.
– А я знал, что нравлюсь тебе. Чувствовал и видел твои зрачки, глупенькая моя девочка. У тебя глаза и сейчас горят, но если будет больно…
– Просто… поцелуй мне… грудь… – их шепот прекратился. И только прерывистое дыхание и влажные звуки заполняли темноту комнаты.
Ей больше не надо было просить его ни о чём, он почувствовал свою юную женщину, истекающую соком любви и желания, и древний точный ритм спаял их, вознося всё выше и выше, и руки его, увлекая её за ним, всё крепче сжимали её талию, и губы всё жестче прихватывали эти маленькие бугорки, которые когда-нибудь будут кормить его сына или дочь, а пока они были только для него, возбуждали и тащили его на гору ещё неиспытанного им блаженства с юной женой всё выше и выше. Тело Стаси стало упругим и послушным ритму, покрылось лёгкой испариной и появилось в нем что-то звенящее. Его губы сомкнулись на её шее, запрокинутой и безвольной, и его толчки напоследок ещё раз вскинули его наверх, и она почувствовала, как струя ударила в неё, наполняя её горячим теплом вытекая из наэлектризованного тела… и… она осталась одна в глухой пустоте парения, на полпути к своей вершине.
Она видела в полумраке его вздыбившиеся над ней плечи, очерченные контуром света, почувствовала появившийся вдруг незнакомый ей раньше запах мужского, разрядившегося тела, слышала, как он прихватил её за мочку уха и что-то пытается шептать, но всё это проплывало мимо неё в тёмную пустоту так внезапно оборвавшегося восторга.
– Что ты говоришь? – переспросила она, плохо слыша, и он тут же поднял голову.
– Что-то не так, Стасенька?
– Почему?
– У тебя такой голос…
– Какой?
– Обычный… Тебе хорошо было?
– Мм. Нормально. Хорошо.
– Стаси, – он торопливо поцеловал её в губы и внимательно вглядываясь взял её лицо в руки. – Нет, что-то не так. Я же чувствую. Тебе больно?
– Да. Больно.
– Фу ты, голова ты моя квадратная! Что ж ты мне раньше не сказала, сейчас я осторожненько… сильно болит?
– Мм. Болит.
Ничего у неё так уж сильно не болело, просто ей грустно стало.
И в учебнике по физиологии это всё описывалось не совсем так, и женщины рассказывали совсем про другое.
Застенчивая и сдержанная с чужими, Стаси всегда избегала участия в женских «посиделках», случавшихся иногда после обеда в садике больницы, или когда устраивали обеденное чаепитие вместо похода в столовую. Она уединялась где-нибудь неподалёку с книгой или газетой. Но слушать эти женские байки ей, тем не менее, было интересно Замужние и рожавшие женщины, прошедшие все женские «окопы», «огонь и медные трубы», не особо стесняясь, делились опытом или переживаниями с товарками.
Частой темой была одна: «Да я ещё и не разогрелась, а он уже к стенке отвернулся и храпит. Устаёт, конечно. Ну, а мне, что делать прикажешь? Куда бежать?»
«Да уж, эгоисты эти мужики. Да и у нас, надо признать, только после родов и приходит иногда понятие, что и зачем»», – подхватывала другая.
«Не у всех приходит. Да и вообще, по мне, так скорее бы отвязался и уснул, мне и так хорошо. Лежит рядом и греет – ну и всё,– резко охладила всех третья, сестра-хозяйка, вечно куда-то спешащая и резкая женщина. Ей явно неплохо было бы побольше ласки получать.
«А у меня не уснёт, пока по полной программе меня не обрадует: «Мне одному, говорит, это и не нужно вовсе. Не хочешь – ну и спи», – обижается. Так что не отвертишься. Да и то сказать, девоньки – ну нет же ничего слаще этого? Иной раз так и по три раза за ночь успеваем. Не-е-е, я без этого не согласная», – это обычно так говорила Рая, санитарка. .
«Ага, слаще. А когда тебя на аборте выскребают, без наркоза, без нифига? Сколько раз уже зарекалась, что не дам больше. А потом забываешь, конечно. Да и как тут быть? Ходит, виновато смотрит. Ладно хоть резинки эти появились. Мои деточки тут учудили. Мы с моим приходим домой из кино. А у нас по всей-то зале белые шары надутые лежат. На пианино два по краям лежат. На люстре три висит. Это они резинки-то наши нашли и подумали, что мы им шарики купили и прячем, чтобы сюрприз к празднику сделать. Вот и они нам решили сюрприз сделать. Так растянули, что не скатаешь обратно-то. Мой полночи пытался скатать, нахохотались досыта. Зато теперь знаю, что не порвутся. А то многие говорят, что они рвутся и что их специально непрочными делают, чтобы, значит, мы рожали больше. А куда больше-то? И так трое. Налог за бездетность сняли и хватит», – расстраивалась лаборантка Зоя из процедурного.
Иногда женщины заодно «щипали» и Стаси, озорно задираясь, но она только улыбалась и наотрез отказывалась им потакать.
Однажды сидя в городском парке, ожидая начала дневного воскресного сеанса в летнем кинотеатре, Стаси услышала разговор двух молоденьких женщин, сидевших на аллее за кустами сирени за её спиной.
– Ты знаешь, я даже не представляла себе, насколько это прекрасно, глаза открывать не хочется, а он меня и не торопит, не шевелится даже, говорит, что это самые лучшие для него мгновения – удовлетворённую им жену видеть, – и женщина, невидимая за кустом счастливо засмеялась.
– А мой почему-то считал, что до родов женщина вообще ничего такого не чувствует. Что ей просто приятно и всё, и особо не считался с моими ощущениями. Вот, ведь, глупый. Мне самой малости, может, и не хватало, а ему пофиг. Пришлось развеять миф. И он так удивился!
– И как ты развеяла?
– Ха! Да очень просто. Создала аналогичную, ну, для него аналогичную, ситуацию. Знаешь, он обожает абрикосовый компот, просто смотреть равнодушно на него не может, как больной. Ну и вот, за ужином я свой компот быстренько выпила, а потом, когда он уже наелся и приготовился вкусить блаженство, я его стакан схватила и с удовольствием выпила. Он прямо взвился: «Ты что? Это же последний был?!» – «Ну да, – говорю, – самый последний, я тоже так его люблю, прямо не могу утерпеть, как хочется». – Он чуть не психует: «И что теперь?»– А я ему так спокойненько: «Ничего, особенного. Водички попей. Станет легче, я же пью водичку, после того как ты своё удовольствие справишь, а меня один на один с потолком оставляешь. Ничего же? Живу как-то. Без удовольствия, но живу». Вот уж он у меня засуетился: – «Как же? Что же? Почему же? А мне говорили…. А что же ты-то…» – Ну, короче, преодолели. Наслушаются советчиков всяких и надувают губу, как великие специалисты: «Я-не я». А что они без нас – их умных жен? Так, шалопаи. Правда, после рождения сынишки чувства и впрямь стали другими. Глубокими, что ли. Раньше пять минут – и всё. А сейчас – минут по сорок, и нормальненько», – дамы рассмеялись и пошли в зал, услышав звонок.
Стаси именно тогда, услышав разговор двух откровенных подружек, впервые почувствовала в себе женщину и решила, что у неё с мужем, если такой появится, будет всё просто замечательно и тайно, как в том детском сне, туманном и красивом, с нежным шепотом папы и ситцевыми цветочками на ширме, отделяющей её кроватку от маминой с папой кровати.
– Стаська, как же я тебя люблю. Даже не верится, что теперь мы всё время рядом и всю ночь рядом. И знаешь, я почему-то думал, что ты у меня вообще под животом окажешься, и переживал, как же я целовать-то тебя буду. А это у меня ноги просто длинные. Дурак, да? – и Лео захохотал счастливо, как мальчишка.– И завтра всё будет снова, да, моя сладкая?
– Нет-нет, Лео. Не завтра.
– Что? Сильно болит?
– Мм. Болит.
– А сколько дней оно заживать там будет? Может помазать чем-нибудь для ускорения?
– Я всё сделаю. Не волнуйся. Просто надо несколько дней подождать, понимаешь?
– Понимаю. Но целоваться-то можно хоть целый день напролёт? Да ведь? – и он с удовольствием продемонстрировал ей свой поцелуй, от которого у Стаси свело желанием весь низ живота, и руки её хотели очень сильно поцарапать спину этому глупому любимому мужу.
Всю ночь Лео притягивал её к себе и крепко обнимал. Ей стало так жалко мальчишку, который, наконец, обрёл любимую игрушку, которую крепко и нежно прижимал к себе во сне. Ну в чём он виноват, если никто ему не удосужился мужские мозги на место поставить? И какой же он был прекрасный во все моменты, которые вновь и вновь проплывали перед ней, как в немом кино с его сильными плечами над ней, его строгим профилем лица с закрытыми на мгновение глазами, его восторженный сильный с полустоном вздох…
Да и то сказать: кто, и чем мог и умел тогда мужские мозги кому вставлять? Древние традиции старших братьев и дружки жениха, свах и бабок-повитух на свадьбах мхом поросли. Тогда ещё на телегах ездили, когда они своё дело делали, как, уж, умели, конечно, но делали, наученные пред брачной ночью, да наслушавшись шорохов и скрипа родительской кровати за занавеской в общей хате. Теперь на автомобилях все ездили. Забылось всё.
После приходя Сталина к власти даже поцелуи из кинолент вырезали. Повсеместное плакатное целомудрие и воздержание плотным туманом застили всё, что могло пролить хоть каплю света на мучительно томивший и не глохнувший интерес, стыдливо закрытый в глубине нижней чакры, как сейчас говорят.
Все существа на планете объединены между собой именно этим даром – сексуальностью. Но если животные, насекомые и прочие живые твари осуществляли удовлетворение этого самого безудержного из стремлений живого организма беспрепятственно и свободно, то Человек – существо общественное, коллективное, говорящее и социальное – не мог себе такое позволить.
Не дикари же?
А «стремление» прорывало все поставленные на его пути плотины. Новое государственное устройство родило к жизни новые подходы в решении столь насущного стремления.
Кампания и теория «стакана выпитой воды», поддержанная Александрой Коллонтай и свирепо подхваченная, очумевшими от вдруг возникшей свободы выражения, молодыми комсомольцами, как раскинувшееся наводнение смыло всё в одну вонючую лужу! Мораль, нравственность, стыд, и благопристойность – исчезали, как понятийные смыслы «Комсомолец должен получать удовлетворение, чтобы нормально работать на благо общества!». А комсомолки? – Ну, а кто, кроме них мог тогда дать удовлетворение занятым с утра до ночи борзым комсомольцам, строившим новое свободное общество?
Комсомолки и давали, теряя здоровье, погибая от абортов, уже разрешенных повсеместно.
Марши обнаженных маршировали по улицам Москвы и Харькова, являя миру новую культуру тела, морали и боевого духа.
Деятели кино и театров, своеобразный светский советский бомонд, ещё кое-что, кое-как доставали в заграничных поездках, из закрытых литературных фондов, при помощи других связей разыскивали какие-то просветительские материалы в этом насущном вопросе существования и размножения.
Отголоски этой опьяняющей и одуряющей свободы рассыпаны по всей поэзии, литературе и живописи «Серебряного века».
В Коктебеле поэт Максимилиан Волошин, создавший свою знаменитую коммуну деятелей искусств, в принудительном порядке заставлял живущих там перманентно почти всех деятелей тогдашнего художественного и литературного бомонда, принимать нудистские купания в море. И сам эти нудистские купания принимал вместе с командой купающихся. Взбадривали, так сказать, деятели искусств творческие приливы, фантазию и вдохновение сексуальными полусектантскими приливами и отливами вседозволенности чувств и поступков.

