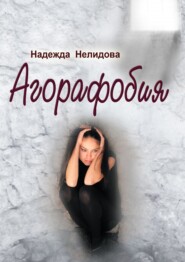скачать книгу бесплатно
– Как куда? На вечеринку, забыл? Я твой чёрный костюм отпарила, белую рубашку нагладила. Поди вымойся как следует, чистое бельё я приготовила.
Иван Кирсаныч как неживой дал проделать над собой все манипуляции. Был уже вечер, темнело. Они вышли торжественно под ручку. Иван Кирсаныч ещё надеялся на лучшее. Но супруга решительно повела его от дома в сторону автомобильной свалки.
«Значит, когда ехали с дачи… Не вписались в поворот. Хорошо, хоть с внуком всё в порядке, раз его нет с нами».
Но Неонила Петировна, проходя мимо детского садика, резко свернула туда, бросив:
– Обожди, я за Рустиком!
Господи, только не это! Иван Кирсаныч привалился к белому низенькому заборчику и горько заплакал. Плакал он о людях, бездумно играющихся в железные машинки и в собственные тёплые жизни. Плакал навзрыд о стране, где мертвецы веселятся как живые, а живые оцепенели как мёртвые. Но дети, дети за что?! Как бык на заклание, покорно повесил он лобастую голову.
Когда подошла запыхавшаяся Неонила Петровна с Рустиком, он уже был спокоен и готов. Взял внука на руки, крепко поцеловал в тугую холодную детскую щёчку. Понёс его к вагончику, где приветливо по-вчерашнему светились окошки.
– Вань, ты куда?! – рассердилась Неонила Петровна. – Последний ум пропил? Мы же к Коструйкиным на юбилей!
Иван Кирсаныч так и встал посреди дороги. Утёр ладонью мокрый лоб: «Ф-фух». Постоял. И нечётким строевым шагом последовал за супругой. На юбилей к Коструйкиным.
АГОРАФОБИЯ
Людочка (от клички «Людоед», ст. 111, 126, 105, 131, 132, 244 УК РФ) проснулся за полчаса до побудки. Что-то светлое, задушевное, подзабытое за ночь, какая-то радость слабенько грела душу. Её следовало аккуратно, не спугнув, едва касаясь, не помяв хрупких крылышек, не дав растаять, извлечь из сонных тёмных глубин мозга.
Он поискал в памяти и нашёл её, радость. Даже две. Вчера вечером по радио России передавали о людях, погребённых под обломками обрушившегося многоэтажного дома. Взрыв бытового газа. У них, что ни случись – всё взрыв бытового газа. И ещё на трассе в Нечерноземье крупное ДТП с десятком погибших.
Вообще, случаи с природными катастрофами, падениями самолётов, крушениями мостов, авариями и проч. – подпитывали Людочку энергией, давали силы жить дальше. Иначе бы совсем кирдык. А так тесная вонючая камера даже начинала казаться уютным и надёжным убежищем. И его собственное положение выглядело не таким безысходным.
Кто-то в это самую минуту рукой-ногой не шевельнёт, размазанный бетонной плитой. Кого-то автогеном вырезают – а он, Людочка, перед завтраком нежится под казённым одеялом. Мысленно хихикнул, взбрыкнул под одеялом, подтягивая ноги к животу: принял позу эмбриона.
Жаль, что такие случаи были редки, и жертв было маловато. И, как бы трепетно, бережно не относился Людочка к подобным новостям, как ни смаковал – они, как сахарные косточки, – до обидного быстро обсасывались, теряли вкус. В любом случае, сегодня насыщенный, омытый смыслом день обеспечен. А не за горами новые ЧП. Будет день – будет и пища.
Гнусавый треск звонка заставил ос (осуждённых) по всем камерам вскочить. Бесшумно – пока не раздались чеканные шаги в коридоре и не сверкнул железный кругляшок дверного глазка – заправить шконки. За спиной Людочки усиленно копошился сокамерник по кличке Седой. Тщательно выравнивал и натягивал прямоугольничек серого одеяла, как зеркальце. Отступал – и снова суетливо бросался поправлять одному ему видимую шерстяную рябь, снимать какие-то пушинки.
С самого начала Седой Людочке не нравился. Не сразу до птенчика дошло, что замурован, заживо похоронен в каменной клетке: три шага вдоль, четыре – поперёк. Что никому в целом мире до него дела нет, что это – навсегда. Воображал, небось, что там, на воле, сходят по нему с ума, бросаются к компьютерам и радио: как там наш Робин Гуд? Когда дошло, что на фиг никому не нужен, что ни за понюшку табака молодую жизнь в топку сунул – волосы поседели в одну ночь.
***
Давно, ещё в первые дни, Митя перемножил 25 лет на 365 дней. 365 дней на 24 часа. 24 часа на 60 минут. 60 минут на 60 секунд. Каждая секунда, умирая, приближала призрачную свободу. Но с каждой секундой отмирала и сама жизнь, выхолащивая смысл ожидания. Нелепо, дико. Зачем ложиться строго в десять вечера? Вставать в шесть утра? Зачем всё, если уже незачем?
Пройдёт 3650 дней – разрешат ходить на работу, шить робы и тапочки. Пройдёт ещё столько же – позволят в камере телевизор. Изменится ТВ к тому времени или останется таким, каким его помнил Митя? Экран занимали сплошь свиные рыла, и хотелось, как у Чехова, с тоской возопить: «Человек! Выведи меня!»
Тяжелее всего было с молодым накачанным телом. Слишком много его, тела – некуда девать. Самые лучшие дни – когда Митя тяжело заболел. О, вот бы так на долгие годы забыться в бреду, метаться в сорокаградусном жару, плыть в волнах красного мутного жара, в воспалённом сознании забывая реальность.
Но он выздоровел и больше не болел. Только иногда, откусывая хлеб, будто обнаруживал во рту звякнувший камешек: очередной зуб без боли, сам собой выпадал из размягчённой десны. И рядом, если осторожно тронуть языком, шевелился в гнезде следующий.
Не помогал проросший болезненный, зеленовато-бледный – тоже заключённый здесь – чеснок. Он рос в подвешенном под потолочным окошком в полиэтиленовом мешочке с горсточкой земли, тщательно смачиваемой водой из-под крана. Такой же мешочек, по другую сторону окна, заботливо висел у Людочки. Такие висели по всем камерам у ОС.
Чтобы разнообразить жизнь, Митя, например, напивался воды из – под крана и с 6 утра до 10 вечера не ходил в туалет по-малому. Терпел, скрипел зубами, ни о чём больше не мог думать (и это счастье). И, когда, наконец, подскакивал к унитазу и с болью, со стоном пускал горячую стоялую, толстую мутную струю – эта боль и этот стон были от краткого острого счастья.
***
На уроках истории Митя восторгался мужеством революционеров, годами сидящих в одиночках. О, как бы он хотел оказаться на их месте, лишь бы не видеть… не слышать… не чуять ГАДА рядом. В благословенных одиночках только камень, только стены вокруг – и никто не шевелится рядом, не издаёт звуков, не дрочит всю ночь напролёт, дыша по-собачьи и не давая Мите сомкнуть глаз. Не воняет, наполняя камеру специфическим запахом продуктов жизнедеятельности, не насвистывает одну и ту же мерзопакостную песенку, не цокает издевательски языком на одной ноте. ГАД проделывает это, заметив страшно выводит из себя Митю.
Зачем? А ни зачем, хоть какие-то эмоции, впечатления. О, какому палачу пришла в голову пытка на долгие годы обречь двоих полусумасшедших (а других здесь не было) людей на вынужденное соседство, сожительство в каменном мешке?
Когда-нибудь Митя не выдержит, и они покатятся и будут вгрызаться в лицо и горло, как звери, с конкретной целью: успеть убить друг друга, пока не ворвалась охрана. После карцера их, возможно, разведут по разным камерам и вместо ГАДА появится новое лицо.
И снова по кругу, разговоры: как же так? Хорошо, по мнению общества, Митя террорист и убийца. За это его заточили живьём гнить в клетке. И в это же самое время то же самое общество ездит в метро, где сотни раз, ежедневно во всеуслышание объявляют станции, названные в честь народовольцев- террористов? Застраиваются улицы, носящие имена убийц, на чьей совести не 14 человек, а сотни тысяч…
Эй, государство, ты или крестик сними, или штаны надень!
***
В четырнадцать лет Митя понял, что всё, кроме духовного – есть тлен. И с острой жалостью и недоумением смотрел на отца и мать, тративших единственную, неповторимую жизнь на смену обоев в квартире, на выбор брусчатки для дачи. Делавших это с такой страстью, словно от этого зависела жизнь. Оживлённо прикидывавших, какой кухонный гарнитур с зарплаты купить, какие серёжки для матери на день рождения, увлечённо обсуждавших покупку одежды, мяса на ужин.
И сторонился, и стыдился, и огрызался на отца, меняющего очередного крутую тачку на ещё более крутую. Сам он, выдержав все обидные и насмешливые слова от друзей и родителей, три летних месяца носил задёрнутый до подбородка дешёвый спортивный костюм и кроссовки, найденные на мусорке и самолично постиранные, и подружился с дворовым бомжем Пашей. Только 1 сентября заставило его надеть строгую форму физико-математического лицея. Над ним смеялись – а ему было до слёз жаль людей.
В шестнадцать лет автостопом, с рюкзачком изъездил полстраны от Урала до Дальнего Востока. Пока мать ночами сходила с ума, трясся в кабинах грубых дальнобойщиков, с непременными сентиментальными занавесками с фестончиками и бахромой. Лобовые стёкла напоминали сувенирные витрины, густо увешанные бусами, мягкими игрушками, распятиями, голыми красотками и даже новогодними гирляндами.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: