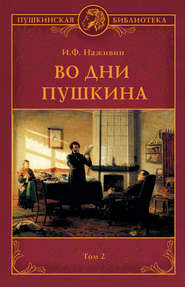скачать книгу бесплатно
Война с Турьей – внешний повод к ней была защита «единоверной» Греции от терзавших ее турок – велась сперва на море. Но не успели отгреметь громы Наварина, как началась и война сухопутная. Она велась одновременно и в Европе, и в Азии. В Закавказье во главе русской армии стоял сперва знаменитый Ермолов, «проконсул Кавказа». Но он был под подозрением, как один из ceux du 14, и, когда он, имея в виду войну с Персией, попросил о секурсе несколькими дивизиями, ему отказали: Николай всегда думал, что Ермолов, располагая большой армией, легко может отделить Кавказ от России и, чего доброго, начать с ним войну! Поэтому его и совсем оттуда убрали и на его место был назначен граф Паскевич. В нескольких битвах он разбил турок, взял Ахалцых, взял неприступный, казалось, Карс и устремился к столице турецкой Армении, Эрзеруму.
Не менее успешно действовала русская армия и в европейской Турции под начальством князя Витгенштейна. Николай приехал к армии, чтобы одним видом своим одушевить солдат. И замечательно то, что они, действительно, воодушевились. Он лично распоряжался переправой полков через Дунай, и сам, несмотря на большую волну, переехал старую славянскую реку на вертком запорожском челне. Никакой надобности, конечно, в этом не было; конечно, для царя могли найти и безопасную шлюпку, но это было необходимо для mise en scene. И, как всегда, в армию пускались разные эдакие словечки.
– Можно ли взять сию крепость, которая считается неприступной? – будто бы спросил под обложенной Шумлой Николай одного из генералов.
– Да, ваше величество, – отвечал тот. – Но это может стоить нам пятидесяти тысяч храбрых солдат…
– Так я лучше буду стоять под ней, доколе она не сдастся сама, хотя бы это стоило мне пятидесяти лет жизни!.. – воскликнул будто бы Николай.
И словечко это – по существу, беспредельно глупое, ибо даже все генералы мира вместе не могут сказать сколько будет стоить Шумла, пятьсот храбрых солдат или пятьсот тысяч – ползало по всей армии, и дурачки млели пред высочайшей премудростью, а в Петербурге смешной Никитенко заносил их в свой дневник наряду с описанием прелестей «девицы Гедике».
Железное кольцо русской армии замкнуло и Варну. С моря караулили ее русские корабли. Решительного штурма осаждающая армия не предпринимала, но стычки происходили ежедневно. Солдаты держали караулы, чистили оружие и амуницию, чинились, вечерком у огонька пели унывные песни, и во всем этом была та тихость, которую вызывает в человеческой душе близость смерти. И часто какой-нибудь усач вдруг бросал чистку ремней, долго-долго смотрел перед собой остановившимися глазами, а потом, вздохнув тихонько, снова брался за свое дело. Офицеры, солдатами нелюбимые, были настороже: пуля в затылок во время боя была вещью довольно обыкновенной… Но все неуклонно делали то дело, которое безмолвно требовал от них Рок.
И, глядя на это пестрое, курящееся дымками кольцо русского лагеря, растянувшегося по холмам, вдумываясь в значение той драмы, которая развертывалась тут, человек впадал в какой-то нравственный столбняк…
Доля солдата не забавна никогда и нигде, но в те времена в России она была просто страшна. Когда в последние годы царствования Александра взбунтовался Семеновский полк, то следствие установило жуткую картину жизни солдат под властью злого и тупого полковника Шварца. На учении Шварц выходил из себя. Он ложился наземь, чтобы видеть, хорошо ли солдаты при маршировке вытягивают носки. При малейшей оплошности во фронте, он орал ругательства, бросал свою шляпу оземь и топтал ее ногами. Он бил солдат по лицу, вырывал у них по аракчеевской моде усы, а если солдат, не удержавшись, во фронте закашляется, он бил виновника фухтелями[10 - Тесаками плашмя.]. И это происходило в Семеновском полку, который принимал участие в устранении Павла, шефом которого был сам царь! Наконец, полк взбунтовался, и его, под угрозой заряженных картечью пушек, сперва заперли в Петропавловку, а затем разослали по всей России…
Солдатчина внушала народу величайший ужас. Рекрутский набор вызывал по деревням вопли отчаяния. Рекрута семья оплакивала как покойника. Плач и уныние охватывали даже те дома, которых набор непосредственно не касался. Рекрута заковывали в цепи и так, под звон кандалов, везли в присутствие. А затем начиналась двадцатипятилетняя каторга. В военное время солдат был пушечным мясом, а в мирное – живой игрушкой для их высочеств и их величеств. Их обмундировка была приспособлена не для походов, а для парадов. При Александре врачи нашли, что солдаты часто болели потому, что слишком стягивали – ради красоты талии – пояса. В Екатеринбургском полку по время учения солдаты падали в обморок от сильного затягивания ранцевых ремней на груди. Часто и в мирное время воры-командиры кормили их так, как хороший помещик не кормит своих свиней. «Участь солдата, – по словам сосланного потом в Сибирь майора Раевского, – почти всегда вверяется жалким офицерам, из которых большая часть едва читать умеет, с испорченной нравственностью, без правил и ума». И у них была сумасшедшая власть: за воровство капитан давал 500 палок, за ошибку в учении – 300, за то, что не привел девку – 100, за то, что не вычистил ремней или не нафабрил усов – 100, за первый побег – 500 шпицрутенов, за последующие – 1000. Очевидец рассказывает, как раз в Курске два офицера держали пари, что один солдат выдержит 1000 палок и не упадет. Солдат согласился за 4 рубля асс. и штоф водки. Свидетель этой сцены удивился: как может он соглашаться на такое дело? Солдат усмехнулся:
– Пожалуй, не согласись!.. Все равно, придерутся к чему-нибудь и выпорют даром…
Иногда против всех этих издевательств и зверств восставали даже офицеры. В 1823 г. офицеры Одесского пехотного полка, не в силах выносить жестокости своего командира, решили от него избавиться. Они бросили жребий, который пал на одного штабс-капитана. На другой день на дивизионном смотру штабс-капитан избил перед фронтом командира, за что был разжалован и сослан в каторжные работы в Сибирь. Негодяя полковника убрали.
И за все эти мытарства, за голод, за раны, за увечья, за грядущую нищую старость, за ужас Бородина, за славу Парижа, солдат получал 9 р. 50 к. асс., или 2 р. сер. в год, причем иногда из царского жалования этого у него вычитали 30 копеек на – бумагу и… розги!..
В результате – бегство из полков. В Екатеринбургском полку в один месяц бежало 140 человек, в 31 егерском – 33 в один день, в 34 егерском из одной только роты бежало в месяц 45 человек. Майор Раевский показывал, что на правом берегу Дуная есть несколько селений, население которых быстро растет от постоянного притока русских беглецов-солдат. Много солдат бежало в Австрию и поступало в австрийские войска. Когда русские заняли Париж, бежало много гвардейцев, часто с лошадьми и амуницией. Правительство установило за побег смертную казнь, но и это не остановило утечки. И это было неудивительно: солдат был уже не серая, на все готовая скотинка, но среди них стали попадаться толковые, грамотные люди, семинаристы, помещичьи управители, стряпчие, разжалованные офицеры, которые почитывали газеты и журналы. «Справьтесь, сколько ныне расходится экземпляров “Инвалида” и других журналов в сравнении прошедшего времени, – писал Карамзин министру внутренних дел Кочубею. – При том печатаются иной раз в журналах разные вещи весьма неосмотрительно…»
И вот тем не менее эти тысячи и тысячи рабов, для которых всегда были готовы палки и фухтеля, которые, согласно древней российской традиции, были разуты и раздеты «провиянтскими» ворами, у которых не было ничего в будущем, которым нечего было терять в настоящем, у которых сзади были необозримые пространства земли необработанной и скверно обработанной, исключающие всякую мысль о «тесноте», которым, казалось, решительно ни на что не были нужны ни Рущук, ни Варна, ни Браилов, ни вся Турция, ни греки, которые легко могли побросать все эти дурацкие кивера, барабаны, ружья, ранцы и уйти за эти горы куда глаза глядят, и вот тем не менее они твердо стояли каждый на своем месте, любили Миколай Павлыча, – хотя под сердитую руку и звали его Миколаем Палкиным, – и, сполняя свой долг, не щадя живота, готовы были каждую минуту на ужасные муки и смерть… Держал их, конечно, в рядах не один страх: в каждом из них было что-то, что господствовало над их личной горькой судьбой и заставляло жертвовать своим маленьким благополучием чему-то огромному, чего они себе ясно и представить не могли: России…
…Была звездная ночь. Мерно вздыхала у берегов мертвая зыбь. Костры потухали. Кончились песни, шутки, разговоры… Солдаты укладывались спать – зная, что из мрака на них зияют заряженные пушки Варны. Черные караулы зорко слушали настороженную тишь и стерегли во мраке всякий шелест…
У потухающего уже костра сидел пожилой гвардейский егерь, подшивая разбитые сапоги. Молодой егерь, поддерживая уже сонное лицо обеими руками, лежал на брюхе и слушал рассказы старого служивого…
– Дибич, он хошь и храбрай, а дурашной, – говорил старый егерь. – Чуть что, так весь и закипит: лоп-распролоб и пошла писать!.. Ему солдаты здесь уж и прозвищу дали: Самовар-паша… И верно, что самовар. Вот у нас, у егарей, раньше тоже такой командер был – не дай Господи, до чего горяч! И бесприменно ему нужно было, чтобы полк наш был из всех что ни на есть первай… И что же, наконец того, он, братец ты мой, придумал? Известно, что не только умом, но и усом солдат не равен. Вот он и придумал, штобы те, у которых ус пожиже, штобы они из чужого волоса усы себе наклеивали! И клей такой всем на руки роздал, штоба чужой волос подклеивать. И вот от етого самого клею и стали у солдат морды пухнуть и по всему лицу чирьи пошли, – ну, страм просто глядеть… А других полков солдаты зубы скалить давай: «Ай да егаря! Этот самый волос полковник с мертвых солдат в госпиталях для вас сбривает, а когда нехватка – с собачьих хвостов… Вот так егаря!..» Сколько разов до драки доходило… И бросили. Потом полковника нашего к лейб-гренадерам перевели и, сказывают, на Дунае недавно убили, царство ему небесное… Да ты чего глазами-то хлопашь? Хошь спать, так ложись… Евона куды Большая Медведица хвост-то загнула – за полночь, знать…
В большой палатке маркитанта слышались голоса: там собрались офицеры. Из соседней батареи к егерям пришел в гости артиллерийский штабс-капитан Григоров, тот самый, который некогда под Одессой встретил Пушкина залпом всей батареи. Григоров мало изменился с тех пор. Это был все тот же беспечный и веселый бедняк, который отлично знал, что никаких сюрпризов в жизни для него нет, – разве турецкая пуля – что он так, вероятно, и кончит земной путь свой в чине максимум подполковника, что походы, карты, выпивка – это все содержание его дней, и который тем не менее легко и весело нес свою серенькую жизнь, был ласков со всеми и всеми любим. И теперь, попыхивая своею трубочкой, Григоров с удовольствием слушал рассуждения молодого егеря о войне.
– А мне непонятно! – взволнованно говорил мальчик-офицер с горячими глазами. – И министры, и публика, все принимают участие в греках, проклинают турок, делают подписки… Позвольте: а наши собственные мужики?! Легче ли жить многим из них под своими помещиками, нежели грекам под турками? Нет ли между ними жертв варварства, мучеников корыстолюбия? А сколько отцов, оплакивающих честь жен и дочерей! Сколько разоренных, томящихся голодом! Боже праведный! Когда в Смоленской вспыхнул голод, запретили делать подписку, а в пользу греков – сколько угодно… Что хотите, а я этого не понимаю…
Старые офицеры смущенно покашливали. Григоров неодобрительно покачал головой – к чему относилось его неодобрение, было неясно – и отошел к другой кучке, откуда слышался иногда веселый смех. Там сивоусый, молодцеватый егерь рассказывал о привольном житье-бытье петербургском.
– Каталани? У госпожи Каталани, брат, в горле все ноты есть, от самого тонкого сопрано до густого баса! А что касается качеств душевных и телесных, то можно сказать словами Державина:
Его супруга златовласа,
Пленила сердцем и умом!..
– Да отвяжись ты со своей Каталани! Поручик, досказывай твою авантюру…
– …Влюблен он в нее, говорю, был мертвецки, – продолжал поручик. – И она должна была выступать в «Фигаровой женитьбе»… А что, – говорит, – ежели я поднесу ей цветов? Ничего не может быть апропее… – говорю я. Ну, прифрантились это мы, заехали, купили чудеснейший букет, и в оперу. Началось это представление – мой Костя так и тает!.. И вдруг, можете себе представить, – шикатели!.. Он сперва это даже как будто очумел, а потом, вижу, загорелся весь, поправил саблю и к ним: милсдарь…
– Постой немножко: идет, как будто, кто-то, – прервал его подполковник с густыми седыми усами, пивший чай на барабане.
Действительно, за палаткой, в темноте, послышались чьи-то шаги, сонные голоса солдат и в черной, полной звезд дыре входа обрисовался в слабом свете фонаря молоденький артиллерист с очаровательными усиками. Он вежливо раскланялся с егерями и, протягивая какой-то пакет Григорову, проговорил:
– А я сколько времени ищу тебя… Какая-то казенщина на твое имя пришла – посмотри, может, что нужное…
– Разрешите, господа? – вежливо осведомился Григоров и, вскрыв конверт, развернул бумагу.
На его лице сразу отразилось такое недоумение, что все невольно обратили глаза на него. А он, читая, все головой встряхивал и даже глаза протирал, точно не веря себе, точно желая проснуться.
– Да что такое там у вас? В чем дело?..
– Черт… Не пойму что-то, господа, – бормотал он, осматривая то надпись на конверте, то печать, то снова погружаясь в чтение бумаги. – Фантасмагория, честное благородное слово!..
Еще минута, другая и все знали новость: в Нижегородской губернии скончался в своем имении его очень дальний родственник, отставной гвардии поручик Акимов, и все его имущество, как движимое, так и недвижимое, переходило теперь, за неимением более близких покойнику родственников, к Григорову. И были перечислены тут главнейшие имения покойного: имение в Нижегородской губернии в 2300 душ, имение в Тверской – 860 душ, в Орловской – 690 душ… Суд вызывал теперь Григорова «на предмет» утверждения в правах наследства. Григоров все глаза протирал да улыбался неуверенно: шутка это чья, что ли?.. Но – сомнений не было…
– Вот это так дар Фортуны! Непременно надо вспрыснуть… Эй, маркитант!..
Палатка весело зашумела. Но не успел развертистый ярославец-маркитант выслушать приказания ошеломленного и путающегося Григорова о шампанском, – «Самого лучшего… Ну, и все там такое…» – как вдруг черную, тихую землю всю встряхнуло: со стороны невидимой Варны стукнул пушечный выстрел. Ядро прошумело над самой палаткой – она стояла в долке – где-то недалеко раздался крик испуга и боли… Офицеры повскакивали и бросились вон. Началась сразу беспорядочная ружейная пальба и с русской стороны, но властное бубуханье пушек, молниями разрывая мрак, покрывало ее…
– Вылазка!.. Вставай все! В ружье!..
Григоров, задыхаясь, бросился к своей батарее…
Еще несколько минут и вокруг закипел ад: бешеной лавиной, с криками «Алла!.. Алла!» турки ворвались в русский лагерь и началась исступленная резня грудь с грудью… Загремели пушки и с русской стороны, и с кораблей. И в вспышках бледного огня их эта страшная пляска смерти казалась еще страшней… Бой продолжался недолго. Турки под канонаду и пение медных рожков, отбиваясь, отходили за стены, но от гвардейских егерей осталось немного. А когда рассветало, то у одной из подбитых пушек, зарывшейся дулом в землю, артиллеристы увидали их доброго и веселого штабс-капитана Григорова: он лежал навзничь с закатившимися глазами, грудь его тяжело, с хрипом подымалась и темнела под ним на земле широкая лужа уже остывшей крови. Санитары, стараясь попадать в ногу, понесли его на перевязочный пункт. По влажной земле ползали еще пахучие сизые полосы дыма, валялись мертвые русские и турки, стонали раненые… Но утро было веселое, полное безбрежной, солнечной радости…
…Скоро пала Варна, пал Браилов, пали другие турецкие крепости, а когда на место Витгенштейна был назначен главнокомандующим Дибич, Самовар-паша, то, несмотря на то, что он все путал, отдавал самые противоречивые приказания, дела пошли еще лучше. Вскоре Дибич разбил самого визиря, перешел Балканы, занял Адрианополь, вторую столицу Турецкой империи, и русские войска увидали вдали лес мачт: то был – английский флот…
V. Красный звон
Жизнь кружила Пушкина, как безвольную щепку, в крутых водоворотах страстей. Иногда со стороны он представлялся даже как будто и ненормальным немного. Сватается он в Москве к Ушаковой, получает отказ – смех, карикатуры, эпиграммы и сейчас же сватается к Олениной в Петербурге, опять отказ, опять острословие, опять карикатуры, опять хохот. И снова он пускается во все тяжкие… И вдруг, по своей новой привычке, среди всего этого вздора и шума, задумывается он крепко, потом вздохнет и проговорит вслух какую-нибудь цитату, то
И грянул бой, полтавский бой…
то из барона Розена, подражая и голосу, и манере автора:
Неумолимая, ты не хотела жить!
И, засмеявшись, простится со всеми и едет играть в карты или в филармоническое общество слушать Реквием Моцарта, Сотворение Мира Гайдна или какую-нибудь симфонию все более и более гремевшего тогда по Европе Бетховена.
– Ба!.. Грибоедов!
– Тезка, здравствуй!
И приятели, радуясь встрече, крепко трясли один другому руки, и Грибоедов, как всегда, поверх очков смотрел на это смуглое, с веселым белым оскалом лицо.
– Я, друг мой, так давно не видал тебя, что готов на сегодня бросить филармонию и пойти с тобой куда-нибудь провести вечерок… Ценишь ли ты эту жертву с моей стороны?
– Ценю, милый. Я знаю, как ты любишь музыку… Ну, пойдем, посидим где-нибудь… Ты надолго в Петербург?
– Нет. Еду опять в Персию, – отвечал Грибоедов. – И, кажется, на этот раз уже не вернусь…
– Это еще что за фантазии?! Ты с ума сошел…
– Ah, vous ne connaissez pas ces gens-l?: il faudra jouer des couteaux…[11 - А, вы не знаете тамошних. Дело без ножей не обойдется… (фр.).] – сказал Грибоедов. – Шах стар, и, как только он умрет, сейчас же вспыхнет междоусобица: ведь у него семьдесят сынков! И всем кушать хочется, конечно… Ну, да, впрочем, поживем, увидим, а ты вот лучше расскажи мне о себе…
Грибоедов был весь привлекателен. В молодости он дурачился, может быть, не меньше даже Пушкина: то на лошадях въезжал он с товарищами на бал, который давался во втором этаже, то, превосходный музыкант, он поражал своей пышной импровизацией на органе в монастыре, в Бресте, и вдруг в середине мессы перешел на Камаринского, то дрался на дуэлях. Одна из дуэлей, на Кавказе, с шалым Якубовичем оставила по себе память в виде раны в левую руку, которая, как надеялся Якубович, помешает ему играть на рояле, чего, однако, не случилось… Потом молодые страсти отгорели, он уехал секретарем посольства в Тегеран, прослужил там восемь лет и вернулся уже знаменитым автором знаменитой комедии «Горе от ума». 14 декабря захватило и его, и он просидел несколько месяцев в Петропавловске, но Николай нашел его невиновным, выпустил на свободу, возвратил ему свою милость и вот теперь назначил его в Тегеран посланником. Жизнь к знаменитому уже писателю повернулась самой блестящей стороной, тем более что он полюбил грузинскую княжну Нину Чавчавадзе и был любим ею. Теперь она ждала его в Тифлисе… И Пушкин, несмотря на всю свою славу, не мог не завидовать другу: у этого все стало на свое место и он может идти вперед, к новым завоеваниям…
– Ты прав, друг мой, – сказал Грибоедов, когда они сели за столик в ресторане. – Я не только доволен, – я счастлив через край. И ничего я так не желал бы, как чтобы успокоился и ты: ты, по-видимому, и сам не отдаешь себе отчета, что мог бы ты сделать в хорошей обстановке с твоим сумасшедшим дарованием!..
– Откроюсь тебе вполне, милый мой, – задушевно сказал Пушкин. – Право, я и сам устал… Но что ты хочешь? Не везет и не везет!.. Конечно, фейерверк может быть и красив, но если заниматься тем, что жечь его с утра до вечера, то, право, он скоро осточертеет… А я сжег потешных огней довольно… Возьми ты меня хоть секретарем к себе, жени меня, делай со мной, что хочешь, но цыганщина мне решительно осточертела… Ты подумай: у меня уж как будто плешь начинается, а я все как неприкаянный по жизни ношусь. Раньше все чудилось, что счастье не здесь, а вон там, но… «блажен кто верует, тепло тому на свете», как хорошо бабахнул ты в своей пьесе. С годами вера эта улетучивается и тогда… Ну, выпьем!..
Встреча с Грибоедовым произвела на Пушкина большое впечатление, но как только простился он с ним, так опять старое и постылое захватило его. И в то время, как одни, вроде тупого и бестолкового Бенкендорфа, глядя на его буйную жизнь, тревожно ждали от него всего, другие, более зоркие, видели в нем только большого ребенка. «Господин поэт, – писал Бенкендорфу А.Н. Мордвинов, – столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет в своей ветреной голове ничего, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно. Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры…» Но Бенкендорф не мог не опасаться: он ведь, как новый Атлант, нес на своих украшенных густыми эполетами плечах необъятную Россию, он был ответственен перед государем императором и перед потомством за ее благоденствие!..
И Пушкин решил: ему надо ехать на Кавказ, в действующую армию…
С подорожной в кармане, Пушкин приехал в Москву, снова истратился с Натали Гончаровой и буквально ослеп: девушка-подросток за это время превратилась в женщину, о красоте которой говорила вся Москва. Он всячески искал встреч с ней, а между встречами безумствовал, как всегда. Закадычный друг его, Соболевский, унесся за границу, но его место занял П.В. Нащокин, завсегдатай аглицкого клуба и кутила первой степени.
После смерти отца Нащокин, избалованный богатой матерью, пустился во все тяжкие. Он нанимал в Петербурге на Фонтанке большую и богатую квартиру, куда могли являться с дамами не только его друзья, но и друзья его друзей. Многочисленная прислуга под управлением карлика Голована всем готовила постели. Хозяин являлся обыкновенно поздние всех и только осведомлялся, сколько у него в эту ночь ночлежников. Но на утро все должны были являться к кофе: тут происходили знакомства, пили, – не только кофе, – шумели, и так начинался трудовой день. Иногда гвардейская молодежь после шумного завтрака сажала в карету карлика и всех красоток, а сами, сняв мундиры, в одних рейтузах и рубашках делались кучерами, форейторами, становились на запятки и во весь дух летели по Невскому… Теперь, очутившись в Москве, друзья прожигали жизнь вместе…
Между тем искра, зароненная Натали в бешеное сердце поэта, разгорелась в целый пожар. Он забыл всех и все и сгорал. И, наконец, не вытерпев, бросился к Толстому-американцу, с которым не так давно он собирался стреляться. Лучшего свата выбрать Пушкин не мог: во-первых, Толстой был близок Гончаровым, во-вторых, это был человек, который не останавливался ни перед какими coups de t?te[12 - Безрассудствами (фр.).]. Он уехал со знаменитым Крузенштерном в кругосветное плавание, но дорогой со всеми на корабле перессорился, всех перессорил и, наконец, был высажен Крузенштерном на берег Камчатки, проскакал всю Сибирь, был высылаем полицией из Петербурга за всякие проделки, дрался на дуэлях по пустякам и каждую минуту был готов на всякую авантюру.
– Да что такое? В чем дело? – ероша свою курчавую голову и глядя на поэта своими крошечными, красными глазками, спросил он.
– Ты должен ввести меня к Гончаровым…
– Только и всего? Хорошо. На днях съезжу и спрошу…
– Как на днях? На каких днях? Сию же минуту!
Через полчаса карета американца уже загремела к Старому Вознесению. Толстой скоро вернулся с благоприятным ответом. Двери рая раскрылись перед поэтом, и он, дуэлист, бреттер, до мозга костей циник, явился к Гончаровым смущенный и застенчивый… Робела и Натали: видеть у своих ног поэта, которого превозносит до небес вся Россия, это случается не каждый день и не каждой выпадает на долю.
Он стал бывать у Гончаровых каждый день, а потом вскоре и несколько раз на дню. Посещения его не всегда сходили гладко: Наталья Ивановна не допускали никакого вольнодумства в делах религии и в отношении к императору Александру, память которого она боготворила, и поэтому именно по этим двум пунктам он чаще всего и срывался. И она, отгадывая его намерения, морщилась и пилила за него Натали…
Очень скоро подошел и решительный день. Пушкин приехал утром. Он знал, что девушек дома не будет: накануне вечером они собирались при нем в Успенский к обедне, где должны были быть чудовские, а Наталья Ивановна была не совсем здорова. И он, замирая сердцем, ждал ее в их запущенной гостиной. В раскрытые окна рвалось вешнее солнце, Москва ликовала всеми своими колоколами, а он слушал, как бурно бьется его сердце…
И вдруг за дверями послышались ее тяжелые шаги. Она взглянула на него от двери, сразу все поняла и смутилась: нет, решительно не того ждала она для своей дочери!.. А он подошел к ручке, она усадила его и сама церемонно и строго села и начала учтиво:
– А какова погода-то?.. Мои девочки поехали в Кремль помолиться…
Он вдруг сорвался со стула и, ничего не слушая, быстро проговорил:
– Наталья Ивановна… вы все знаете… Не мучьте же меня, ради всего святого!.. Вся моя жизнь в ваших руках…
Она деланно-удивленным взглядом попыталась-было остановить его, но ничего не вышло: бешеная страсть сметала всякое сопротивление. Она потупилась и молчала. В открытые окна все рвалось упоительное солнце, хор московских колоколов переливался над городом, радость – после недавней зимы – слышалась даже в дребезжании дрожек по плохой мостовой, в ворковании голубей по карнизам, в ожесточенном чирикании влюбленных воробьев и в упоительном запахе гиацинтов, которые нежились в золотом столпе солнца на подоконниках…
И вдруг в соседней зале зазвенели девичьи голоса и смех. Он! Наталья Ивановна ожила: слава Богу, хоть не сейчас!.. И в гостиную первой вбежала Наташа и – смутилась: поняла. И то, что она чуть-чуть косила, было нестерпимо обаятельно… Все три, смеясь, стали объяснять причины своего неожиданного возвращения, но у него кружилась голова, он ничего не понимал, и он не помнил, как он вырвался и бросился в карету… А звон гудел, и солнце было, и радовался город…
– Но… – удивленно воззрился на него Толстой красными глазками. – Постой: ты утопленник? Revenant?[13 - Выживший? (фр.).] Откуда ты? На тебе лица нет!
– Не шути! Не смей! – крикнул он. – Одевайся сию же минуту и в моей карете поезжай к Наталье Ивановне и проси у нее от моего имени руки Натальи Николаевны… Понял? Но сию же минуту!
Толстой покачал своей курчавой головой.
– Vous finirez mal, mon enfant!..[14 - Вы кончите плохо, мой милый (фр.).] – сказал он – Ваша африканская кровь…
– Одевайся немедленно, или я не знаю, что я у тебя сейчас наделаю!
Толстой, смеясь, оделся и уехал: это не банально!
Пушкин заметался по его квартире, смотрел на часы, заглядывал в окна, ложился на диван, опять срывался и бегал по комнате, представляя в образах, как и что там Толстой делает, и снова свешивался в окно… И, наконец, измучившись, решил, что, если еще через двадцать две минуты его, проклятого, не будет, он опять поедет к Гончаровым сам. Неприличие? Пусть!.. Но так тоже нельзя. Это черт знает что такое… И стрелка подходила уже к роковому сроку, как вдруг под окнами загремели – ему показалось: весело – колеса, и экипаж остановился у подъезда.
– Ну? – бросился он навстречу.
Толстой швырнул свой bolivar[15 - Модная шляпа с широкими полями.] на диван.
– По-бабьи, – сказал он. – Ни дна, ни полтора…
– Ах, да говори ты толком! – скрипнул Пушкин зубами. – Ну?
– Я чрезвычайно польщена, говорит, предложением monsieur Пушкина, говорит, – начал Толстой представлять московскую барыню. – Но надо, говорит, подождать, посмотреть, выяснить: Натали так молода… Чего подождать, что выяснить, неизвестно… Я и говорю: по старой дружбе, Наталья Ивановна, напрямки: это нет? Смотрите, говорю, он меня застрелит, тогда на вашей душе грех будет…
– Ах, да перестань ты к чертям остроумничать! – бешено рванул Пушкин. – Ну?
– Ну, она смутилась. Нет, говорит, это скорее да… Но Натали так молода… И опять за ту же волынку…
– Так, значит, я могу надеяться?
– По-моему, можешь вполне…
Пушкин поджал ему руку и бросился вон…
В небе веселилось солнце, как никогда раньше оно не веселилось, пели, перекатывались по всей Москве колокола, как никогда они не пели, весенний шум улиц опьянял так, как не опьянял он никогда раньше. За спиной были крылья. Он помчался к Нащокину, – он у него жил, – поднял его, только на заре вернувшегося из аглицкого клуба, с постели и приказал своему Якиму немедленно собирать все в дорогу: они едут на Кавказ немедленно!
Яким поднял глаза и руки к небу:
– Твори, Господи, волю Свою, но… пфу-у-у…
И, крепко зарядив нос внеочередной понюшкой доброго табаку, он сокрушенно взялся за дело…
– Да ты у меня пошевеливайся, черт тебя возьми! – бешено крикнул Пушкин. – Н-ну?! И пошли кого-нибудь скорей за лошадьми.
VI. «Проконсул Кавказа»
Опальный Ермолов сидел в большом, заставленном по стенам множеством книг кабинете своего орловского дома и мучительно трудился над своими записками о 1812 г. Не записать все, что он, прославленный герой, видел и пережил в эти годы, было нельзя, – уж очень много всякого вранья было пущено в оборот, – но записать… Большого роста, в зеленой черкеске с гозырями, с большой седой головой, – голова тигра на геркулесовом торсе, – с круглым, грубоватым лицом и круглыми, полными огня серыми глазами, он был на месте во главе полков, но неуклюж и жалок у письменного стола. Он с трудом нанизывал одну дубовую фразу на другую, но вместо живых и интересных записок у него выходила какая-то стоеросовая писарская реляция, от которой мутило и его самого…
Воином проявил он себя очень рано. Во время штурма Праги к нему подскакал Суворов.