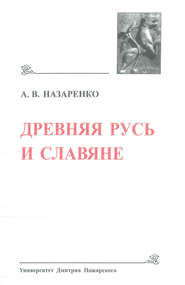
Полная версия:
Древняя Русь и славяне
49
Cosm. Ill, 8. S. 169.
50
Jasmski 1992. S. 114–116.
51
Не видим сколько-нибудь веских причин сомневаться в свидетельстве списка сыновей Владимира, что матерью Бориса была «болгарыня» (ПСРЛ 1. Стб. 80; 2. Стб. 67; Жит. БГ. С. 28). О десигнации Бориса в качестве киевского столонаследника, кроме данных, приведенных нами в другом месте (Назаренко 2000а. С. 512. Примеч. 36), свидетельствует также практически одновременное возмущение старших Владимировичей – Святополка Туровского и Ярослава Новгородского против отца: первого – скорее всего около 1013 (Thietm. VII, 72. S. 488; Назаренко 1993b. С. 136, 141, 171–172), второго – около 1014/5 г. (ПСРЛ 1. Стб. 130; 2. Стб. 114–115). О стремлении Владимира Святославича «византинизировать» порядок престолонаследия на Руси, то есть установить в той или иной форме единовластие киевского князя, убедительно пишет А. Поппэ, который, однако, совершенно напрасно, по нашему мнению, старается связать это стремление с гипотетическим происхождением Бориса и Глеба Владимировичей от Анны, сестры византийских императоров Василия II и Константина VIII (см., например: Поппэ 1997. С. 115–117; он же 2003. С. 309–313).
52
Отец Болеслава и основатель Древнепольского государства князь Мешко I (умер в 992 г.), если верить Титмару Мерзебургскому, завещал разделить державу между всеми своими сыновьями («relinquens regnum suimet plurimis dividendum»): старшим Болеславом и тремя младшими от второго брака с немкой Одой – Мешком, Свентепелком и третьим, не названным по имени (Thietm. IV, 57–58. S. 196, 198; Назаренко 1993b. С. 134, 138–139). Судя по известному документу Мешка I Dagome iudex (Dag. iud. 394–396; Щавелева 1990. С. 29), который представлял собой акт передачи части Древнепольского государства (за исключением Краковской земли, где, вероятно, сидел старший сын Болеслав: Lowmianski 5. S. 595–614) под покровительство папского престола с целью гарантии наследственных прав сыновей от второго брака (именно такая трактовка документа представляется наиболее основательной: Labuda 1988. S. 240–263), свидетельство Титмара достоверно. Тем самым, Мешко действовал вполне в рамках традиционного родового совладения, которое и пытался оградить от притязаний Болеслава на единовластие; сделать это ему, впрочем, не удалось: сразу же по смерти отца Болеслав изгнал мачеху и младших братьев (Thietm. IV, 58. S. 198).
53
«<…> Cracoviensis provinciae principatus et auctoritas principandi» (Kadi. Ill, 26).
54
Chr. Pol. m. 30; Вел. xp. C. 106.
55
См. остающуюся основополагающей работу по теме: Labuda 1959. S. 171–194; ср. также: Buczek 1960. S. 621–639.
56
Gall. II, 21.
57
Такое распределение земель вырисовывается из повествования польского хрониста Галла Анонима (первая четверть XII в.) о борьбе между Болеславом III и Збигневом в 1102–1107/8 гг. (Gall. II, 22–41).
58
Тигек 1998. Sp. 495. В свою очередь, Болеслав III сениором по завещанию отца определенно не был, так как даже его панегирист Аноним Галл ограничивается обтекаемым замечанием, будто Болеслав в качестве «законного сына» (Збигнев происходил от первого брака Владислава, причем его мать была некняжеского происхождения, так что с женитьбой Владислава на Юдите, дочери чешского князя Братислава II, первый брак князя был объявлен конкубинатом) «занял два главных города королевства» (Gall. II, 21). Но и это, конечно, натяжка: Краков и Вроцлав, доставшиеся Болеславу, никак невозможно считать «главными городами» в отличие от кафедрального Гнезна и пожизненной отцовской резиденции – Плоцка.
59
Gall. II, 16.
60
Jasmski 1992. S. 175.
61
Neer. s. Emm. (под 28 января).
62
Cosm. II, 13. S. 101; у Козьмы присоединение Силезии Казимиром I датировано 1054 г., что подтверждается сообщением «Альтайхских анналов» о заключении в 1054 г. польско-чешского мира (Ann. Alt. Р. 50).
63
ПСРЛ 1. Стб. 149; 2. Стб. 137.
64
Назаренко 2006а. С. 279–290; см. также статью IV.
65
Последний родовой раздел здесь фиксируется между сыновьями Людовика II (877–879) Людовиком III и Карломаном в 880 г. (Werner 1979. S. 395–462).
66
И здесь, впрочем, резкость разрыва с традициями родового совладения в историографии переоценивается. Пусть Баварское герцогство Генриха (948–955), младшего брата германского короля Оттона I Великого (936–973), нельзя сравнивать с уделами младших Каролингов (так как другие герцогские столы замещались знатью не из числа членов правящей династии), но королевский титул за Генрихом был сохранен и употреблялся в практике международных сношений. В адреснике византийской императорской канцелярии середины X в. Генрих титулуется «королем Баварии» («ρήξ Βαϊούρη[ς]») совершенно аналогично Оттону, именуемому «королем Саксонии» («ρήξ Σαζωνίας») (Const. De cerim. II, 48. P. 689.5; Назаренко 2001a. C. 256–257). Налицо явный пережиток династических отношений времен corpus fratrum.
67
В самом завещании Ярослава Мудрого, как оно донесено до нас летописями, о судьбе Новгорода, Ростова и Тмутаракани ничего не говорится; судьба эта восстанавливается по разрозненным данным 1060-х гг., которые подтверждают свидетельство перечня киевских князей из Комиссионного списка «Новгородской I летописи»: «И преставися Ярослав <…> и взя вятшии Изяслав Киев и Новгород и ины городы многы Киевьскыя в пределех; а Святослав Чернигов и всю страну въсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростов, Суждаль, Белоозеро, Поволжье» (НПЛ. С. 469).
68
См. статью II.
69
* Несколько видоизмененный вариант одноименной работы, предназначенной для сборника: Сословия, институты и государственная власть в России (средние века и раннее новое время): К 100-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина (в печати).
70
См, например: Пашуто 1965. С. 59–68; Черепнин 1972а. С. 353–408; он же 1972b. С. 126–251 (особенно с. 131–187); он же 1974. С. 23–50.
71
См. примеч. 2 в статье I.
72
Не говорим здесь о тех, кто сомневается в самом факте завещания Ярослава, – по крайней мере, в том виде, как оно сформулировано в летописи; см. об этом в статье III.
73
См. статью I.
74
ПСРЛ 1. Стб. 161; 2. Стб. 149–150. После слов «Всеволоду Переяславль» в Комиссионном списке «Новгородской I летописи» младшего извода (НПЛ. С. 182), в «Новгородской IV» и в «Софийской I» летописях (ПСРЛ 4/1. С. 117; 6/1. Стб. 181) и некоторых других читается: «а Игорю Володимерь». Это чтение отсутствует во всех главных списках «Повести временных лет», кроме Академического, в который заимствовано, очевидно, из новгородско-софийского летописания. По догадке А. А. Шахматова, упоминание о Волыни как уделе Игоря присутствовало в «Начальном своде» 1090-х гг., но было исключено в «Повести» из желания «дать отпор притязаниям Давыда Игоревича на Владимир» (.Шахматов 1916. С. XXV и 385. Примеч. к с. 204, стр. 18). Вряд ли, однако, это так, поскольку упоминание о Волыни Игоря сохранилось в резюмирующем сообщении под следующим, 6563 г. Скорее, текст общего архетипа всех сохранившихся списков «Повести» был дефектен, но из этого вовсе не следует заключать, будто упоминание об Игоре в статье 6562 г. было вставлено на основании статьи 6565 (1057) г., где его уделом названа Волынь, как думает Л. Мюллер (Nestorchr. S. 198. Anm. 5). Полагаем, в утраченном оригинале «Повести» такое упоминание в тексте «ряда» Ярослава имелось. Так или иначе, в том, что Игорь получил по завещанию отца именно Волынь, сомневаться не приходится.
75
Пресняков 1993. С. 42.
76
ПСРЛ 1. Стб. 163; 2. Стб. 151–152.
77
ПСРЛ 4/1. С. 118; 6/1. Стб. 182.
78
ПСРЛ 1. Стб. 166–167; 2. Стб. 155–156.
79
ПСРЛ 1. Стб. 167–170; 2. Стб. 156–160.
80
См. заголовок перед статьей 19 «Краткой Правды»: «Правда уставлена Руськои земли, егда ся совокупил Изяслав, Святослав, Всеволод» и аналогичный текст в статье 2 «Пространной Правды» (РП. С. 48, 64).
81
ПСРЛ 1. Стб. 181; 2. Стб. 171; Жит. БГ. С. 55.
82
ПСРЛ 1. Стб. 162–163; 2. Стб. 151.
83
ПСРЛ 1. Стб. 162; 2. Стб. 151.
84
НПЛ. С. 17. Точно так же составитель «Тверской летописи» редактирует фразу о разделе Смоленска: «И разделиша Ярославичи Смоленеск себе на три части» (ПСРЛ 15. Стб. 153).
85
См., например: Пресняков 1993. С. 38–39; Толочко 1992. С. 26, 34; и др.
86
Назаренко 2007а. С. 30–54; см. также статью I.
87
В самом завещании Ярослава Мудрого, как оно донесено до нас летописями, о судьбе Новгорода, Ростова и Тмутаракани ничего не говорится; судьба эта восстанавливается по другим разрозненным данным 1060-х гг., которые подтверждают свидетельство перечня киевских князей из Комиссионного списка «Новгородской I летописи»: «И преставися Ярослав <…> и взя вятшии Изяслав Киев и Новгород и ины городы многы Киевьскыя в пределех; а Святослав Чернигов и всю страну въсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростов, Суждаль, Белоозеро, Поволжье» (НПЛ. С. 469).
88
Greg. Tur III, 1; Григ. Тур. С. 62.
89
Описания уделов по завещанию 511 г., как и по обсуждающимся ниже договорам 561 и 567/8 гг., ни у Григория Турского, главного источника по истории франков VI в., ни в других текстах не сохранилось; их границы восстанавливаются – впрочем, с достаточной определенностью – по сумме данных, в том числе из описания позднейших событий у самого Григория; см. остающуюся итоговой работу на эту тему: Ewig 1953а. Именно на результаты Э. Эвига, за исключением ряда собственных наблюдений, мы и опираемся в наших построениях и картографических реконструкциях. Карты, прилагаемые к изданию В. Д. Савуковой (Григ. Тур. С. 324–325), как можно понять, заимствованы из старой историографии и в деталях не всегда надежны.
90
Аналогию (которую мы здесь детальнее не обсуждаем) представляет и раздел по духовной великого князя Димитрия Ивановича Донского (1389 г.). Каждый из взрослых сыновей великого князя (исключая больного Ивана) получал отдельную долю («жеребий») в землях собственно Московского княжества и отдельную – в приобретенных московскими князьями землях («куплях»). Из-за этого также образовались чересполосные уделы: Звенигород и Галич (Юрий), Можайск и Белоозеро (Андрей), Дмитров и Углече поле (Петр) (ДДГ. № 12).
91
Попытку оспорить эту устоявшуюся точку зрения и усмотреть в разделе 511 г. всего лишь политический компромисс ad hoc (Wood 1977. Р. 6–29) нельзя признать удачной. Участники этой дискуссии, конечно же, вряд ли знакомы с древнерусской проблематикой, но взгляд русиста сразу же отметит роковое сходство с давнишней полемикой между сторонниками «родовой теории» междукняжеских отношений, идущей от С. М. Соловьева, и последователями В. И. Сергеевича, убежденными, будто все в этих отношениях регулировалось конкретным договором. Бесплодно абсолютизировать основанную на обычном праве династическую традицию, сплошь и рядом скреплявшуюся еще и особым договором, противопоставляя ее столь же абсолютизированной договорной практике, которая, разумеется, не жила вне представлений о династическом легитимизме.
92
На это последнее обстоятельство нам уже приходилось указывать: Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–508.
93
Назаренко 2001b. С. 11–24.
94
Div. regn. R 126–130. Об аутентичности документа см. примеч. 18 к статье III.
95
Einh. 3. Р. 6.
96
Div. regn. 4. Р. 127–128.
97
Ibid. 15. Р. 129.
98
Ibid. 3. Р. 127.
99
Ord. imp. Р. 270–273.
100
«<…> post decessum nostrum sub seniore fratre regali potestate potiantur» (ibid. P. 271).
101
Ann. Bert., a. 843. P. 29–30; Böhmer 1. N 1103a (здесь указаны прочие источники); Ganshof 1956. S. 313–330.
102
Ord. imp. 10. Р. 272.
103
Относительно «Русской земли» отсылаем к последней специальной работе на эту тему, где приведена и более ранняя литература: Кучкин 1995b. С. 74–100. Функциональное сходство среднеднепровской области, включавшей Киев, Чернигов и Переяславль, с ядром Франкии вокруг Реймса, Суассона, Парижа и Орлеана немаловажно ввиду возобновления в недавнее время попыток новыми аргументами подкрепить мнение Д. С. Лихачева о «Русской земле» в узком смысле как позднем феномене – не ранее XII столетия (Ведюшкина 1995. С. 101–116). Мысль о связи «триумвирата» Ярославичей с их совладением «Русской землей» впервые высказал, кажется, А. Н. Насонов, но ход его рассуждений был иным, нежели наш: историк шел не от специфики уделов старших Ярославичей к понятию «Русской земли», а наоборот – от «Русской земли» как данности, которая должна была пролить свет на характер названных уделов (Насонов 1951. С. 49–51).
104
См., например: ДРГЗС. С. 67–68 (автор статьи – А. В. Куза).
105
Остроумная догадка, будто Смоленск мог быть поделен не между тремя Ярославичами, как принято думать, а между малолетними сыновьями покойных смоленских князей – Борисом Вячеславичем и Давыдом и Всеволодом Игоревичами (Кучкин 1985. С. 25–26), думается, обречена остаться экзотическим особым мнением: названные княжичи к 1060 г. едва достигли возраста 5–7 лет, что делало, по древнерусским понятиям, выделение им особых владений преждевременным.
106
Ord. imp. 14–15. Р. 272–273.
107
Div. regn. 4–5. Р. 128.
108
НПЛ. С. 17 (под 1069 г.), 470 (перечень «А се князи Великого Новагорода»).
109
ПСРЛ 1. Стб. 247 (по убедительной в данном случае традиционной хронологии «путей» Мономаха его переход «и-Смолиньска <…> Володимерю тое же зимы» следует относить к зиме 1068–1069 гг.).
110
ПСРЛ 1. Стб. 149; 2. Стб. 137.
111
В этом смысле допустимо думать, что Ростовская волость, отошедшая к Переяславлю по завещанию Ярослава Мудрого, могла входить во владения Мстислава так же, как и приданная в 1054 г. Чернигову Тмутаракань.
112
См. убедительные соображения о первоначальном объеме Смоленской волости в 1054 г. (Алексеев 1980. С. 43–52).
113
Кучкин 1985. С. 26. Примеч. 58; Свердлов 2003. С. 441.
114
Болеслав определенно отказался, а Владимир предположительно намерен был отказаться от традиционного раздела державы между всеми взрослыми сыновьями в пользу единовластия одного из сыновей, пусть и не старшего, а выделявшегося по другому династическому принципу: Мешко II был сыном Болеслава I от дочери германского императора Оттона II, а Борис – сыном Владимира, по-видимому, от представительницы болгарского царского семейства. Не видим сколько-нибудь веских причин сомневаться в свидетельстве списка сыновей Владимира, что матерью Бориса была «болгарыня» (ПСРЛ 1. Стб. 80; 2. Стб. 67; Жит. БГ. С. 28). Косвенные свидетельства о десигнации Бориса в качестве киевского столонаследника см. в примеч. 48 статьи I.
115
Wip. 9, 29. Р. 32, 48; Пашуто 1968. С. 38.
116
На этот счет – что характерно – существует принципиальное недопонимание и в западной медиевистике. Так, один из ведущих современных специалистов, обсуждая «Устроение империи» 817 г., недоумевает, почему проблема неделимости державы формулируется в неадекватных формулах, почему с разделами пытаются бороться путем усовершенствования практики разделов, тогда как надо было бы дать государственнополитическое определение нового качества державы, из которой выделяются уделы («Nicht die Qualität des zu verteilenden Regnum wurde neu definiert, sondern lediglich ein Divisionsmodus abweichend von der Tradition gefunden»); в этом автору видится недостаточность теоретического осмысления политики (Theoriedefizit) (Fried 1998. S. 434). Но дело как раз в том и заключается, что сеньорат – это не способ преодоления разделов, а совершенно напротив, – способ их утверждения, несмотря на ставшую очевидной необходимость как-то институционализировать единство державы.
117
* Несколько расширенный и исправленный вариант работы: Назаренко 2008а.
118
«Распространенной ошибкой является представление о том, что на Руси существовала определенная политическая “система”, от следования которой беспринципные князья иногда или всегда норовили отклониться. Политической культуры, которая была бы применима к разветвленной, прочно утвердившейся династии, при Ярославе (Мудром. – А. Н.) и его предшественниках не существовало. Поэтому преемникам Ярослава приходилось импровизировать, приспосабливая обычаи, прецеденты и устоявшиеся представления к непредвиденным ситуациям. Так появлялись договоренности, вызванные сиюминутной необходимостью, неудачные начинания, компромиссы и соглашения, хитроумные приемы, при помощи которых новшества выдавались за традиции» (Франклин, Шепард 2000. С. 359).
119
Там же. С. 10–11. Настораживает, что такое умонастроение в зарубежной русистике (обозначая, понятно, позицию по отношению к отечественной, прежде всего советской, историографии) имеет, кажется, шансы стать тенденцией; см., например, куда более радикальное его проявление в другой новой книге о Древней Руси: Schramm 2002; ср. нашу рецензию: Назаренко 2006b. С. 340–370.
120
Сергеевич 1908. С. 150–370. Идея «договорного права» развивается автором преимущественно применительно к взаимоотношениям между князем и вечем, но продлевается и на собственно междукняжеские отношения.
121
См. прежде всего: Соловьев 1847.
122
Так, женитьба Ярослава Святополчича на Мономаховне, равно как его развод и возмущение против Мономаха, последовавшие вскоре, в 1117 г., когда обозначился план Владимира Всеволодовича передать Киев своему сыну Мстиславу, со всей определенностью, на наш взгляд, указывают на существование между Владимиром Мономахом и его племянником Ярославом договора (заключенного, очевидно, еще в конце киевского княжения Святополка Изяславича) о Святополчиче как наследнике своего дяди на киевском столе (Назаренко 2006а. С. 284–285; см. также статью IV). Между тем, такое наследование, если бы оно состоялось, было бы именно тем, какое предполагалось законами родового старейшинства, ибо после смерти Мономаха Ярослав оставался бы генеалогически старейшим среди своих двоюродных братьев.
123
Ярким примером может служить Любечский договор 1097 г., который отнюдь не учреждал отчины на Руси, а напротив – опирался на родовое понятие отчины (подробнее об этом скажем ниже).
124
См. прежде всего: Ewig 1953а; idem 1953b. S. 85-144; idem 1981. P. 225–253.
125
Wood 1977. P. 6–29.
126
Пашуто 1965. С. 59–68.
127
Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–508 (включает названную статью 1987 г. с некоторыми, прежде всего библиографическими, дополнениями).
128
Dhondt 1948.
129
См. об этом подробнее ниже, а также в статье II.
130
Менее удачным представляется термин «родовой сюзеренитет», которым мы пользовались в работе 1987 г. (см. примеч. 10) – именно потому, что он привносит «феодальную» терминологию (сюзеренитет) в область династически-родовых отношений.
131
Из многочисленной литературы укажем: von Pflugk-Harttung 1890; Doize 1898. Р. 253–285; Schulze 1926; Faulhaber 1931; Zatschek 1935; Schneider 1964; idem 1972; Classen 1972. S. 109–134; Mitteis 1974; Penndorf 1974; Königswahl; Anton 1979. S. 55-132; Tellenbach 1979. S. 184–302; Schieffer 1990. S. 57–66; Boshof 1990. S. 161–189; Laudage 1992. S. 23–71; см. также работы Э. Эвига, указанные в примеч. 7, и литературу о капитуляриях 806 и 817 гг., приведенную в примеч. 18, 84.
132
См., например: Каштанов 1976. С. 80–81.
133
Poppe 1986b. Р. 272–274.
134
Theoph. Р. 472.30-473.3.
135
Термины «империя» и «император» упоминаются во вводной и заключительной частях документа, но в составе характерных оборотов, выдающих неумение или нежелание его составителей различать между «империей» и привычным «королевством»: «империя, то есть королевство наше» («Imperium vel regnum nostrum»), «королевство и империя сия» («regnum atque Imperium istud») или – особенно замечательная формула – «император, он же король» («imperator ас rex») (Div. regn., prooem., 20. Р. 127, 130); о характерном непонимании Каролингами сингулярного в принципе характера христианской империи см.: Назаренко 200lb. С. 11–24. Противоречие между новоприобретенным статусом империи и традиционным родовым разделом столь очевидно, что даже побуждало историков искать в документе интерполяции (Mohr 1954. S. 121–157; idem 1959. S. 91-109); это предположение столкнулось с обоснованной критикой (Schlesinger 1958. S. 9-52; Sprigade 1964. S. 305–317) и не удержалось в науке.
136
Vodoff 1983. Р. 139–150; Poppe 1984. S. 423–439; idem 1989. Р. 159–184; и др. См. историографический обзор: Свердлов 2003. С. 148–152 (сам М. Б. Свердлов придерживается иного мнения: именно в договорах с греками титул «великий князь» имел «реальное содержание высших юридических прав», что нам представляется в принципе неверным).
137
См., например: Schlesinger 1948. S. 168 (здесь, в Ашп. 125, указания на прочую литературу); Mitteis 1974. S. 39–41, 89; Сидоров 2003. С. 328.
138
Отрывочными сведениями о разделах королевской власти между братьями мы располагаем уже для начала IX в., как только ситуация в Дании начинает отражаться на страницах франкской анналистики. Так, в 812 г., после смерти конунга Хемминга и краткого междоусобия, конунгами данов (по всей вероятности, в Хедебю) становятся одновременно два брата Хериольд и Регинфрид; затем их изгоняют и делят власть между собой четверо сыновей покойного конунга Годофрида, двое из которых затем правят вместе с вернувшимся в 819 г. Хериольдом: Ann. г. Fr. Р. 136, 152.

