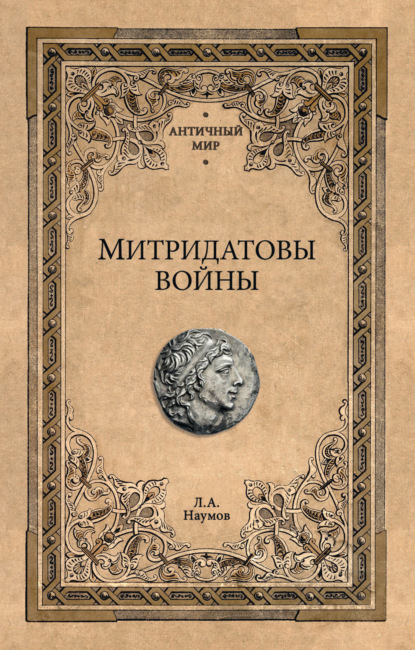
Полная версия:
Митридатовы войны
Следует указать и на еще одну организацию, которая относилась к царю с симпатией, – союз технитов Диониса. По сообщению Посидония, афинские техниты назвали вестником Нового Диониса посланника Митридата Афиниона, устроили в его честь общее пиршество с жертвоприношениями, возлияниями (V. 212. 48). Цицерон негодовал, что греки Азии назвали Митридата «богом, отцом, спасителем Азии. Эухием, Нихием (это все эпитеты Вакха), Вакхом, Либером» (Pro Flacco. 25). По мнению исследователей, деятельность этого союза была не только профессиональной: «Религиозные празднества занимали большое место в дипломатической деятельности полисов и монархов. В это время, когда еще не сложились основы чисто светского “дипломатического церемониала”, договоры скреплялись клятвами с призывами к тем или иным богам. Безопасность лиц, приезжавших в чужие края, также обеспечивалась с помощью соглашений, освященных религией. В этих условиях роль празднеств выходила за рамки чисто религиозных и культурных мероприятий. Они использовались для укрепления связей между полисами и между полисами и монархами. Общегреческие празднества были одним из тех важных факторов, которые обеспечивали единство греческого мира на всей обширной территории Средиземноморья. Они были освящены религией и традицией и уже в силу этого давали какие-то гарантии безопасности грекам, съезжавшимся на празднества, а его хозяевам – своего рода нейтралитет, хотя бы на время празднества, но чаще на более длительное время. Священные посольства, неприкосновенность которых признавалась всеми, разъезжали повсюду и устанавливали контакты с полисами, монархами. За религиозной оболочкой всей этой деятельности скрывались иногда важные политические мотивы, побуждавшие к установлению оживленных связей посредством проведения празднества»[62]. Кажется, что многие функции союза технитов Диониса могли быть важны для Митридата во время его путешествия.
Как уже говорилось, Аппиан писал, что Митридат Евпатор знал и любил эллинскую культуру и участвовал в эллинских религиозных обрядах. Хорошо известно, что его звали Дионисом, причем это обращение, судя по нумизматическому материалу, прослеживается, видимо, не позже чем с 102 г. до н. э.[63] Впервые он так именуется в делосской надписи жреца Гелианакса из Афин[64]. По мнению современных исследователей, культ Диониса имеет двойственный смысл. С одной стороны, выделяется усиление в позднеэлинистическую эпоху хтонического характера Диониса, «который нашел выражение в почитании этого бога, в качестве покровителя душ усопших, умирающего и воскресающего божества, способствующего плодородию земли и связанного с погребальным культом»[65]. С другой стороны, на Боспоре культ Диониса тесно связан с царской властью еще со времен Спартокидов, и Митридат использовал сложившуюся ситуацию для укрепления своего влияния (возле царского дворца в Пантикапее во II в. до н. э. существовал храм Афродиты и Диониса). Вместе с тем интересно понять, почему Митридат Евпатор в конце II в. до н. э. хотел отождествить себя и свою политику именно с этим богом. Один мотив кажется очевидным и лежащим на поверхности: опять подражание Александру Великому, который также видел в путешествии Диониса на Восток прообраз своих походов. Царь Понта рассматривал покорение Скифии как продолжение «дела Александра», явно заигрывал с этим образом, и в этой связи появление формулы «Митридат Евпатор Дионис» кажется совершенно естественным. Но, кроме того, важно учесть, что культ Диониса был запрещен в Риме (за пределами стен города, на виллах в частном порядке его отправляли). Возможно, что имя Диониса могло ассоциироваться с враждебными Риму силами. Ограничивается ли все этими причинами? Надо помнить, что образ Диониса многозначный и, как уже говорилось, связывается прежде всего со смертью и воскресением. Кажется, что в биографии Митридата есть эпизод, который можно связать именно с Дионисом как символом воскресения. Как уже говорилось, Юстин сообщает, что около 106 г. до н. э. царь с группой друзей совершил тайное путешествие в Азию и Вифинию. Дальше историк пишет многозначительную фразу: «После этого он вернулся в свое царство, когда все считали его уже погибшим (выделено мной. – Л.Н.)» (Just. XXXVII. 3, 5). Неизвестно, что именно произошло в Азии или Вифинии, о чем собственно говорит Юстин. Вероятно, конечно, что миссия Митридата была сопряжена с различными опасностями, возможно, он участвовал в каких-то таинствах. Так или иначе, оказывается, что Митридат уже «умирал», а потом «воскрес», по крайней мере для своих подданных. Может быть, именно поэтому царь видел особое покровительство Диониса по отношению к себе. Следует помнить при этом, что Дионис связывался с Фригией и Лидией – т. е. именно с теми местами, где Митридат тайно путешествовал, «умер» и «воскрес».
Войне с Римом предшествовала активная пропагандистская кампания Митридата: его послы и агенты действовали по всему Средиземноморью. О том, что они говорили и что называли официальной причиной войны, мы можем узнать и из рассказа Аппиана о посольстве Пелопида, из речи царя на военном совете в 88 г. до н. э. в Азии и по тому, как Архелай и Митридат обозначали официальную позицию Понта на переговорах с Суллой. Уточним: это не то, что царь говорил, – конечно, никто не вел стенограмм. Это то, что, по мнению античных авторов, он мог (должен?) был говорить. В речах Митридата и его друзей есть несколько основных линий.
С одной стороны, это было напоминание о том, что Рим представляет общую угрозу для всего Восточного Средиземноморья. С другой стороны – указание на военную мощь Митридата. С точки зрения понтийских политиков Римом движет только жадность. «То, в чем можно было бы упрекнуть большинство из вас, римляне, это – корыстолюбие», – обвиняет Митридат Суллу. Жадность и алчность – родовые качества Римского государства: «Основатели их государства, как сами они говорят, вскормлены сосцами волчицы. Поэтому у всего римского народа и души волчьи, ненасытные, вечно голодные, жадные до крови, власти и богатств», – говорит он своим офицерам в 88 г. до н. э. в Азии (Just. XXXVIII. 3, 8).
Жадности римлян он противопоставлял справедливость и щедрость наследственных царей. Щедрость и справедливость Митридата – альтернатива жадности и коварству его противников. Римляне, с его точки зрения, ставят своей целью искоренить сильных монархов, потому что боятся их: «Поистине римляне преследуют царей, не за проступки, а за силу их и могущество» (Just. XXXVIII. 6.1). В качестве примера он приводил коварство и неблагодарность по отношению к потомкам нумидийского царя Масиниссы, который помог разгромить Ганнибала и взять Карфаген. «Несмотря на то что этого Масиниссу считают третьим спасителем Города… с внуком [этого Масиниссы] римляне вели войну в Африке с такой беспощадностью, что, победив его, не оказали ему ни малейшего снисхождения, хотя бы в память его предка, заставив его испытать и темницу и позорное шествие за колесницей триумфатора» (Just. XXXVIII. 6,7). Аналогичным образом они оказались неблагодарны и наследнику своего единственного союзника на Востоке, пергамского царя Эвмена. Как можно догадаться, Митридат думал о себе и о своих наследниках. Несмотря на то что его отец помогал римлянам, считался другом и союзником римского народа, они организовали его убийство, а потом и нарушили свое обещание и отняли у Понта Фригию, которую цари уже считали своей. Впрочем, про убийство отца Митридат, конечно, не говорит – это невозможно доказать и это порочит его мать. Кроме того, Митридат думает о судьбе своего царства – сейчас, может быть, и можно избежать войны с Римом, но пройдет 10, 20, 30, 40 лет, и римляне все равно нападут: «Римляне вменили себе в закон ненавидеть всех царей».
Понятно, что все эти аргументы имели силу, только если были обращены к монархам. При обращении к греческим полисам (не говоря уже о рабах и метеках) они теряли свою убедительность. Итак, в рассказах римских и греческих авторов официальная пропаганда Митридата рисует его образ как могучего, справедливого и щедрого наследственного царя, который борется с жадными, корыстолюбивыми римлянами – республиканцами. Обратим внимание: в официальной пропаганде почти отсутствует пафос социального освобождения. Повторюсь: это не стенограмма речей оратора, это то, что думали античные авторы о словах Митридата.
20 Лет: между победой над Скифией и первой войной
Древние авторы считали, что присоединение Северного Причерноморья с самого начала мыслилось Митридатом в контексте подготовки войны с Римом. Об этом сообщает Страбон, который говорит, что правитель Понта «хотел стать во главе варваров, обитавших за перешейком вплоть до Борисфена и Адрия. Это были приготовления к походу на римлян» (Strabo. VII. IV. 3). С точки зрения великого географа, просьба Херсонеса о помощи в войне со скифами дала Митридату необходимый предлог для вмешательства. Впечатление, что так же понимал планы Митридата и Помпей Трог: «Понимая, какую серьезную войну он разжигает, разослал послов к кимврам, галлогрекам, сарматам и бастарнам с просьбой о помощи, [давно] замыслив войну с Римом, Митридат еще раньше сумел привлечь на свою сторону все эти племена разными знаками милости. Он приказал также прибыть войску из Скифии» (Just. XXXVIII, 3, 7). Следует заметить, что свидетельства двух разных, видимо, не зависимых друг от друга источников должно вызывать уважение.
Здесь мы сталкиваемся с серьезной исследовательской проблемой: действительно ли Митридат планировал борьбу с Римом с момента прихода к власти? Этот вывод в ХХ веке казался очевидным, но в последнее время у исследователей появились сомнения в правильности данного наблюдения. «Давая оценку политической ориентации Митридата VI и Тиграна II, сложно согласиться с нередко постулируемым положением об их изначально существовавшей антиримской позиции. Целью обоих царей было создание крупных держав, но по возможности они старались избежать столкновения с Римом. Изображение Митридата и Тиграна “прирожденными” римскими врагами является следствием ретроспективного анализа их ранней политики сквозь призму последующей борьбы с Римом, но объективный анализ первых этапов их политической деятельности такие оценки не подтверждает», – считает современный исследователь[66]. Неизбежность конфликта можно рассматривать с точки зрения и политики Понта, и политики Рима. Кажется, что позицию римлян А.Р. Панов описывает правильно: «Римляне не стремились приблизить войну, но в то же время были готовы к эскалации конфликта: окончательный выбор делала скорее другая сторона. Фактически римляне поставили обоих правителей перед альтернативой: остаются ли они в русле проримской политики либо решаются на борьбу с Римом. Предоставляемый выбор включал в себя либо добровольное признание римского превосходства, либо войну, в случае победы в которой римляне навязывали свое господство, но уже в более жесткой и грубой форме»[67].
Иное дело – анализ планов Митридата. Историки давно пытаются разобраться в хитросплетениях военно-политических конфликтов между 110 и 89 гг. до н. э. Споры вызывают и хронология событий, и мотивы, которыми руководствуются стороны. Видимо, в этом ключ к ответу на вопрос, входил ли изначально конфликт с Римом в планы Митридата, можно ли верить свидетельствам античных авторов. Сообщения Страбона и Помпея Трога вызывают сомнения прежде всего потому, что им противоречит очевидно осторожный характер борьбы Митридата за Каппадокию в 103—90 гг. до.н. э. Царь соершает атаку и тут же отступает при первом давлении римлян. Отсед
Попытаемся кратко разобраться в этих событиях. Как уже говорилось, где-то около 106 г. до н. э. он совершил путешествие в Азию и Вифинию, «намечая места боев с римлянами», то есть готовился к войне с врагом на Западе. Вслед за этим в 105 г. до н. э. он вместе с царем Вифинии Никомедом захватывает Пафлагонию[68].
А затем начинается затяжной конфликт вокруг Каппадокии. События развивались следующим образом. Понтийские правители давно воспринимали Каппадокию как свою сферу влияния. Митридат Эврегет выдал дочь за каппадокийского царя Ариарата VI и фактически осуществлял протекторат[69] над этой страной. Около 116 г. до н. э. в Каппадокии возник заговор, во главе которого стоял вельможа Гордий, и Ариарат VI был убит. Помпей Трог пишет, что «царя Каппадокии Ариарата, он [Митридат] еще раньше коварно умертвил при помощи Гордия» (Just. XXXVIII. 1, 1). У власти осталась его вдова Лаодика, которая правила как регент при малолетнем Ариарате VII. Около 103 г. до н. э. царица Лаодика (каппадокийская) заключила союз с царем Вифинии Никомедом III (вышла за него замуж), и в страну вошли вифинские войска. Ответным шагом Митридат изгнал их из страны и восстановил на престоле сына Лаодики Ариарата VII (своего племянника). Затем между ними произошел конфликт, который чуть не закончился войной. Но около 101 г. до н. э. Митридат убил племянника во время переговоров, и Каппадокия была оккупирована понтийцами[70], а на престоле оказался сын Митридата, получивший имя Ариарата IX. Реально страной управлял все тот же убийца Ариарата VII, пропонтийски настроенный вельможа Гордий[71].
Правление этой группировки вызвало вспышку гражданской войны, в которой проримская группировка выдвинула своего претендента на престол – Ариарата VIII (другого сына Ариарата VI), который воспитывался в Римской Азии. Митридат вмешался в этот конфликт: «Митридат начал войну и против него, одержал над ним победу и изгнал его из Каппадокийского царства. Вскоре после этого молодой человек с горя заболел и умер» (Just. XXXVIII. 2, 2).
На этом этапе в события прямо вмешались римляне, в Каппадокию приехал Марий. Плутарх рассказывает так об этом событии: «Ища возможностей для новых подвигов, он надеялся, что если ему удастся возмутить царей и подстрекнуть Митридата к войне, которую, как все подозревали, тот давно уже замышлял, то его выберут полководцем и он наполнит Рим славой новых триумфов, а свой дом – понтийской добычей и царскими богатствами. Поэтому, хотя Митридат принял его любезно и почтительно, Марий не смягчился и не стал уступчивее, но сказал царю: “Либо постарайся накопить больше сил, чем у римлян, либо молчи и делай, что тебе приказывают»[72]. На этом этапе Митридат уступил, его сын покинул Каппадокию, в стране были организованы выборы царя, на которых победил сторонник Рима – Ариобарзан Филоромей. В формулировке Помпея Трога это звучит так: «сенат назначил им царем Ариобарзана» (Just. XXXVIII. 2, 8). Это произошло около 99/98 г. до н. э.
Однако Митридат от борьбы не отказался. В 95 г. до н. э. на престоле Армении утвердился Тигран Великий. Понтийский царь заключил с ним союз, скрепленный династическим браком (дочь Митридата Клеопатра стала женой Тиграна). В 94 г. до н. э. Евпатор «при посредстве Гордия подбил Тиграна завязать войну с Ариобарзаном… При первом же появлении армии Тиграна Ариобарзан, захватив с собой свои сокровища, поспешил уехать в Рим. Таким образом, благодаря Тиграну Каппадокия снова оказалась под властью Митридата» (Just. XXXVIII. 3, 2–4). На этом этапе противостояния в 92/93 гг. до н. э.[73] снова происходит прямое вмешательство Рима. По свидетельству Плутарха, «Суллу посылают в Каппадокию, как было объявлено, чтобы вернуть туда Ариобарзана, а на деле – чтобы обуздать Митридата, который стал не в меру предприимчив и чуть ли не вдвое увеличил свое могущество и державу. Войско, которое Сулла привел с собою, было невелико, но с помощью ревностных союзников он, перебив много каппадокийцев и еще больше пришедших им на подмогу армян, изгнал Гордия и водворил на царство Ариобарзана» (Plut. Sulla. 5). Однако через год войска Митридата и армянские военачальники «Митраас и Благой выгнали из Каппадокии того Ариобарзана, который был водворен здесь римлянами, и посадили в ней Ариарата» (Арр. Mithr. 10). Римляне снова восстановили Ариобарзана на престоле Каппадокии (а Никомеда IV в Вифинии, см. ниже.), но не позже 89 г. до н. э. Митридат снова изгнал Ариобарзана (Арр. Mithr. 15).
С 94 г. до н. э. борьба за Каппадокию шла одновременно с гражданской войной в Вифинии. После смерти царя Никомеда III к власти пришел его внебрачный сын, Никомед IV, но Митридат подержал другого претендента на престол, тоже внебрачного сына Никомеда III–Cократа Хреста. При помощи понтийских войск Сократ овладел большей частью Вифинии, а Никомед IV бежал в Рим. Победа промитридатовых сил в Вифинии произошла одновременно с вторжением Митрааса и Благоя в Каппадокию и изгнанием Ариобарзана в 91 г. до н. э. В результате в руках Митридата оказалась большая часть Малой Азии и его владения вплотную приблизились к границами римской провинции Азия. Как уже говорилось, около 90 г. до н. э. римляне восстановили статус-кво и стали готовиться к вторжению в Понт.
Острожность, которую Митридат проявлял в борье за Каппадокию, отечественные исследователи объясняют его дальновидностью и стремлением с пропагандистскими целями, выставить себя жертвой римской агрессии[74]. В данном случае, мне кажется, важно обратить внимание на еще один аспект проблемы: причины, по которым Митридат начал борьбу за Каппадокию в 104 г. до н. э. Ответ на этот вопрос не такой очевидный, как может показаться. Античные авторы убеждены в экспансионистских планах Понта. Помпей Трог пишет, что «Митридат страстно жаждал завладеть» Каппадокией (Just. XXXVIII. 1, 1), а Аппиан дает понять, что Митридат продолжал политику своего отца, который «сделал вторжение в Каппадокию, как будто это была чужая земля» (Арр. Mithr. 10). Так же рассуждают и современные историки. Сапрыкин пишет о стремлении понтийских царей добиться «выполнения главной исторической миссии династии Митридатидов – реставрации в полном объеме всех наследственных владений предков Отанидов и Ахеменидов в Малой Азии»[75].
Может быть, это и правильно, но кажутся странными некоторые обстоятельства. Начнем с вопроса о времени и обстоятельствах убийства Ариарата VI. В отечественной историографии почти не ставится под сомнение причастность Митридата к этому убийству. Бикерман датировал смерть Ариарата VI – 111 г. до н. э.[76] – в этом случае можно говорить о возможном участии царя Понта в заговоре. Однако, опираясь на нумизматический материал, исследователи определили дату убийства Ариарата VI – 116 г. до н. э.[77] Дело в том, что известны монеты 15 года его правления, и так как он вступил на престол в 131 г. до н. э., то последний год его жизни – 116 г. до н. э. Это сразу вызывает логическое противоречие – в этот период Митридат Евпатор еще не мог определять политику Понта, а в Синопе до 113 г. до н. э. правила Лаодика Старшая. Учитывая это обстоятельство, Сапрыкин предлагает считать датой смерти Эврегета 123 г. до н. э., а приход Митридата VI к власти датировать 117 г. до н. э.[78] Есть, правда, и другая возможность – усомниться в свидетельстве Помпея Трога о причастности к убийству Ариарата именно Митридата[79], и предположить, что каппадокийская Лаодика, по разным причинам, решила следовать примеру матери, Лаодики Старшей, и избавиться от мужа. Если мы откажемся от хронологии С.Ю. Сапрыкина и вслед за Е.А. Молевым[80], О.Л. Габелко[81] и К.Л. Гуленковым[82] будем считать, что Митридат пришел к власти около 120 г. до н. э., то надо так и сделать. Но в этом случае мы не увидим никакой изначально экспансионистской политики Митридата по отношению к Каппадокии.
Но главное другое. Около 106 г. до н. э., как уже говорилось, Митридат совершает поездку в Азию и Вифинию, и это вписывается в его гипотетические планы по борьбе с Римом. Затем понтийский и вифинский цари вместе захватывают Пафлагонию, что также вписывается в общий замысел Митридата – движения на запад, к Фригии и проливам. И попытка Митридата в 91 г. до н. э. посадить на престол Вифинии своего ставленника, Хреста, тоже кажется логичной. Но вот длившийся более 10 лет конфликт вокруг Каппадокии не совсем согласуется с этим курсом. Борьба отвлекала на себя много времени и сил, и, на первый взгляд, непонятно, что она давала Митридату. Пока римляне контролируют Азию и Киликию, прочный контроль понтийцев за Каппадокией все равно невозможен, а изгнание римлян из Азии неизбежно приведет к обладанию и этой страной.
Кажется, что Митридат понимал это – вторжение понтийцев в Каппадокию произошло, только после того как царица этой страны неожиданно заключила союз с Никомедом. Во-первых, это означало, что «друг Рима» царь Вифинии разорвал соглашение с Понтом, которое было у него в 106–104 гг. до н. э. Во-вторых, фактически это нарушало сформировавшееся к тому времени разделение сфер влияния. Иными словами, получается, что конфликт за Каппадокию начал не Митридат, а Никомед III и Лаодика. В чем реальная причина этого конфликта? О.Л. Габелко предполагает, что каппадокийская царица, с одной стороны, руководствовалась нежеланием допустить окончательное подчинение своей страны Понту, а с другой – опасалась за свою личную судьбу, страх «ей могла внушить чрезвычайная жестокость Митридата в отношении своих близких» (к тому времени он убил свою мать, брата и жену)[83]. Собственно, исследователь в данном случае идет вслед за Помпеем Трогом, который пишет, что «Митридат, начав со злодейского убийства жены, решил, что необходимо уничтожить сыновей другой своей сестры, тоже Лаодики», жены царя Каппадокии Ариарата (Just. XXXVIII. 1,1).
В принципе это возможно, но следует помнить, что все эти убийства – по всей видимости, результат борьбы в Синопе между проримской и антиримской группировками, о чем сам же Помпей Трог и сообщал (Just. XXXVII. 2,4; 3.7). Получается поэтому, что, выстраивая связь между этими событиями в Синопе и союзом Лаодики с Никомедом III, мы вынуждены признать, что и выступление царицы Каппадокии против своего брата – часть более общего конфликта в этой семье между сторонниками и противниками Рима. Если сказать точнее, то это отражение политической борьбы в правящих кругах и Понта, и Каппадокии, и Вифинии, и причина этого конфликта – в том, что курс Митридата на подготовку к войне с Римом должен был вызвать размежевание в политических элитах государств Малой Азии. Только так можно объяснить, почему царь Понта оказался втянут в борьбу за Каппадокию, в которой он первоначально не участвовал.
Перед началом войны царю удалось заключить союз с Тиграном: «Узнав об этом, Митридат заключил с Тиграном союз, намереваясь вести войну против римлян. Союзники договорились между собой, что города и сельские местности достанутся Митридату, а пленники и все, что можно увезти с собой, – Тиграну» (Just. XXXVIII. 3,7). «Другом Митридата» Пелопид признает и царя Парфии Аршака. Кроме того, было хорошо известно о планах заключить союз с Птолемеями и Селевкидами: «царям Египта и Сирии он все время посылает посольства, старясь привлечь их на свою сторону». Как известно, его дочери были просватаны за царей Египта и Кипра. В апокрифическом письме Митридата Аршаку Саллюстий пишет о союзе понтийцев и критян. Наконец, известно о союзе Митридата с фракийцами и бастранами. Иными словами, «Митридат подготовил к боям против Рима весь Восток».
Первая война
Компания 89–88 года до Н.Э
Ход Первой Митридатовой войны подробно описан Плутархом и Аппианом. Последний рассказывает, что к началу Первой войны у Митридата «его собственного войска было 250 000 и 40 000 всадников» (Арр. Mithr. 17). Кроме того, вспомогательные войска привел к нему сын самого Митридата Аркафий из Малой Армении – 10 000 всадников и Дорилай… выстроенных в фаланги, а Кратер – 130 боевых колесниц» (Арр. Mithr. 17)[84].
Противники Понта собирали войско из «Вифинии, Каппадокии, Пафлагонии и из галатов, живших в Азии», в результате они были разделены на три корпуса, которыми командовали три римских полководца: «Кассий [стоял] в середине Вифинии и Галатии, Маний – там, где Митридату был наиболее легкий путь вторжения в Вифинию, а Оппий, второй военачальник, – у границ Каппадокии, имея каждый из них по 4000 всадников и пехоты около 40 000». Кроме того, у вифинского царя Никомеда (союзника Рима) было 50 000 пеших и 6000 всадников (Арр. Mithr. 17). Иными словами, всего 170 тыс. пехоты и 18 тыс. конницы.
Трудно понять планы римских полководцев. Решения римляне принимали спокойно и дефицита времени не испытывали: «Когда у них их собственное войско, которое было у Люция Кассия, правителя Азии, было уже готово и собрались все союзные войска, они разделили всю массу солдат и стали тремя лагерями» (Арр. Mithr. 17). С одной стороны год назад вифинские войска уже вторгались в Понт, и Митридат отступил без боя – можно было ожидать, что он сейчас прибегнет к той же тактике, тем более что официально война сенатом и народным собранием еще не была объявлена. В этом случае можно предполагать, что Никомед и Маний планировали нанести главный удар, а армия Кассия – наносить удар по Понту с фланга. Оппий должен был очистить Каппадокию от войск сына Митридата Ариарата, который к тому времени снова захватил эту страну.
Учитывал ли этот план возможность, что Митридат перейдет в наступление первым? Текст Аппиана допускает такую возможность: Маний стоял «там, где Митридату был наиболее легкий путь вторжения в Вифинию». Мемнон утверждает, что главные силы понтийцев, расположеные на равнине около Амасии, были нацелены на вторжение через Пафлагонию (Memn. XXXI. 1). В этом случае расположение римских войск кажется ошибкой: они разделили свои силы перед превосходящей армией противника. А было ли у понтийских полководцев численное превосходство? Римские авторы описывают полчища Митридата, но это всегда вызывало сомнение: нет ли здесь преувеличения?

