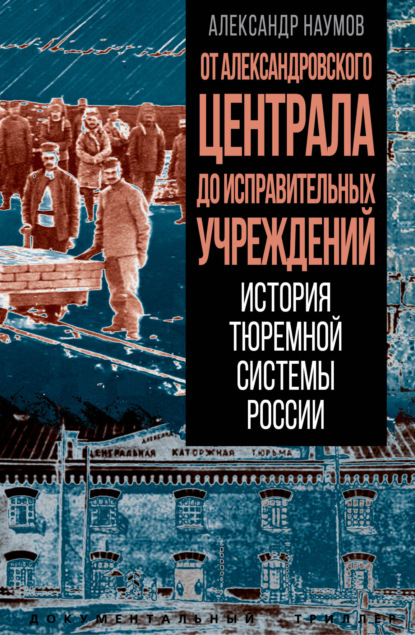
Полная версия:
От Александровского централа до исправительных учреждений. История тюремной системы России
Прислуга при больных состоит из особо избранных арестантов Александровской центральной каторжной тюрьмы…
б) Александровская центральная пересыльная тюрьма. Находится также в сел. Александровском.
Тюрьма эта построена в 1888 году, по расчету на 684 человека.
Здания тюрьмы находятся вообще в порядке; но в них требуется произвести капитального ремонта…
При первых осмотрах названной тюрьмы таковая оказалась в следующем состоянии:
Внутри пяти мужских бараков невсегда соблюдалась полная чистота.
Баня и смена белья назначались через две недели, а потому и белье на арестантах не имело достаточной чистоты.
Хлеб хотя и выпекался хороший, но припека показывалось менее 18 фунтов на пуд. Мука при одном из осмотров была найдена неудовлетворительного качества и до 100 пудов ее было забраковано.
Новая и старая одежда хранилась не в должном порядке. Приход и расход ее за некоторые месяцы не был закончен и, вообще, велся недостаточно аккуратно, и, как видно со стороны комитета тюрьмы не было обнаружено в полной мере должного участия и контроля в этом деле; почему явилось необходимым тогда же произвести точное удостоверение о той и другой одежде, с участием особо командированного чиновника от Тюремного Отделения. Кроме небрежности, никаких злоупотреблений не обнаружено. Губернский Тюремный Инспектор лично прекратил замеченные непорядки и при вновь назначенном начальнике тюрьмы, коллежском асессоре Попрядухине, дело пошло лучше и количество припека достигло общепринятого в тюрьмах Иркутской губернии размера – 18 ф.
Тюремные здания вообще, службы и дворы при них содержатся в большом порядке… Внутри женского отделения чисто и лучше, чем в мужских бараках; но это следует отнести более к личным заботам содержащихся там пересыльных женщин, чем к надзору. Надзирательницы на дежурстве находились только днем и не ночевали в указанном месте.
Все перечисленные недостатки, по мере возможности, были устранены и в этом отношении установился должный порядок.
По ходатайству священника Александровской каторжной тюрьмы и с разрешения г. Иркутского Губернатора, в конце минувшего года часть одной из незанятых камер пересыльной тюрьмы приспособлена для совершения в ней Богослужений…
в) Иркутский тюремный замок. Здания этого замка построены: а) главный корпус – в 1861 г.; б) больничные – в 1889 и 1894 гг.; в) прачечная – в 1889 г.; г) два пересыльных барака – в 1892 г.; д) баня – в 1892 году и е) здание для приема арестантских партий – в 1893 году.
Тюрьма построена по расчету на 700 человек.
После произведенного в 1896 и 1897 гг. ремонта некоторых частей здания этого замка они находятся в общем порядке, что было засвидетельствовано и г. Министром во время посещения Его Высокопревосходительством этой тюрьмы в лето отчетного года…
Больница находится в очень удовлетворительном состоянии.
Женское отделение содержалось очень чисто и в благоустроенном виде.
Надзиратели службу знают и обмундированы хорошо.
В наружном и внутреннем устройстве этого места заключения в истекшем году наступили значительные улучшения, благодаря особому служебному усердию и знанию дела вновь назначенного смотрителем замка губернского секретаря Комарова.
г) Балаганский тюремный замок. Построен в 1890–1893 гг. на 80 человек и находится в 247,1/4 верстах от Иркутска, с которым соединяется частично почтовою, частично проселочною дорогою, по двум трактам.
При осмотре замка, в феврале, в бытность смотрителем его надворного советника Кубасова, обнаружены значительные неисправности и непорядки. Белье выдавалось редко и перемывалось во время бани, через две недели, носившими его арестантами. Среди арестантов обнаружено самоуправство и своеволье, срочные были обижаемы и эксплуатируемы подсудимыми. Смотритель Кубасов мало касался управления замком и его во всем почти заменял старший надзиратель, дозволявший себе даже некоторые злоупотребления. Прочие надзиратели служебного навыка не имели, к своим обязанностям относились безучастно…
Тюремная больница находилась в заведовании окружного врача. Содержалась грязновато; белье неопрятно, менялось нерегулярно и редко; ванна почти постоянно чинилась и давалась поэтому редко; пища плоха; ухода за больными мало – служитель один. По причине постоянных раздоров, врач посещал больницу редко; фельдшер бывал каждый день, больные им очень довольны.
О найденных беспорядках было доложено г. Губернатору и к устранению их были приняты необходимые меры. Вместо г. Кубасова, смотрителем назначен состоящий в запасе армии подполковник Цитович, который в течение короткого времени постарался привести тюремный замок в более лучший и исправный вид, в котором и найден был замок, при осмотре его г. Губернатором в сопровождении Тюремного Инспектора, в конце сентября. Но затем, как о том было донесено Балаганским Окружным Исправником, в тюрьме этой, в главном корпусе ее, в ретираде больничного помещения, 3 декабря 1897 г., в 12 часов дня, показался дым и затем, несмотря на все усилия тюремной администрации, полиции и некоторых частных лиц, здание этого корпуса сгорело до основания. Удалось отстоять здания: бани с продуктовым амбаром и кухни, находящиеся в одном дворе с главным корпусом, а также окружающая этот двор пали, при чем в последних незначительно повреждена часть по заднему фасу; затем остался совершенно нетронутым находящийся на другом дворе административный корпус с помещением для военного конвоя. По предположению смотрителя тюрьмы, пожар произошел от трещины, образовавшейся в печной трубе, проходящей из помещения выносных сосудов через оба этажа между полом и потолком 1‑го и 2‑го этажей, что впоследствии и подтвердилось.
В виду опасности и неудобства содержать арестантов в уцелевших постройках тюрьмы и по соглашению с подлежащими властями, все подсудимые арестанты переведены в Иркутский тюремный замок, а срочные: часть в Александровскую центральную каторжную тюрьму, а часть в Нижнеудинский тюремный замок.
д) Нижнеудинский тюремный замок. Тюрьма эта построена в 1890–1892 гг., предназначена для помещения в ней 225 арестантов и находится в 483,3/4 верстах от Иркутска по московскому тракту.
После уничтожения пожаром здания пересыльной тюрьмы в 1892 г., арестанты этой категории помещаются вместе с остальными в другом корпусе, предназначавшемся для срочных арестантов; но, в виду кратковременного пребывания пересыльных в гор. Нижнеудинске и малочисленности срочных арестантов, от такого размещения, за редкими случаями, при усиленном движении арестантских партий, не встречается ни особой тесноты, ни других неудобств.
Для женщин имеется особая тюрьма.
Хотя общий вид тюремных камер немного мрачен и в камерах мало света, но это следует отнести к неудачному расположению зданий и устройству несоответственного размера окон.
Здания тюрьмы, в общем, находятся в порядке…
Все арестантские помещения, при осмотре их, оказались содержимыми в большом порядке и чистоте, особенно женская тюрьма.
Белье на всех сравнительно чистое, хотя баня и перемена белья даются через две недели.
Кухня, хлебопекарня и проч. здания найдены в порядке и хорошем состоянии. Ретирадные места, насколько возможно, улучшены, не запускаются и содержатся хорошо.
Состав надзирателей довольно хорош, обмундированы они удовлетворительно и службу знают.
Арестанты имеют здоровый вид и достаточно дисциплинированы.
Пища очень удовлетворительна, а хлеб хорош, выпекается с припеком в 18 фунтов.
Устроена камера для работ и видны уже начинания в этом отношении…
При тюремном замке имеется огород, возделываемый трудом арестантов. Урожай капусты и картофеля получен хотя средний, но, в общем, достаточный для обеспечения этими овощами тюремного населения на всю зиму.
Трудом арестантов заготовлялись дрова до 750 саж., для тюремных зданий и городской больницы.
Занимаемое ныне тюремною больницею помещение пришло в совершенную ветхость, неподдающуюся какому бы то ни было ремонту, и дальнейшее пребывание в нем больных является не безопасным; нанять же для больницы временно какое-либо частное помещение не представляется положительно никакой возможности, за отсутствием в Нижнеудинске подходящих для этого домов.
Пища, хлеб, квас и содержание больных вообще удовлетворительны.
Белье, одежда и обувь стары, но в порядке и не загрязнены.
Претензий больными не заявлено.
Как врач, так и смотритель, очевидно, заинтересованы своими обязанностями и относят их усердно и внимательно.
е) Киренский тюремный замок. Тюрьма эта после пожара, бывшего в г. Киренске 31 июля 1891 г., уничтожившего здание подсудимых арестантов на 60 человек, вместе с церковью, помещается теперь в уцелевшем от пожара новом пересыльном доме, приспособленном на 50 человек (построен в 1884–1886 г.г.) и в арендованном у Городского Управления общественном доме, где содержатся срочные и пересыльные арестанты; а в старом пересыльном доме расположены: хлебопекарня, кухня, женская камера, тюремная контора, надзирательская и кладовая для припасов. Особой больницы при тюремном замке не существует; арестантов посещает три раза в неделю городской врач. Заболевающим арестантам отпускаются лекарства из аптеки Киренской гражданской больницы, а трудно-больные отправляются на излечение в эту больницу, с платою за их лечение по табели, ежегодно утверждаемой Министерством Внутренних Дел.
В виду ветхости и маловместительности уцелевших от пожара зданий, признано необходимым построить новую тюрьму…
Тюрьма находится в 1028 верстах от Иркутска, по якутскому почтовому тракту. Сообщение: летом от Иркутска до Жигалова на лошадях, а от Жигалова до Киренска на почтовых лодках по р. Лене; зимой на лошадях: от Иркутска до Качуга – грунтовой дорогой, а от Качуга до Киренска – по р. Лене.
В изложенном обозрении тюрем особенно обращают на себя внимание упомянутые три случая пожаров тюрем в недавнем времени. Все они произошли в тюрьмах деревянных, что и указывает прежде всего на опасность постройки этих зданий из дерева, а затем два пожара – в гг. Нижнеудинске и Киренске – совпадают с наибольшим скоплением там арестантов, впоследствии чего до крайней степени затруднялся надзор за тюрьмами и содержащимися в них арестантами для весьма недостаточного числа состоящих при тюрьмах надзирателей. Последнее явление составляет один из преобладающих недостатков во всех тюрьмах губернии и должен быть устранен в возможно ближайшем будущем.
Число этих надзирателей, будучи крайне малым само по себе, и в отношении к числу содержащихся в тюрьмах арестантов в особенности, еще более обращает внимание не в свою пользу от сравнения с некоторыми тюрьмами не только Европейских губерний, но и в Восточной и Западной Сибири».
О характере преступлений, за которые попадали в тюрьмы Восточной Сибири, говорят следующие цифры. В 1897 году в местах заключения Иркутской губернии было вновь прибывших ссыльных, осужденных:
за убийство и покушение на убийство – 172
разбой – 63
грабеж – 183
поджог – 47
конокрадство – 53
подделку денег – 21
святотатство – 31
кражи – 325
кражи шайкою и организацию шаек – 60
дурное поведение – 25
побеги из Сибири – 26
мошенничество – 2
вымогательство – 2
двоеженство – 3
растление и изнасилование – 127
покушение на увоз девицы – 6
подлог – 12
оскорбление власти – 9
побеги из военной службы – 23
побеги из-под стражи – 15
побои, истязания – 44
скрытые убийства – 4
лжесвидетельство – 2
лжедонос – 2
мужеложество – 1
беспорядки во время холеры – 7
распространение вредных слухов – 1
распространение ереси – 1
работорговлю – 1
бродяжничество – 99
Администрацией тюрем в течение уже нескольких лет принимались самые энергичные меры к возможному расширению арестантских работ. Заключенные Александровской центральной каторжной тюрьмы шили арестантскую одежду и обувь для всех мест заключения Иркутской губернии и Якутии. В мастерских Иркутского тюремного замка арестанты занимались портняжными, картонажными, столярными, кузнечными, переплетными и сапожными работами. Обитателей Балаганского и Нижнеудинского тюремных замков привлекали «возделывать огороды, и получаемые с них продукты вполне удовлетворяют собственные потребности поименованных замков».
Кроме того, арестантов использовали как наемную рабочую силу.
«В заводы: Иркутский и Устькутский солеваренные, находящиеся в ведении казны, и Николаевский железоделательный, перешедший во владение сперва потомственного почетного гражданина С. Мамонтова, а затем акционерной Ко, для воспособления вольнорабочему труду, отпускаются арестанты разных категорий из Александровской центральной каторжной тюрьмы.
Управление и снабжение арестантов, находящихся на означенных работах, установленными видами довольствия производится: в солеваренных заводах – согласно тюремному положению, а в Николаевском – на основании особой инструкции, утвержденной г. Иркутским Генерал-Губернатором, применительно правилам, указанным Его Высокопревосходительством, для работавших на постройке железной дороги арестантов.
Заработную плату на Николаевском заводе арестанты получают наравне с вольнонаемными рабочими, а на солеваренных – по усмотрению горного ведомства, при чем каких-либо отчислений из этой платы ни в пользу казны, ни в пользу тюрьмы нигде не делается, с целью повысить получаемую рабочими плату и увеличить таким путем с их стороны стремление к труду и посильному исправлению.
Все это вместе взятое, в отношении к Николаевскому заводу, дает надежду, что отправленные туда ссыльно-каторжные, по всем вероятиям, принесут заводу требуемую пользу; в то же время они, получив для себя верный и постоянный заработок в лучших условиях быта и жизни на заводе, а также в уповании на смягчение своей участи, будут иметь полную возможность и стремление исправиться и в будущем времени примкнут к числу мирных и трудящихся людей».
Глава пятая
Немецкий шпион для немецкого журналиста. – Кем был Сухомлинский? – Советы Карнеги для русских зэков. – Полковник, выстреливший в потолок. – Козел в кабинете майора. – Убийца, научившийся рисовать. – А в КГБ читают «Шпигель»?Среди осужденных Иркутской области проводится конкурс «Искусство за колючей проволокой имеет право на жизнь». Инициатор мероприятия – главк, спустивший на места бумагу – положение о конкурсе.
В мой кабинет заглядывает заместитель начальника отдела по воспитательной работе среди осужденных Юрий Михно.
– Александр Викторович, если есть желание посмотреть на работы, которые мы представим на выставку, то милости просим в наш кабинет – из колоний прислали первые картины и поделки. Очень интересные работы. Советую посмотреть, – и сделав паузу, добавил. – Кстати, как насчет журналистов?
– Каких журналистов?
– Ну… мы будем приглашать прессу? Освещать мероприятие…
Поднимаюсь на этаж выше, в отдел воспитательной работы. Начальник отдела Александр Плахотин задумчиво разглядывает окно, открывающее вид на крышу конференц-зала ГУИН. Вокруг, на столах, стульях и даже на полу громоздятся картины в массивных рамках. Увидев меня, хозяин кабинета оживляется.
– Вот смотри, Александр Викторович, какая большая работа предстоит жюри: из всех этих картин нужно выбрать три лучшие, которые отправятся на всероссийский конкурс в Рязань. Лично мне нравится вот этот пейзаж. Зимний лес, сугробы, поляна, на которой стоит одинокое дерево. И вдалеке – сам лес. Посмотри, какую тень отбрасывает это одинокое дерево – слишком большую, широкую тень, какой в природе не бывает. А ведь это, я думаю, аллегория: в этой картине осужденный показал свою собственную жизнь, свою судьбу, и то, что ожидает его впереди. Это дерево – он сам. Стоит-растет один на поляне – попал в колонию, где каждый сам за себя. Жирная тень – черная полоса его жизни. А что его ждет? Синее небо – смотри, сколько места оно занимает в картине: почти половину полотна.
– Синее небо? В каком смысле.
– В самом прямом. Ну ладно, не буду интриговать. Все гораздо проще, – еще раз глянув на картину, он обронил, – проще и сложнее одновременно. Я знаю, что дни человека, который написал эту картину, сочтены. Это осужденный из колонии-больницы для туберкулезников. Как мне позвонили и сказали, у него уже разлагаются легкие… он в палате смертников. Ему осталось жить всего несколько дней. Может быть, мы вот стоим, рассматриваем его картину, а он уже…
Я внимательно посмотрел на Плахотина, который никогда не отличался сентиментальностью.
– Смотри, сколько здесь картин, – продолжил он, – и по каждой из них можно узнать, за что сидит ее автор. Даже сколько осталось ему отсидеть – тоже можно узнать. Ну вот, например, болото с редким лесом, вдали – горы. Горы – это большой срок. Небо в тучах – значит, ничего хорошего этот осужденный от жизни уже не ждет. По крайней мере, в ближайшие годы.
– А что ты скажешь про эту картину?
– Про натюрморт? Виноград, бананы на фоне вазы. И длинные шторы, скрывающие окно. Гм… занятно. Занятно то, что эту картинку прислали из тулунской тюрьмы. А я на сто процентов уверен, что человек, отбывающий срок в тюрьме, будет думать о чем угодно, но только не о винограде. Возможно, он думает о еде. Хорошо, согласен. Но виноград – а здесь нарисована крупная, на полкартины гроздь – виноград-то – это не еда. Виноградом не наешься. Наешься другой, более приземленной пищей. Так что я полагаю, автор картины скорее срисовал ее откуда-то. А думает он на самом деле о чем-то другом.
Дверь, скрипнув в петлях, впустила в недра кабинета воспитательной работы очередного посетителя.
– Проходи, Генрих Иванович. Что у тебя там? Картина? Ты не первый сегодня, вон смотри, сколько нам за день принесли уже.
Посмотрев в мою сторону, Плахотин пояснил:
– Вот с третьей колонии человек приехал – тоже представляют на конкурс полотно, – и уже обращаясь к представителю колонии, он спросил. – Кто у вас там рисовал?
– У нас в колонии один художник…
– Этот, что ли… ну, я понял. Так он как у вас рисует – срисовывает откуда?
– У него слайды есть. С пейзажами.
– Понятно. Слушай, Генрих Иванович, очень хорошо, что ты к нам зашел. А я хотел тебя увидеть вот по какому поводу. Ты случайно не подскажешь: ваша колония недавно не посылала некоего осужденного Барабанова заготавливать в Красноярский край сельхозпродукты для колонии?
– Осужденного? На заготовку? Да нет, никого мы никуда не посылали.
– Я так и думал. Значит, не посылали?
– Конечно, нет. Мы еще не рехнулись, чтобы зэков на заготовки отправлять.
– А этот Барабанов… он, случайно, не бывший мэр. Какого-то города в Красноярском крае?
– Есть такой. Был мэром. Сидит за заказное убийство. А в чем вопрос-то?
– В том и вопрос, что вот передо мной на столе письмо из Красноярского края. Написал его… впрочем, послушай, вот что он пишет: «В ГУИН по Иркутской области. Хочу довести до вашего сведения, что на днях в наш город приезжал бывший мэр Барабанов, который отбывает наказание в одной из колоний Иркутской области. Встретив его на улице, я удивился и поинтересовался, как он здесь оказался и что делает в городе. На что Барабанов ответил, что он был делегирован сюда колонией и приехал решать вопросы обеспечения исправительного учреждения сельхозпродукцией, выращиваемой в нашем районе. Поэтому хочу спросить: как могло такое случиться, что заготовкой сельхозпродукции занимаются осужденные, такие как Барабанов. С каких это пор их так свободно выпускают за колючую проволоку, где они должны отбывать наказание до окончания срока? И еще хочу сообщить о том, что на самом деле Барабанов никакую заготовку сельхозпродуктов в нашем городе не проводил. А вместо этого он собрал здесь свою братву и стал решать вопрос: как быстрее ему выйти из колонии. Для этого они решили фальсифицировать справку о якобы тяжелом заболевании Барабанова, которую он увез в колонию. Прошу проверить все сообщенные мною факты. Полковник КГБ на пенсии Фоменко».
Закончив цитировать, майор Плахотин с улыбкой посмотрел на собеседника. В ответ последний развел руками.
– В свой город Барабанов ездил на законных основаниях. За примерное поведение заслужил отпуск. Но никак не на заготовку сельхозпродуктов он ездил.
– Ну, понятно… Приехал на родину, встретил на улице отставного полковника КГБ. Тот, видимо, еще старой закалки: почему да отчего, и дескать – тебе сидеть еще и сидеть. Сразу за ручку и бумагу, которые у него, наверное, всегда при себе. А тот возьми и ляпни: приехал, мол, на заготовки. Кхе-кхе… А вот другой вопрос, действительно, серьезный: какую такую справку он привез с собой?
– Ни о какой справке не слышал.
– Надо узнать, Генрих Иванович.
– Узнаю.
Еще раз окинув взглядом картины, я вышел из кабинета. Спускаясь на свой этаж, я вдруг вспомнил, где еще раньше слышал про этого Барабанова. С бывшим мэром встречался московский корреспондент журнала «Шпигель» Уве Клуссманн. Немецкий журналист прибыл в Иркутск на два дня – специально для посещения колонии № 3. В ней отбывают наказание только бывшие сотрудники госаппарата и силовых структур. До недавнего времени иркутская колония № 3 являлась в стране единственным исправительным учреждением, где отбывали свои сроки такие осужденные. В конце 1990‑х годов где-то на западе России создали еще три колонии для госслужащих, но все три – общего режима, куда отправляют за менее тяжкие преступления. Колония в Иркутске – строго режима. Сюда попадают на длительные срока.
Поэтому интерес представителей доморощенной и зарубежной прессы к иркутской колонии вполне объясним. В тот день Уве Клуссманн, пройдя кордон из стальных дверей, оказавшись наконец на территории исправительного учреждения, задал мне вопрос о Сухомлинском.
– Кто это такой?
На фасаде одного из корпусов крепился огромный плакат, поучавший осужденных, как надо жить, и подпись под текстом: «Сухомлинский».
– Дзержинского знаю, а вот Сухомлинского – нет, – развел руками немец.
– Это педагог, воспитатель.
Немецкий журналист вполне понятно говорит по-русски, поэтому общается без переводчика. Оглядевшись, он нашел новый плакат, заинтересовавший его.
– «Как стать настоящим человеком», – прочитал Уве, разглядывая с десяток пунктов-рекомендаций.
Достав блокнот, он пробормотал:
– Это очень интересно. Надо записать. Кстати, а кто автор уже этого плаката?
– Дейл Карнеги, – подхватил вопрос заместитель начальника колонии Александр Иванович Ильин.
– Кто-кто? – переспросил корреспондент.
– Карнеги. Дейл, – уже с паузой, опять ответил Ильин. – Знаете такого?
Поднявшись по крутой лестнице, мы зашли в библиотеку. За стойкой на выдаче книг стоял среднерослый осужденный в черной робе с нашитой на груди биркой.
– А что читают? – поинтересовался иностранец.
– Да что читают… про самих себя читают! «Записки из мертвого дома» – вот что читают, – опять отозвался Ильин.
Выйдя из библиотеки, зашли в молельную комнату, потом в один из отрядов, затем – в столовую.
Когда «экскурсия» по недрам исправительного заведения подошла к концу, начальник колонии Валентин Иванович Степанченко распорядился привести кого-нибудь из осужденных.
– Разговаривать с ними будете? Как живут здесь, нет ли жалоб у них?
Журналист кивнул головой.
– Ну, хорошо, тогда ты, – и полковник обратился к стоявшему рядом сотруднику, – приведи… гм, знаешь кого приведи… там у нас два бывших мэра сидят – их веди, и еще одного приведи…
Полковник назвал фамилию.
Спустя пять минут в тесное помещение зашли трое осужденных. Сели на скамью, напротив – журналист.
– Можно я вас расспрошу, – начинает Уве, – вот вы, например, как сюда попали?
Сидящий по левую руку от журналиста осужденный нехотя отвечает:
– За утечку информации.
– А где вы работали?
– В ФАПСИ.
– Это федеральное агентство правительственной связи? Правильно я понял? Вы там работали?
– Да, именно там.
– А куда утекала информация?
– В БНД.
– В БНД? В разведслужбу эФ-эР-Гэ?
– Совершенно верно.
Ошалев от того, что перед ним сидит немецкий шпион, корреспондент «Шпигеля» решается произнести то, о чем он думает в этот момент, вслух:
– Значит, вы – немецкий шпион!
– По приговору суда – да.
Уве Клуссманн переводит дух, собираясь с мыслями. Для немецкого журналиста встретить в русской колонии немецкого шпиона – настоящая удача.
– А вы по национальности… кто? – продолжает интервью корреспондент.
– Русский.
– А в Германии бывали?
– Я родился там.
– О, неужели?
– Да, я жил в Германии. До девяти лет. Вместе с родителями.
– А с какого вы года рождения?
– Сорок девятого.
– Ваш отец был военный?



