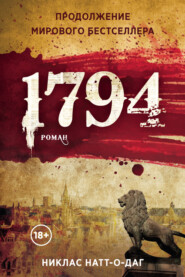
Полная версия:
1794
Обстоятельства моего рождения наложили тяжелый и никогда не преодоленный отпечаток на отношения с отцом. Ему вполне хватало одного наследника, к тому же он себя убедил, что слишком стар для нового отцовства. Подозреваю, что каждый раз, когда я попадался ему на глаза, он вспоминал: это ведь я, никто иной, именно я лишил его любимой супруги, с которой он рассчитывал счастливо провести остаток дней. А может быть, я казался ему начисто лишенным важных достоинств. В седле держался еле-еле, на охоте стрелял из рук вон плохо, умудрялся промазать даже с близкого расстояния. А попытка скрестить клинки с учителем на уроках фехтования всегда кончалась одним и тем же: шпага вылетала у меня из рук. Вдобавок рос я очень болезненным мальчиком, кашель сменялся лихорадкой. Какие там атлетические достижения! Даже если бы я очень захотел, они были мне недоступны.
Воспитание мое целиком передоверили домашнему учителю, но когда заканчивался заполненный скучными, а иногда и мучительными обязанностями день, я был предоставлен самому себе. Дом засыпал, а я вставал и выходил на лестничную площадку: в сотый, а может, и в тысячный раз посмотреть, что потерял. Там висел портрет матери. Мне много раз говорили: ты на нее похож. Я приносил табуретку, осторожно снимал тяжелое зеркало, ставил его под портретом и сравнивал, пытался уловить ее черты в моих. Ставил канделябр так и эдак… удивительная штука – свет! Чуть опустил свечу – и сразу заметно несомненное сходство надбровных дуг. Отвел в сторону – оказывается, линия скул точно такая, как у матери.
Брат записался в армию, когда мне едва стукнуло одиннадцать. Отец очень тяжело воспринял разлуку с любимцем. Они и в самом деле были очень близки. Все время, оставшееся до отъезда, занимались охотой, конными прогулками и стрельбой в цель – занятия, в которых я не мог принимать участия по причине возраста и врожденной неловкости.
Брат уехал, и отец перестал улыбаться. Не могу припомнить, чтобы он хоть раз улыбнулся – разве что когда брат приезжал на побывку. Совершенно замкнулся. Я старался не встречаться с отцом. Я попросту боялся его, и страх этот со временем не проходил. Скорее нарастал. Он начал искать утешение в винном погребке. Изредка, правда, вспоминал про отцовский долг – в тех случаях, когда считал необходимым выпороть меня за провинность. За нарушение какого-нибудь из многочисленных правил, принятых в Тре Русур. После порки он на несколько дней становился мягче, но для меня это было слабым утешением; я плакал горькими слезами. Не столько от боли, сколько от унижения. И отдалялся от него все больше и больше.
На Пасху в тот год отец пригласил друзей, знакомых и самых крупных арендаторов – впервые после смерти жены. Решил, как я теперь понимаю, сделать последнюю попытку скрасить одиночество и надвигающуюся старость. Давно, а может быть, никогда не видел я его таким веселым. Но продолжалось оживление недолго. Из полка, где служил Юнас, пришло письмо: именно в пасхальные дни отпустить его на побывку никак невозможно.
И все. Отцовскую радость и энтузиазм как рукой сняло. Искра погасла, не успев разгореться. Охотнее всего он отменил бы пир, но приглашения уже разосланы, деваться некуда. Праздник состоялся. Отец быстро напился, настроение его с каждым стаканом становилось все мрачнее, и, конечно, оно передалось гостям.
К вечеру накрыли ужин. Место рядом с отцом пустовало – в память об умершей жене. Такова традиция. Время от времени я косился на отца – он продолжал пить. Лицо его багровело с каждой выпитым бокалом, язык уже порядком заплетался. Покачнувшись, встал, обвел гостей мутным взглядом, предложил выпить в память о его покойной жене и заплакал. Слезы ручьем потекли на бороду. В наступившей тишине я потянулся за бокалом – и опрокинул соседний. Ножка отломилась. Я оцепенел от ужаса. Бокал был не какой-нибудь – из сервиза, полученного матерью в приданое. Тонкого, но тяжелого хрусталя, изящный, украшенный монограммой бокал. Неуклюжесть моя имела и естественное объяснение – я был в том возрасте, когда дети растут очень быстро, и мозг еще не привык управляться с внезапно выросшими ногами и руками. Но искреннее горе отца наконец-то нашло выход – оно перешло в раздражение и ярость. Он поднял меня за ворот, влепил несколько сильных пощечин и продолжал бы, если бы подоспевшие гости меня у него не вырвали. Я, всхлипывая, пробежал через зал и выскочил на улицу. Накануне прошел последний в том году снегопад. Слуги сгребли снег с аллеи к дому, оставив между высокими сугробами и стеной лишь узкую полоску брусчатой отмостки. Там я и спрятался. Меня не нашли.
Я долго сидел и рыдал, уткнув голову в ладони, пока что-то не подсказало мне: я не один. Поднял голову и увидел бледненькую девочку с рыжими волосами. Даже и рыжими не назовешь. Представьте себе отражение пламени в начищенном медном кофейнике – вот такого цвета были у нее волосы. Она стояла совершенно неподвижно. В простеньком хлопковом платьице, будто и не замечала холода. Я не сразу заметил, что в руке у нее хрустальный бокал, точь-в-точь такой же, как тот, что я нечаянно разбил несколько минут назад. Она, глядя мне в глаза, медленно разжала пальцы. Бокал упал на камни и бесследно исчез: осколки тут же затерялись среди ледышек и обломков упавших сосулек.
Этот пасхальный прием был последней попыткой моего отца преодолеть все усиливающуюся с каждым днем меланхолию.
3
Я искал ее так, будто знал, где искать. Вслепую, как ищут воду с лозой, как ищут залежи руды рудознатцы. Помогал инстинкт и твердая уверенность: найду.
И нашел.
Незаметно подкравшаяся весна растопила снег в лесу. Ручейки талой воды прихотливо огибали корни, дымный веер солнечных лучей с трудом пробивался сквозь кроны сосен, и в этом таинственно мерцающем мареве… вот же она! Белое платье, мелькнувшее среди чешуйчатых стволов, бледное лицо, огненные волосы, тонкие, гибкие руки.
Я застыл – не знал, что делать. Да, я искал ее, терпеливо и настойчиво, но теперь, когда увидел, растерялся. Она показалась мне существом из иного мира – феей или лесовичкой. Стоял и смотрел. И она почувствовала этот взгляд – почти мгновенно. Остановилась посередине поваленного дерева, на котором балансировала, раскинув руки и слегка покачиваясь. Не убежала, а сделала почти неуловимый пируэт, обернулась и посмотрела на меня через плечо. Во взгляде ярко-зеленых глаз я прочитал одновременно вопрос и вызов. Это придало мне смелости подойти поближе.
Ее звали Линнея Шарлотта. Дочь Эскиля Коллинга, одного из многих арендаторов, кто обрабатывал землю, принадлежащую нашему роду с незапамятных времен и унаследованную моим отцом. Коллинг был человек работящий, предприимчивый и понимающий землю. Он появился в Тре Русур несколько лет назад и успел за короткий срок создать крепкое, зажиточное хозяйство. Он прекрасно понимал: чтобы подняться по социальной лестнице, упорного труда недостаточно. Старался держаться, как человек господского класса. Впрочем, довольно деликатно, чтобы не вызвать насмешек других арендаторов. Покупал жене и дочерям дорогие платья, украшения, подчеркивающие их красоту. Да и сам носил сапоги с серебряными пряжками и никогда не забывал, словно бы ненароком, выпустить на жилет позолоченную часовую цепочку.
Надо сказать, усилия его увенчались успехом. Отец выделял его из других арендаторов. Если кто-то из заранее намеченных гостей отказывался от приглашения, он всегда приглашал на наши застолья именно Коллинга. В тот пасхальный вечер, когда я впервые увидел Линнею Шарлотту, позвали и семью ее отца.
В лесу мы играли в коршуна и голубку. Мы же были совсем еще детьми, и дружба между нами была вполне естественной, хотя и довольно хрупкой. Линнея совершенно не умела управлять своими чувствами. Вдруг ни с того ни с сего могла вспылить, глаза метали гневные зеленые искры, и я в таких случаях предпочитал ретироваться. Но на следующий день она, к моему удивлению, все равно приходила и ждала меня. Она никогда не произносила вслух слова «прости» или «извини», но я постепенно научился понимать ее язык. Смущенная улыбка, стыдливый взгляд, вроде бы нечаянное прикосновение. Или звонкий смех в ответ на шутку, вовсе не заслуживающую такого бурного одобрения. И мы снова становились лучшими друзьями.
Линнея показывала мне местечки в лесу, о существовании которых я даже не подозревал: лес, как и я, не имел от нее тайн. Лосиный водопой, тайное гнездо зеленого дятла, совиное дупло. Роскошный дворец из ветвей, возведенный орлами на самой вершине корабельной сосны. Удивительно, я не замечал его раньше.
Что я мог дать ей взамен? Все, что у меня было, принадлежало Линнее. Иногда, после очередного приступа ее гнева, я пригибал ветки подлеска к земле, переплетал их, строил нечто вроде шалаша для защиты от ветра и глотал слезы, когда при малейшей неловкости согнутые в дугу ветви высвобождались и хлестали меня по рукам.
Насколько лучше было бы, если бы время невинных детских игр продолжалось вечно! Но шли годы, и мы менялись. Природа, эта неутомимая и капризная чучельница, разочаровалась в худеньком тельце Линнеи и решила сменить набивку. В Тре Русур ничего не случалось. Хотя мы по-прежнему очень много времени проводили вместе, встречи казались мне очень короткими. Чересчур короткими. Времена года шли своим чередом, летние месяцы сливались в одно непрерывное лето, а суровые зимы с метелями и многометровыми сугробами были неотличимы, как близнецы. Внезапно до нас дошло: мы уже не дети. Обоим исполнилось четырнадцать. Зрелость подкралась незаметно, исподтишка, хотя ни я, ни она этого не хотели.
Как-то нас застал сильный ливень. За несколько мгновений платье Неи облепило тело и сделалось почти прозрачным. Она обхватила себя руками, стараясь скрыть всего лишь угадывающуюся, но оттого еще более волнующую наготу, а я стыдливо опустил глаза и уставился в мокрую глину.
После этого случая она стала одеваться по-иному. Теперь, если во время игр нам случалось прикоснуться друг к другу, нас словно отбрасывало в разные стороны и наступало мучительное молчание, которое ни она, ни я не знали, как прервать. Иногда она не появлялась по нескольку дней, а потом придумывала какие-то извинения и объяснения. Я тоже вырос и стал намного сильнее Линнеи, и старался это не показывать. Никто из нас по доброй воле не стремился сорвать яблоко познания, но наш райский сад изменился. Он стал другим, коварным и соблазнительным, но оттого еще более прекрасным.
Ее перепады настроения стали еще более бурными и неожиданными. Непродуманное слово или движение, малейшая искра – и она либо убегает, либо прогоняет меня из своего леса. Молча, почти королевским жестом – вон! Как-то я сделал попытку воспротивиться. Остался на месте. Обычно не решался, но в тот раз только что переболел инфлюэнцей и еще не преодолел свойственное больным упрямство. Она бросилась на меня, я удержал ее рукой. Она начала царапаться. Но я только слегка напряг уже заметные мускулы и засмеялся – у нее была привычка обгрызать ногти чуть не до самого ложа, и ни малейшего вреда она причинить не могла. Мой смех окончательно поверг ее в ярость, и она впилась зубами в руку, которой я ее удерживал. Не в шутку, а всерьез.
Я вскрикнул – больше от неожиданности, чем от боли. Нея отпустила руку и посмотрела мне в лицо. Полные слез глаза были полны такого безнадежного отчаяния, что я вздрогнул и хотел было утешить, но она судорожно всхлипнула и убежала. В который раз уже мелькнуло меж стволами светлое платьице – через несколько секунд ее и след простыл. А я так и стоял в оцепенении. На густой серо-зеленый мох беззвучно падали алые капли крови.
На предплечье руки, которой я пишу эти строчки, если закатать рукав, до сих пор видны следы ее зубов.
Через день я нашел Линнею. Руку забинтовали, мне пришлось носить ее на перевязи – каждое движение причиняло заметную боль. Я знал место, где она имела обыкновение прятаться, – маленькая полянка в глухом лесу. Она мне показала эту полянку еще в детстве.
Еще на расстоянии я услышал всхлипывания. Подошел поближе – она сидела, обхватив руками колени, и мелко дрожала, как дрожат осиновые листья на ветру. Я старался идти тихо, но нечаянно наступил на сучок, и она обернулась. Я не решился подойти близко.
– Что случилось, Нея? – На всякий случай я присел на корточки. Более мирную позу и выдумать трудно.
Она ответила не сразу.
– Ты бы слышал, что они о тебе говорят, Эрик, – тихо произнесла Линнея, уткнув лицо в колени.
– Кто – они? – не понял я.
– Отец… Он гордится, что ему доверено обрабатывать вашу землю. Говорит о твоем отце, старом Тре Русур, как о Боге, дескать, если бы не он, травинка бы не выросла. Как же… Сестры целыми днями щебечут о твоем брате и его друзьях-кадетах. Говорят, как о призах в какой-то игре, которые можно выиграть, только если знаешь правила. Целыми днями чистят перышки. Учатся красиво сесть в господском платье, красиво встать, красиво повернуться. Учатся вышивать цветочки и ягодки, учатся вести хозяйство и не фальшивить, когда поешь. Учатся сопровождать скромные и достойные речи страстными взглядами… и все для того, чтобы привлечь жениха побогаче. Почище, чем тот, кто их зачал.
Линнея подняла голову. Даже припухшие от слез глаза и красные пятна на щеках не могли скрыть ее красоту.
– А мне велено молчать и слушать. Отец только и мечтает отлучить меня от леса и усадить за ткацкий станок. Или ткнуть носом в Катехизис. А сестры… они нас с тобой видели и теперь проходу не дают. Они думают, все такие, как они. Даже не замечают, как все несправедливо устроено. Один рожден Коллингом, другой – Тре Русур. У одного ничего, у другого все. Отец из кожи вон лезет, чтобы подбирать крохи с вашего стола. И самое главное: его это нисколько не тревожит. Мало того: он попросту этого не замечает! Льстит твоему отцу и радуется, как ребенок, если его комплименты попадают в цель. А сестры только и мечтают, что когда-нибудь смогут смотреть на других свысока, как другие смотрят на них сейчас.
Я никогда раньше не слышал от нее подобных речей.
– Но Нея…
Она подняла руку – замолчи.
– Не знаю, что они от меня хотят, но точно знаю, что хочу я. Хочу, чтобы от меня отвязались. Оставили в покое. Я не хочу никаких мужей.
Наверняка на лице моем легко читались удивление и растерянность.
– И еще я хочу тебя, Эрик Тре Русур, – почти неслышно прошептала она. – Если я когда-то и мечтала о ком-то, теперь мечтаю только о тебе. И снишься мне только ты.
Меня охватила горячая волна почти невыносимого счастья.
– И я тебя очень хочу. Никого другого. Я знаю, что тебе снится. Мне самому снился такой сон много раз. Будто ты и я под венцом. Муж и жена.
Линнея грустно покачала головой.
– Не представляю… не представляю себя в роли благородной дамы. Сижу у себя в поместье и перемываю косточки другим таким же. А встретимся – лучшие подруги. Благородные дамы! Их дружелюбие и хорошие манеры – маскарадный костюм для зависти.
Я засмеялся. Линнея говорила не как четырнадцатилетняя девчонка, а как умудренная опытом и разочарованная женщина.
– Тре Русур унаследует старший брат. Мне-то вряд ли что достанется. Так что насчет богатства можешь не волноваться. Нам оно не грозит. Свобода – сколько угодно. Свобода ценой бедности… – сказал я и запнулся.
Меня словно загипнотизировало ее неожиданное красноречие, и я ни с того ни с сего заговорил тоном уверенного, знающего себе цену мужчины. На самом-то деле мальчишеская робость никуда не делась. Как сказала Линнея? Маскарадный костюм. Детская робость примерила маскарадный костюм мужчины, и он оказался ей не по росту.
– Да… ценой бедности, – повторил я на всякий случай. – Но если… если ты все же хочешь… ну, в общем…
Она продолжала плакать, но мне показалось, что теперь это были скорее слезы радости и понимания.
– Да. Очень хочу. Тысячу раз – да!
Она вскочила и обняла меня с силой, какую никак нельзя было ожидать в уже почти оформившемся, но все же хрупком теле. Мы стояли так довольно долго, а потом она взяла меня за руку и проводила почти до нашей усадьбы.
Остановилась, встала на цыпочки и поцеловала в губы. Я никогда в жизни не целовался. Ну и что? Искусство это не менее древнее, чем само человечество, так что вряд ли требует особого обучения. Я зажмурился. В фиолетовой тьме, под закрытыми веками, появилось ярко-желтое пятнышко с фиолетовым кантом. Оно мгновенно выросло и взорвалось радужным фейерверком. Сквозь губы, сквозь эти крошечные пухлые комочки плоти лился волшебным потоком весь запас любви – любви, в которой мне до этого мига было отказано. Впервые в жизни я почувствовал себя настоящим, полноценным человеком. Колени подогнулись, я дрожал всем телом, и слезы, мои и ее, эта растворенная в воде соль, праматерь всей земной жизни, – наши слезы слились воедино.
4
Мой старший брат Юнас, служивший в гвардии, взял увольнительную, чтобы помочь с организацией уборки урожая. Раньше я про это не думал, а благодаря ему понял: наша с Линнеей любовь ни для кого в Тре Русур не секрет. Уже на следующий день он позвал меня в конюшню – дескать, пошли, покажу нового коня, закрыл ворота и с кривой улыбкой треснул по плечу.
– Слышал от конюхов, вроде бы ты хороводишься с дочкой нашего арендатора?
Я уставился в пол и не сказал ни слова.
– Красивая, говорят, девка, – продолжил он, посмеиваясь, – но не забывай – деревенщина! Тебе бы, Эрик, повыше целиться… Не скажу про все остальное, но мордашка у тебя – дай Бог каждому.
Мои щеки залила краска, и это, похоже, развлекло его еще больше.
– Злые языки поговаривают… скажи-ка, она и вправду маленько не в себе? Считает себя особенной… дурочка, короче. Думаю, так и есть. Иначе не объяснишь – как ей удается выдержать твое общество?
Юнас ткнул меня кулаком в бок – не обижайся, мол, шучу. Давай, рассказывай, как вы с ней милуетесь.
Я по-прежнему молчал. Он покачал головой и поднял палец – смотри, парень, доиграешься. И оказался прав. Я не видел Линнею Шарлотту несколько дней – шел праздник урожая. Как только закончилось веселье, меня вызвал отец.
Кто-то ему доложил.
Уже несколько недель я почти не видел отца, и только теперь заметил, насколько он сдал. Меланхолия все углублялась и углублялась, за несколько месяцев он постарел на несколько лет. Лицо покрылось морщинами, когда-то роскошная шевелюра сильно поредела. Похудел не меньше, чем на полпуда, щеки, когда-то пухлые и гладкие, ввалились так, что я даже испугался. Гардины в его роскошном кабинете были задернуты, яркое послеполуденное солнце сюда почти не проникало, а узкие полоски света между шторами только подчеркивали мрачную торжественность обстановки.
Он велел мне присесть на один из двух стульев, поставленных друг напротив друга, – думаю, специально для этого разговора.
– Учитель говорит – ты почти забросил занятия, – обреченно вздохнул отец.
Я виновато склонил голову и молчал – все-таки лучше, чем врать.
Он выждал еще немного и перешел к делу.
– Предполагаю, ты с ней спишь, – не столько спросил, сколько заявил отец.
Я почувствовал, как краснею, и отрицательно замотал головой. В ушах чуть ли не взрывами отдавались удары сердца.
Очевидно, ответ был для него неожиданным, и следующий вопрос последовал не сразу.
Отец встал, подошел к окну и слегка раздвинул шторы.
– А почему? – спросил он, не оборачиваясь. – Эрик… ты младший сын в семье. Это не самый лучший жребий. Ты прекрасно понимаешь: имение унаследуешь не ты, а старший сын, Юнас. А тебе, чтобы продолжить наш род, придется потрудиться и найти хорошую партию. Если тебе так уж нужна женщина, есть сотни отцов, и они готовы очень щедро заплатить, чтобы их дочери рожали дворян.
У меня закипали слезы обиды, и это не ускользнуло от внимания отца. Он недовольно поморщился, покинул место у окна и опять сел на стул.
– Пойми меня правильно. Я же не говорю, что ты должен немедленно порвать с этой девицей Коллинг. Ничего подобного. Забавляйся с ней, сколько хочешь. Забеременеет – ничего страшного; прокормим и бастарда, найдем и ей хорошего мужа. Не обеднеем. Но жениться на ней никто тебе не позволит, Эрик. Никто из Тре Русур не женился на простолюдинках. Никто и никогда.
Я изо всех сил потер щеки, и у меня еще больше загорелось лицо. Заговорил и чуть не застонал от стыда – так жалко звучал мой голос среди тяжелых штор, книжных полок и набивных штофных обоев.
– Ее отец – состоятельный фермер, – чуть ли не пробормотал я. – Для меня достаточно.
Тут и отцу пришел черед покраснеть, только не от смущения, а от гнева.
– Значит, нестроганый щелястый пол тебе милее нашего паркета? Значит, пока ты ее тискаешь, шелковые простыни не нужны? Сойдет и вшивый соломенный матрас? Ты думаешь, нам даром досталось все, что ты видишь вокруг? Ничем не пришлось пожертвовать? И ты плюешь на все, что твои предки добывали жертвами, мечом и трудом? И только потому, что тебя дернул черт влюбиться в деревенскую девицу?
Я почти никогда не возражал отцу, а если и возражал, то потом горько раскаивался. Но захлестнувшая меня любовь придала мужества.
– Я люблю ее больше жизни. – Мне казалось, я вполне владею собой, но голос все же сорвался на фальцет. – Мы уже помолвлены, пусть не перед алтарем, но Бог нас услышит! Услышит, укрепит и поддержит!
Отец меня оборвал. И заговорил – странно, с хриплым бульканьем, как забытый на огне чайник.
– Твоя мать отдала жизнь, чтобы ты появился на свет! Ты и тогда был ленив и ни к чему не пригоден, ты покинул ее лоно слишком поздно и разорвал его в клочья! Господи, сколько счастливых лет мы могли бы прожить вместе, если бы не ты! Ты отнял ее у меня. И что ты делаешь, чтобы искупить этот страшный грех? Хочешь погубить и свою жизнь! Жизнь, купленную такой страшной ценой! Ты…
Он прервался и молчал довольно долго – пытался успокоиться.
– В декабре тебе будет пятнадцать. И запомни – после этого должно пройти еще три года, прежде чем ты будешь вправе самостоятельно принимать подобные решения.
– Буду ждать столько, сколько понадобится, а если…
Отец поднял руку с растопыренной ладонью – помолчи.
– Я посылаю тебя на юг. Сен-Бартелеми[6]. У моего знакомого там торговые дела, он и для тебя найдет местечко, если я попрошу. Исполнится восемнадцать – у меня никаких прав помешать тебе вернуться и делать, что хочешь. Остается только право надеяться – а вдруг возьмешься за ум. И думаю, это не пустая надежда: посмотришь мир и наверняка забудешь все эти глупости.
Я вскочил так резко, что стул чуть не упал.
– Никогда! Никогда ее не оставлю! – Я на подгибающихся ногах двинулся к двери, но меня остановил отцовский окрик.
– Запомни: откажешься ехать в колонию, буду вынужден лишить ее отца права на аренду. Выбирай сам!
Я выскочил из кабинета как ошпаренный и буквально ворвался в свою спальню. Отец расставил мне ловушку, из которой нет выхода. Растерянность и отчаяние сменились бешеной яростью. Я даже не подозревал, что на такое способен. Я словно ослеп, будто на голову накинули мешок. Ничего не видел, кроме кровавого тумана. А когда очнулся – обнаружил, что стою посреди разгромленной комнаты. Опрокинутый шкаф, сломанные стулья. Я долго не мог понять, что произошло. Будто стал свидетелем театрального представления. Прошел первый акт, все замечательно. Занавес опустили, а когда подняли – полный хаос. Забыли сыграть сцену, объясняющую, откуда он взялся, этот хаос. Посмотрел на руки – кулаки окровавлены, суставы опухли… если бы не это свидетельство, я бы наверняка решил – потерял сознание. Потерял сознание, а в это время неизвестный злоумышленник разгромил мою спальню.
Именно тогда я догадался, что поцелуй с Линнеей приоткрыл в моей душе некий шлюз, шлюз, за которым дремала неведомая и опасная сила, готовая прорвать плотину, как только возникнет призрак разлуки с любимой. Я не мог позволить себе отказаться от Линнеи. Войска, о которых я даже не подозревал, стояли в полной боевой готовности, чтобы защитить мою любовь.
Такой припадок слепой ярости случился со мной тогда в первый раз в жизни. Но, к моей вечной скорби, не в последний.
5
Я, разумеется, тут же бросился ее искать. Но ни в одном из условленных мест, где мы обычно встречались, ее не было. Ни на поляне, ни у поваленного бревна, ни у родника.
Оседлал коня и помчался к Эскилю Коллингу. Оказывается, Линнею Шарлотту отослали к родственникам. В глазах ее отца метался ужас. Подумать только… во мне, четырнадцатилетнем подростке, он видел чудовище, готовое обратить его жизнь в руины.
Я взял коня под уздцы и побрел домой. По щекам моим текли слезы отчаяния. На опушке на камне сидела мать Линнеи. Она молча указала мне на место рядом.
– Как я вас увидела, тебя и Линнею, сразу подумала: добром не кончится. А что я могла сделать? Она девчонка упрямая, на своем стоит, как… как этот камень. Только ждать: авось переболеет… – Фру Коллинг впервые посмотрела мне в глаза. – Я-то чего боялась? Думала, барчук поиграть захотел, потанцевал и забыл. Игрушка на лето.

