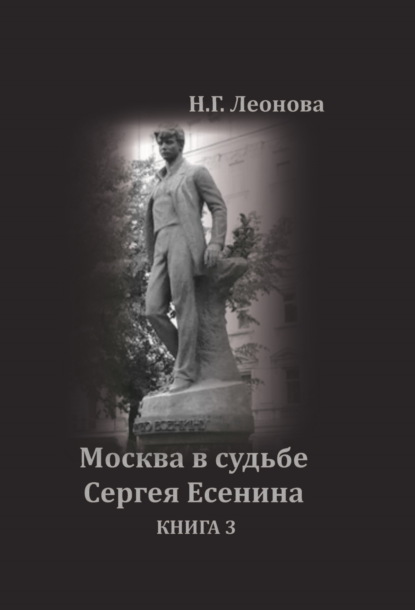
Полная версия:
Москва в судьбе Сергея Есенина. Книга 3
Нина Серпинская, поэтесса, современница Бальмонта и Есенина, дополняет Петровскую, иллюстрируя выше сказанное о «женах-мироносицах»: «Внутри его квартиры захлопали все двери: из каждой выглянула настоящая, будущая и бывшая жена. Все заахали, заохали – да как же Константин Дмитриевич поедет в такую даль (Спасопесковский— Сухаревская-Садовая), может простудиться, может случиться автомобильная катастрофа…» И для сравнения – эпизод, описанный Надеждой Вольпин, подсмотренный ею в коммунальной квартире Галины Бениславской: «И вот он возлежит калифом среди сонма одалисок. Дубины стоеросовые!
Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, глазастую, кажется, Аню Назарову.
Идет глупейшая игра. «А он не бешеный?», «Пощупаем нос. Если холодный. Значит, здоров!» И девицы наперебой спешат пощупать – каждая – есенинский нос. «Здоров!», «Нет, болен, болен!», «Пусть полежит!»
Есенин отбивается от наседающих ценительниц поэзии».
Бальмонт был женат 3 раза. Есенин 4. Еще пример. Две женщины были последовательно увлечены сначала Бальмонтом, потом Есениным. Первая – влюбчивая внучка Льва Николаевича Толстого, юная Соня Толстая. В 1916–1917 она брала уроки музыки у горячего поклонника Л.Н. Толстого, музыканта и композитора А.Б. Гольденвейзера, и посещала его уроки на Пречистенке, 9. В гостях у музыканта познакомилась с Константином Дмитриевичем Бальмонтом, влюбилась сначала в его стихи, а потом и в самого поэта. А в 1925 году вышла замуж за Есенина. Вторая – Агнесса Рубинчик. Бальмонт посвящал стихи и ей и ее сестрам. Был влюблен в каждую из них. Потом у Агнессы был небольшой роман с Есениным.
Есть у Есенина и Бальмонта общее в искренности, исповедальности творчества. Надежда Петровская написала: «Бальмонт творил из жизни поэмы по кабакам и канавам арбатских переулков». О том же, но о Есенине, по сути, написала и Соня Виноградская: «Каждая строка его говорит о чем-то конкретном, имевшем место в его жизни».
Благодаря поддержке своего друга, поэта и литовского дипломата Юргиса Казимировича Балтрушайтиса в июне 1920 года Константин Дмитриевич Бальмонт получил разрешение на временный выезд за границу. На родину Бальмонт уже не вернулся. Ни политической, ни административной карьеры в России Бальмонт, конечно, не сделал. Он бедствовал в большевистской России, бедствовал и вне Родины. Его письма из заграницы удивительно напоминают письма Есенина друзьям из поездки по миру. Поэту пришлось задержаться в Ревеле, ожидая немецкой визы (он ехал в Париж, через Берлин). В письме бывшей жене от 19.07.20 Константин Дмитриевич написал: «Ревель – красивый старинный город. Но жизнь здесь пустая и ничтожная. А вид толстых обжор и пьяных грубиянов столь противно необычный, что хочется проклинать буржуазию, – занятие бесполезное. Русские, которых встречаю, беспомощно слепы. Они ничего не понимают в современной России». Для несчастного Бальмонта пути назад уже не было. Он умер в нищете, потеряв рассудок, от воспаления легких в богадельне под Парижем.
Когда-то юный Есенин, работая в Типографии И.Д. Сытина, восхищался тем, как поэт Бальмонт оформляет свои рукописи, сдавая их в набор. Собирал сборники поэта в свою личную библиотеку. Потом, под влиянием времени, стал относиться к К.Д. Бальмонту с иронией. Сетовал, что назвал сына Константином. Но похвала поэта-символиста его порадовала… Бальмонт и Есенин – поэты милостью Божией… Оба очень любили свою Родину. Ранний Есенин похож на раннего Бальмонта. У вас есть возможность сравнить.
Безглагольность
Есть в русской природе усталая нежность,Безмолвная боль затаенной печали,Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,Холодная высь, уходящие дали.Приди на рассвете на склон косогора, —Над зябкой рекою дымится прохлада,Чернеет громада застывшего бора,И сердцу так больно, и сердце не радо.Недвижный камыш. Не трепещет осока.Глубокая тишь. Безглагольность покоя.Луга убегают далеко-далеко.Во всем утомленье – глухое, немое.
Константиново. Рассвет на Оке
Войди на закате, как в свежие волны,В прохладную глушь деревенского сада, —Деревья так сумрачно-странно безмолвны,И сердцу так грустно, и сердце не радо.Как будто душа о желанном просила,И сделали ей незаслуженно больно.И сердце простило, но сердце застыло,И плачет, и плачет, и плачет невольно.1900 Константин Бальмонт
Константиново. Рассвет на Оке
* * *Есть светлая радость под сенью кустов Поплакать о прошлом родных берегов И, первую проседь лаская на лбу, С приятною болью пенять на судьбу. Ни друга, ни думы о бабьих губах Не зреет в ее тихомудрых словах, Но есть в ней, как вера, живая мечта К незримому свету приблизить уста. Мы любим в ней вечер, над речкой овес, – И отроков резвых с медынью волос, Стряхая с бровей своих призрачный дым, Нам сладко о тайнах рассказывать им.

Константиново. Рассвет на Оке
Есть нежная кротость, присев на порог,Молиться закату и лику дорог.В обсыпанных рощах, на сжатых поляхГрустит наша дума об отрочьих днях.За отчею сказкой, за звоном стропилНесет ее шорох неведомых крыл…Но крепко в равнинах кобыльих луговПокоится правда родительских снов.1917 Сергей ЕсенинБрюсовские «Среды»
Константин Бальмонт с горячностью утверждал, что у Брюсова «лицо нераскаявшегося грешника» и «неестественно красные губы вампира». Юлий Айхенвальд, умнейший, обладавший редким поэтическим чутьем, во всеуслышанье заявлял: «Не талант – а преодоление бездарности». Корней Чуковский бесцеремонно подливал масла в огонь: «От Белого моря до Черного – ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь. Все правильно, по стандарту. А поэзии и в помине нет».
Несмотря ни на что, поклонение Брюсову было прочным и длительным: толпы учеников, подражателей, обожание девушек, писавших восторженные письма с просьбами принять, выслушать и посоветовать. Раз в месяц по средам у Брюсова за чайным столом собирались поэты, и читали по очереди свои произведения. Право критики принадлежало лишь Валерию Яковлевичу. Если стихотворение ему совсем не нравилось, он молчал несколько секунд, а потом давал слово следующему. Критиком он был строгим, безапелляционным, но очень толковым. Всякий, кто хотел у него кое-чему научиться, проводил это время с большой пользой для себя. Брюсов настойчиво призывал начинающих гениев работать неустанно, не полагаясь на вдохновение.
Сначала встречи проходили на Цветном бульваре, 24 (современный адрес 22). В доме семьи Брюсовых было 8 квартир, 6 из них сдавали внаем. С 1910 года поэты приходили уже на Мещанскую, 32 (Проспект Мира, 30).
Андрей Белый вспоминал дом Брюсовых на Цветном бульваре: «Поминается белый домик на Цветном; синий номер: <…> здесь бывал я у него; я не помню устройства и цветов; мне бросалось в глаза: чистота, строгость, точный порядок; стояли лишь необходимые вещи; в столовой, малюсенькой, – белые стены, стол, стулья; и – только: в смежной комнате, вблизи передней (с дверями в столовую и кабинетик) – седалища: малый диванчик, – и полки, полки, полки, полки, набитые книгой, его кабинетик».

Цветной бульвар, дом 22

Проспект Мира, дом 30
Брюсов был, прежде всего, талантливым педагогом. Он обладал редким даром зажигать учеников своим восторженным горением. Он любил русский язык бережной любовью и страдал, когда встречал в стихах явные погрешности.
На «Средах» Брюсова бывали преимущественно поэты-москвичи. В разные годы здесь встречались и выступали: С. Соловьев, Андрей Белый, В. Гофман, Муни, Н. Асеев, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, К. Большаков, М. Волошин, И. Грабарь, Ф. Сологуб, А.Н. Толстой, И. Рукавишников, С. Есенин, А. Кусиков, В. Шершеневич, А. Крученых, И. Северянин, В. Ходасевич, А. Чеботаревская, В. Маяковский и др.
Из имажинистов чаще всех приходил Вадим Шершеневич. Он считал себя учеником Валерия Яковлевича. В «Великолепном очевидце» он описал свою первую встречу с мэтром символизма: «Я шел по Воздвиженке. Среди прохожих, среди ленивых извозчиков, среди падающего снега и похрустывающего от мороза воздуха навстречу мне мелькнуло ненастоящее лицо. Шел человек среднего роста, в бобровой шапке, с поднятым воротником. Лицо сплошь ассиметричное, спрыгнувшее с портрета кубиста, резкие скулы, замороженные усы, рысьи глаза и тросточка в руках.
Я узнал его, но не поверил. Не может быть, чтоб вот так просто, по той же Воздвиженке, на которой я жил и по которой я сейчас шел, около Офицерского общества и дома Шереметева проходил и «он»».
«Среды» Брюсова посещали и С. Есенин, и А. Кусиков, и Рюрик Ивнев. Есенина подозревали в намеренных опозданиях: в целях привлечения к себе внимания. Владислав Ходасевич описывал «среды», позволяя себе критику: «Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более.
Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди.
Чувство равенства Брюсову было совершенно чуждо.<…> «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай»: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара. Брюсов умел командовать или подчиняться. Проявить независимость – означало раз и навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой человек, не подошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит».
Возможно, этим объясняется тот факт, что на «Средах» Брюсова Есенин был не частым гостем.

Валерий Брюсов
В 20-е годы жизнь в доме Брюсовых протекала тревожная, неуютная, «похожая на нищету». Но Валерий Яковлевич не разделял возмущение семьи наступившей хозяйственной разрухой. Родным казалось, что все это его даже занимало.
В кабинете Валерия Яковлевича была замечательная библиотека с редкими изданиями. Однажды в квартире раздался звонок, и в переднюю ввалилась группа с ордером из местного Совета рабочих депутатов на реквизицию: «Завтра пришлем грузовик за всеми книгами. А пока… чтоб ни одного листочка не пропало. Иначе придется вам отвечать перед революционным трибуналом!»
Когда горничная закрыла дверь за непрошенными гостями, сказала оцепеневшим хозяевам: «Барыня, а вы бабу-то узнали? Да ведь это прачка Дарья. Помните, у ней всегда столько белья пропадало? Еще покойная Матрена Александровна хотели на нее в суд подавать! А вы, барин, не убивайтесь. Неужели на такую прачку не найти коммуниста покрупней? Да я бы на вашем месте к самому Ленину пошла!» После обеда Брюсов позвонил Луначарскому. «На следующий день – ни жуткой бабы, ни страшного грузовика», – вспоминала Бронислава Матвеевна Рунт, свояченица Брюсова. Брюсов старался «слиться с жизнью». Он владел техникой стиха, но стихи того времени порой переставали быть брюсовскими и начинали подозрительно напоминать стихи Маяковского (по словам его остроумной свояченицы).
В 1921 году у Валерия Яковлевича состоялись две судьбоносные встречи: и Троцкий, и Луначарский звали его работать. Троцкий, очевидно, хотел доказать Европе, что коммунисты не такие варвары, как их изображают, Луначарский же предложил основать кафедру поэзии и стихосложения – это было заветной мечтой Брюсова. Он возглавил Литературно-художественный институт, ставший им. В.Я. Брюсова еще при его жизни, в связи с юбилеем в декабре 1923 года.
Большую часть зимы 1923–1924 Брюсов провел в постели, мучаясь тяжелым бронхитом с частыми приступами кашля. В.Я. Брюсов скончался в 1924 году. Институт просуществовал с 1921 по 1925 год, и был расформирован.
Сонет к форме
Есть тонкие властительные связиМеж контуром и запахом цветка.Так бриллиант невидим нам, покаПод гранями не оживет в алмазе.Так образцы изменчивых фантазий,Бегущие, как в небе облака,Окаменев, живут потом векаВ отточенной и завершенной фразе.И я хочу, чтоб все мои мечты,Дошедшие до слова и до света,Нашли себе желанные черты.Пускай мой друг, разрезав том поэта,Упьется в нем и стройностью сонета,И буквами спокойной красоты.1895 Брюсов В.Я.Свояченица В.Я. Брюсова
Было бы несправедливостью обойти молчанием незаурядную личность Брониславы Матвеевны Рунт – свояченицы Валерия Яковлевича Брюсова, сестры его жены Жанны (Иоанны) Матвеев- I ны, переводчицы, тонкой, ' остроумной мемуаристки, литературного критика, «надсмешницы» – по выражению Андрея Белого.
В 1996 году коллекцию Государственного музея В.В. Маяковского пополнил «Альбом автографов поэтов Серебряного века Брониславы Рунт» в изящном коричневом, натуральной кожи переплете, с замочком и тройным золотым обрезом – бесценный объект изучения. В альбоме 88 листов, на 27 страницах – рукописные автографы 10-20-х годов XX века – Д.Д. Бурлюка, В.Ф. Ходасевича, И.В. Северянина, Ф.К. Сологуба, К.А. Большакова, А.Б. Кусикова, В.Г. Шершеневича и других поэтов. От поэтического наследия Константина Большакова почти не осталось ничего, а в альбоме Брониславы – 3 стихотворения! На нескольких страницах— автографы Брюсова: 8 кратких комментариев в стихах, экспромтов. В 2006 году на основе этого альбома мизерным тиражом издана книжечка «Автографы из старого альбома». Составитель и автор сопроводительного текста – М.А. Немирова, хранитель музея. Эта книжечка позволила немного расширить сведения о Брониславе Рунт.

Бронислава Рунт
Рунт, как оказалось, – фамилия второй жены австро-венгерского подданного Матвея Францевича Сладека. Матвей Францевич и трое его старших детей – Иоанна, Бронислава и Юлиус, после смерти матери переехав в Москву, взяли эту фамилию. Всего в семье было шесть детей – Иоанна, Бронислава, Юлиус, Мария, Ядвига и Петр. Иоанна родилась в Праге, Бронислава – в Варшаве. В Москве Матвей Францевич работал литейным мастером на заводе братьев Бромлей («Красный пролетарий»). Все дети получили прекрасное образование.

Жанна (Иоанна) Брюсова
Жанна (Иоанна) Матвеевна (1876–1965) и Бронислава Матвеевна(1885–1983) блестяще владели французским языком. Обе учились в католическом французском пансионе Сен-Пьер и Поль в Милютинском переулке близ Мясницкой. Несмотря на разницу в возрасте, были очень близки. В феврале 1897 года Жанна Матвеевна поступила гувернанткой в семью старообрядцев, купцов второй гильдии Брюсовых (Цветной бульвар,22) для занятий французским языком с младшими братом и двумя сестрами студента Университета, любимца родителей, Валерия Яковлевича Брюсова, умника и ловеласа. 28 сентября того же года Иоанна (Жанна) Матвеевна и Валерий Яковлевич обвенчались в Храме Иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине (Фестивальная улица, д 77а).
Когда старшая сестра вышла замуж, Броничке было 12 лет. В 14 она получила от Валерия Брюсова первый урок. Однажды мимо гуляющих парами по Мясницкой воспитанниц пансиона проехали санки, в которых, нежно обняв даму в красной ротонде, сидел Валерий Яковлевич. Броня радостно поклонилась ему, он не ответил. За чайным столом Бронислава весело рассказала при всех об этом происшествии. Сестра вспыхнула и вышла из комнаты. Раз и навсегда девочка запомнила укоризненные слова зятя: «Разве о таких встречах рассказывают?»

Французский лицей в Милютинском переулке, дом 7А
Поэт встал и пошел объясняться с женой. Страстная натура Брюсова всегда жаждала новизны. Жанна стоически переносила увлечения мужа и напоминала сестре: он – символист.
Музыковед Л.Л. Сабанеев об увлечениях Валерия Яковлевича писал: «В нем был научный дух и научная усидчивость – я думаю, что он мог быть хорошим ученым. Даже те «миги», которые символисты любили «ловить», он ловил как-то «по-научному», словно предмет исследования».
Видимо, глядя на брак любимой сестры, Бронислава стала феминисткой. Говорила, что Брюсов «высушил Жанну, как цветок для гербария». Клялась, что никогда не выйдет замуж, и очень не любила детей…
Она писала о Брюсове: «Брюсов, вероятно, умел быть и задушевным, и внимательным с теми дамами, за которыми ухаживал. Иначе как объяснить те бесконечные телефонные звонки, настойчивые письма, которые приводили в отчаянье несчастную Иоанну Матвеевну? Не одними же стихами (порой замысловатыми и не каждой понятными) привлекал Брюсов женские сердца, не перестававшие трепетать еще долго после того, как поэт остывал».
Одна из его жертв, Нина Петровская поэтично написала: «В ту осень В. Брюсов протянул мне бокал с терпким вином, где как жемчужина Клеопатры растворена его душа <…>».
В журнале «Русская мысль» Валерий Яковлевич заведовал литературно-критическим отделом, в главном журнале символистов «Весы» был редактором, и в обоих изданиях к тому же – постоянным автором. Из-за нехватки технического персонала Брюсову приходилось отвлекаться на утомительные обязанности корректора, что отнимало у него уйму времени. В письме Вячеславу Иванову он сообщает: «Я решил найти для редакции лицо, которое могло бы делать всю неответственную работу: читать непоследние корректуры, переводить не столь важные отрывки и письма корреспондентов, ездить в типографию, вести корреспонденцию и т. д. Это, вероятно, сократит мне работу».
На роль секретаря Брюсов выбрал свою повзрослевшую свояченицу. Бронислава оказалась энергичной и ответственной. Год спустя, он, уезжая из Москвы, оставлял на нее даже важные дела и вел с ней переписку.
Окна заднего фасада гостиницы «Метрополь» смотрят на Китайгородскую стену, именно здесь располагались комфортные, дорогие квартиры. В одной из таких квартир находилось книгоиздательство «Скорпион», существовавшее на средства щедрого мецената Сергея Александровича Полякова. Здесь и работала Бронислава. Она вошла во вкус, и фактически возглавила журнал «Женское дело» на Большой Дмитровке, 26 (дом не сохранился), хотя официально редактором был некто Попов. На книге «Венок Stefanos», подаренной свояченице, Брюсов написал: «Дорогой сопутнице в звездном мире между созвездьями «Скорпиона» и «Весов» Брониславе Матвеевне Рунт. Декабрь 1905. Валерий Брюсов».
Одаренная от природы, Бронислава многому научилась у Валерия Яковлевича. «Должна сказать, что в области русского языка и литературы он долгое время был моим учителем, очень требовательным и столь же сведущим», – писала свояченица. Благодаря учителю она и сама стала писать не только рецензии и статьи, но и рассказы, повести, киносценарии. Бронислава Матвеевна посещала «Среды» Брюсова, Литературно-художественный кружок, «Свободную эстетику». При поддержке Валерия Яковлевича выступала как переводчик французских романов, серьезный и добросовестный.
В 1910 году по сведениям адресно-справочной книги «Вся Москва» Бронислава еще проживает с семьей Брюсовых на Цветном бульваре. В том же году Брюсовы переезжают на Мещанскую (современный адрес: Проспект Мира, 30). Доподлинно известно, что Бронислава Матвеевна постоянно жила в этом доме с 1918 по 1923 годы. Где-то в середине 10-х годов XX века снимает (согласно справочнику «Вся Москва» за 1916 год) подвальную квартирку в доме 10 по Дегтярному переулку. Этот период ее жизни ознаменован открытием здесь «Кружка Брониславы Рунт». Кружок был очень популярен, о чем свидетельствует Дон-Аминадо (Аминодав Пейсахович Шполянский, критик, поэт, журналист), сравнивая «Кружок» с наипопулярнейшими местами встреч творческой молодежи: с «Десятой музой» (Камергерский переулок,1), со «Стойлом Пегаса» (Тверская, 37, дом не сохранился), с рестораном «Риш» в Петровском пассаже (Петровка,10), с Кафе-кондитерской Сиу в Пассаже братьев Джамгаровых (Кузнецкий Мост,12).
Об уютной квартирке Брониславы Рунт Дон-Аминадо вспоминает с ностальгией:
«Никакого художественного беспорядка, ни четок, ни кастаньет, ни одной репродукции Беллестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шаляпина с Горьким в ботфортах, ни засушенных цветов над фотографиями молодых людей в усиках.
– Если б я всех кавалеров на стенку вешала, да еще засушенными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербариум. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представить! – с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома».
Эту милую хозяйку и ее квартирку в Дегтярном переулке, 10 посещали: адвокат М.Л. Мандельштам, Е.В. Выставкина, В.В. Маяковский, Анна Мар (Леншина (Бровар) А. Я.), В. Ф. Ходасевич, В.Г. Шершеневич, Г.Б. Якулов, С.Я. Рубанович, Нина Заречная (Софья Абрамовна Кочановская), Маша Каллаш (религиозный публицист) и многие другие.
Дон-Аминадо: «До поздней ночи, до слабого утреннего рассвета кричали, шумели, спорили, превозносили Блока, развенчивали, защищали Брюсова, читали стихи Анны Ахматовой, Кузмина, Гумилева, говорили о «Железном перстне» Сергея Кречетова, глумились над Маковым, Меем, Апухтиным, Полонским.

Дегтярный переулок, дом 10
Маяковский рычал, угрожая, что с понедельника начнет новую жизнь и напишет такую поэму, что мир содрогнется.
Ходасевич предлагал «содрогнуться всем скопом и немедленно, лишь бы не томиться и не ждать». <…> А милая наша насмешница Броня Рунт, «председательница оргий», могло ли ей прийти в шалую ее голову, замученную папильотками, обрамленную завитушками, что много, много лет спустя, где-то в угловом парижском кафе, на бульваре Мюра, два когдатошних аборигена, два усердных посетителя ее Вторников или Сред в Дегтярном переулке будут не без печали, смешанной с благодарностью, – вспоминать далекое прошлое <…> и на экземпляре «Счастливого домика», подаренного поэтом Ходасевичем автору настоящей хроники, будут написаны последние, грустным юмором овеянные гекзаметры?
Общею Музой была Бронислава когда-то,Помню остроты ее, и черты, к сожалению, помню.Что ж? Не по-братски ли мы сей девы дары поделили?Ты унаследовал смех, а мне досталось уродство».С приходом большевиков книгоиздательство «Скорпион» выселили из комфортной квартиры в «Метрополе», весь запас бумаги и мебель реквизировали. Бронислава Матвеевна вернулась в квартиру на Мещанской, к сестре и зятю. Давала уроки иностранных языков детям. Уставала ужасно. В отсутствие хозяйки, принимала гостей, угощала чаем.
В 1923 году приняла решение переехать в Чехословакию, где у них жили родственники. Октябрьскую революцию она не приняла. Смерть близкого человека, музыканта Михаила Круглова, могла ускорить это решение. В РГБ хранится удостоверение «Чешского комитета» в Москве, полученное еще в 1915 году, подтверждающее, что она чешка по национальности. (Чехословакия была создана 28 октября 1918 года, просуществовала до 1993). Получив в июне 1923 года в Чехословацкой миссии в Москве паспорт, в июле Бронислава приехала в Чехословакию. Приехала без знания языка, без средств. По всей видимости, положение ее было непростым, т. к. она писала прошение за прошением о ссуде. Обращалась к Министру иностранных дел Чехословакии Доктору Гирса. Писала в Комитет по улучшению быта русских писателей и ученых, проживающих в Чехословакии. Откликнулся Комитет, назначив 600 крон. Остановилась в Братиславе, там жил брат Юлиус. К тому времени в Братиславе собралось около тысячи русских эмигрантов. У них была довольно активная культурная жизнь. Бронислава говорила на четырех языках (кроме чешского) и вскоре познакомилась с лингвистом Валерием Александровичем Погореловым (1872–1955). Это был крупный ученый, филолог-руссист. Он переехал в Братиславу в 1922 году по приглашению кафедры русского языка и литературы Университета им. Я. Коменского. Он тоже не принял революцию, уехал в 1919 году из России в Болгарию. Встретились в Братиславе. Так Бронислава Матвеевна стала спутницей и другом вдовца, от первого брака имевшего шестерых детей (двух совсем маленьких) и взяла на себя семейные обязанности. В РГБ хранится письмо В. Погорелова от 14 апреля 1934 года Жанне Матвеевне Брюсовой, где Валерий Александрович пишет: «Я счастлив признаться перед Вами, что чем дальлыне мы живем с Броничкой, тем больше я понимаю и ценю ее редкие свойства и дарования». Из переписки сестер видно, что Бронислава не забывала своих родственников в России, посылала деньги и продуктовые посылки. Связь прервалась в период оккупации Чехословакии немцами. Перед освобождением Братиславы Советской Армией, супруги уехали на Запад, с приходом американских войск

