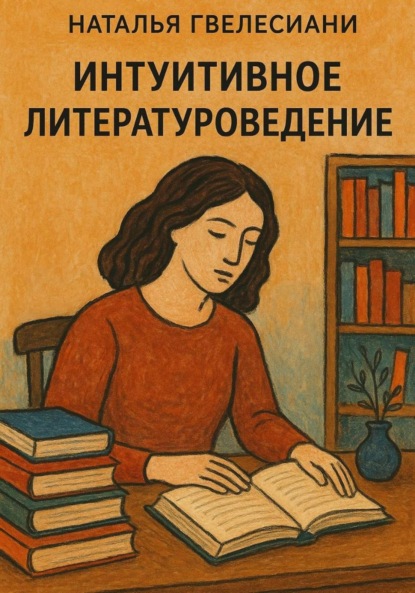
Полная версия:
Интуитивное литературоведение
От страшного таинственного величия, которое у досемилетней Цветаевой олицетворялось в «бесцветных, безразличных и беспощадных» глазах игрушечного черта, люди могли защитить таких экзистенциальных детей только за своими призрачными стенами. Но надо было как-то выживать и им тоже пришлось укрыться в предложенной реальности, хотя люди раздражали их уже своим отношением к природе, а некоторые даже доводили до бешенства издевательствами над бездомными животными. Одна девушка рассказывала, что родители даже застали ее вкушающей на четвереньках пищу из одной миски с кошкой. Жизнь их в этом внешнем мире была какая-то полусонная, походила скорее на фотографию былого. Былое просачивалось в тогдашнюю память проблесками сияния, наполнявшего душу то теплом и спокойствием, то страхом и трепетом. Порой возникали необычные видения, чаще всего пугающие.
Психолог Эрих Берн заметил в одной из своих работ, что младенцы, по-видимому, целиком пребывают в стихии чистой поэзии. (Сравним с цветаевским: «Идите в… детство, если можете – в младенчество. Там – корни» («Наталья Гончарова»).
В устах психологов это не положительный момент, а констатация факта, вытекающего из отсутствия у новорожденных жизненного опыта и абстрактного мышления. В фрейдистском толковании мир младенческих грез и переживаний – это концентрированное либидо, эквивалент бессознательного в его несублимированом виде.
Такого рода указатели – либидо вместо стихия – еще одно массовое – под прикрытием науки – отступление от того, что мы так романтично назвали божественной сыновностью. Постмодернистское перекодирование культуры, освобождая сознание от многих ложных мифов – политических, научных, культурно-религиозных – выплескивает, однако, вместе с водами и ребенка. В органической поэзии детей несомненно содержится жизненная сила (Эрос, либидо), но разве содержание исчерпывается силой? Что заставляет младенца выделять, включая в свою личность из познавамого им мира людей то, что созвучно его поэтической среде, а от несозвучного – с отвращением отворачиваться?
Не имея мыслей и слов, младенец, по-видимому, способен охватить все то, что в дальнейшем выпадает из поля зрения под влиянием страха, авторитета, необходимости познавать среду непосредственного обитания, приобретать умения и навыки. Поэзия его отнюдь не сентиментальна, она символична, глубинно-мифологична и глубоко экзистенциальна.
Почему поэзия? Потому что стихия. Стихия обнаженной души. Вывернутая наизнанку Раковина в безбрежном океане Вселенной. Раскрытая в Океан Раковина – загадочна и бездонна. Но Раковина, став Каплей по неизвестным нам причинам, должна выделиться из Океана, а не раствориться в нем.
Какое мужество должно быть у ребенка, чтобы удержаться на вечно колеблемых волнах! И кто из нынешних смертных может стать ему опорой?!
Диалектика развития такова, что ребенок может выжить только обретя панцирь из умений и навыков, соответствующих обществу, в которое его забросила данность, соответствующих общественному, а не детскому способу познания. И в тоже время панцирь, сколоченный в процессе забвения и самозабвения – верный способ умереть, если, повзрослев, человек не предпримет деятельной попытки вырваться из своей временной крепости.
Его шансы тем больше, чем тоньше было в его детстве общественное сознание с идеями, которые носятся в воздухе и которые ребенок схватывает на лету без мыслей и слов остатками непрерывно разрушаемых здравых структур. И если педагогика отстает, – а практическая педагогика всегда отстает не столько в способах подачи этих идей, сколько в умении гениально их схватить цельным детским восприятием, – то это значит, что человек, не веря ей, двигался вслепую.
Движение вслепую, увы, очень часто – наилучший выход.
Остро чувствуя топорность любых воспитательных подходов, Лев Толстой даже призывал в своих педагогических статьях вовсе отказаться от попыток указывать молодому поколению какое-либо направление, в первую очередь потому, что осознавал всех стоящими на бездорожье. Цель образования вне отвергнутых им задач воспитания сводилась к простому уравниванию знаний между учителем и учеником, причем последний имел полное право перенимать лишь те знания, которые соответствовали его индивидуальной природе, а от тех, которые ее калечили – закрываться.
Очевидно, Толстой имел в виду неподавленного изначального Ребенка, который, пребывая вне принятых в обществе преходяще-косных критериев добра и зла, интуитивно способен удержать свою подлинность. Но проблема в том, что "отпадение" ребенка в больном обществе – процесс очень ранний, закономерный и трагически-неизбежный. Осознав это, Толстой в дальнейшем отошел от педагогики и углубился в религиозно-нравственную проблематику, отказавшись заодно от художественного творчества в духе классического реализма. Интуитивно Толстой прощупывал пути к глубинному реализму, но спотыкался о собственные рационалистические конструкции.
Впрочем, тенденция к глубинному реализму, как и Достоевскому, была ему свойственна всегда, – особенно в эпопее «Война и мир».
Касаемо непосредственного восприятия действительности ребенком, приведем несколько примеров.
Один наш знакомый вспоминал о своем школьном "недопонимании":
Получив контрольную работу, он "долго медлил, тупил над заданием". К примеру, предлагалось порассуждать над таким определением из учебника, как "Общество – это часть материального мира". При попытке обосновать его своими словами с привлечением полученных ранее знаний, мальчик впадал в недоумение, во-первых, уже от убогой пресности формулировки. Образы, связи, ассоциации, которые проносились в его голове, большей частью бессловесно, никак не складывались в столь одностороннюю картину. А между тем контрольное время подходило к концу.
С высоты теперешнего опыта он говорит, что если бы кто-то дал ему тогда понять, что у понятия "общество" есть множество формулировок, что знания об обществе не исчерпываются формулировками, он, вероятно, вовремя выработал бы, наряду с общим взглядом с высоты по-детски незащищенного полета, другой – узкоспециализированый подход к решению конкретно-ограниченого участка проблемы. На наш вопрос: "Но разве кто-то акцентировал твое внимание на однозначности? Разве разноплановость не прорисовывается логично в курсе школьных предметов?" – собеседник отвечает:
"В школьном преподавании наук нам не хватало чего-то, что обеспечивало бы их синтетическое восприятие. Это что-то можно назвать философией наук. Теорией теорий. Без этого связующего центра все распадалось на неприменимые к жизни знания, точнее, вроде бы наоборот применимые, но непонятно зачем. Ребенок ведь не хочет знаний затем, чтобы получше устроиться в жизни. Он хочет понимать жизнь, понимать, зачем все это? Не задумываясь, он подсознательно воспринимает как свое, кровное лишь то, что согласуется с высшими законами жизни".
Подобную же ситуацию я встретила в статье К. Ф. Вайцзеккера (немецкого физика и философа, директора (1969-80) Института Макса Планка) "Физика и философия":
"Одна из основных трудностей, с которой я столкнулся, изучая физику, состояла в том, что слова и понятия, используемые людьми весьма эффективно при решении проблем, мне показались чрезвычайно сложными для понимания их значений, того, что в этих понятиях действительно стремились выразить. Поэтому, когда я узнал, что физики говорят о пространстве и времени, об энергии, о потенциальной энергии, о реальности, мне было трудно понять, что все это означает. С другой стороны, сначала я думал, что физики очень хорошо понимали их смысл поскольку могли хорошо использовать эти понятия. Но вскоре я обнаружил – во многих случаях знание физиков о способах приложения этих понятий объясняется просто тем, что они узнали об этом от своих учителей. Я обнаружил, что существовало общепринятое использование этих понятий без размышления об их смысле".
Узкая школьная специализация вне высших духовных вопросов, (на которые никто, быть может, не может ответить, но надо же их ставить со всей искренностью!), вносит раскол в детскую психику. Дети не увязывают то, что им преподают с практическим опытом, с внутренними своими запросами. И постепенно приучаются относится к школе как к досадной необходимости отнимать время у настоящей жизни, еще отчасти натуральной, полной невинных забав. Мертвое, не увязанное с индивидуальностью знание, только захламляет, заземляет, уродует личность.
Вот рассказ еще одного "умственно отсталого":
"Помню, как отталкивали меня не только уроки литературы, но и сама литература. Я в школьную пору совсем не читала книжек. Открыв учебник, скользила взглядом по какому-нибудь "салтыкову-щедрину" и – тут же захлопывала. Чувствовала, наверное, что автор не соответствует современности, глубинным ощущением жизни. Не чувствует еще одной ступеньки, на которую лучшие из нас поднялись. Точнее, наши учителя не чувствуют, что прошлому надо отдавать дань уважения, но не выжимки любви, которые они пытались из нас выдавить ложью восхищения. Зато, когда я случайно открыла страницу с "Преступлением и наказанием" – со мной случился настоящий культурный шок. Я впервые почувствовала сквозь буквы все – все: желтую пыль города, туман, одиночество, привкус депрессии. Это был мой класс! Я весь роман прочитала не отрываясь – до конца. Но прочувствовала – еще с одной странички, ею в книге могла стать любая. Как?! Наверное, мы с Достоевским шли вровень. Однако, учительница, словно не замечала основной проблематики романа. Напирая на набившие оскомину слова "тварь ли я дрожащая или право имею?", в то время как далее по тексту Раскольников сам говорит: "Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай: Когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил… так и знай!". Раскольников не каялся перед народом – "В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один призрак… они сами миллионы людей изводят, да еще за добродетель почитают… Так ведь они же сами надо мной смеяться будут, скажут: дурак что не взял, трус и дурак!" Раскольников ринулся от тоски "в возможность этого цельного, нового, полного ощущения." Он все хотел выпрыгнуть из своей действительности. Действительности более не внешней, а внутренней! Он все размышлял, как он будет смотреть на мир после своей внутренней перемены – "Вот и вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: "Таварищество", ну вот и запомнить это а, букву а, и посмотреть на нее через месяц, на это самое а: как-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?" Раскольников совершал поступки ожидая, что они переменят его в процессе действия. Туманно надеялся совершить "квантовый скачок" подкрепив к текущим мыслям, радикальное и не свойственное ему (пусть и кажущееся рационально бесцельным) действие. Он не знал, да и не думал о том, куда идти; он знал одно: "Что все это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же; что домой он иначе не воротится, потому что не хочет так жить". Чувство неправильности этого "так" – это и есть экзистенциальное чувство. Удивительно, или вернее – не удивительно, Достоевский сам выделил курсивом слова "тогда" и "попробовать". Но учительница, руководствующаяся вероятно, методическим указанием для учителей, расставила акценты на второстепенном."
Над чистым листом бумаги долго "тупят" лишь самые пытливые и бесхитростные. Как тут не вспомнить ненависть к гимназиям и ее неспособность долго в них удерживаться вроде бы никогда не «тупившей», с 6-ти лет писавшей стихи и с 10-ти – дневники Цветаевой и ее собственное признание, что она была «в детстве такая несообразительная, недогадливая» («Пушкин и Пугачев»). («Ибо сыны века сего догадливее сынов света в некотором роде». (Евг. от Лк, 16:8). А также учительскую подпись под первым французским сочинением: «Чрезмерное воображение и слишком мало логики», которую она не забыла и даже упомянула в анкете, присланной ей Пастернаком. Наводят на размышления и ее нелады с точными науками. Слово «точные» так и подмывает поставить в кавычки…
Над чистым листом бумаги «тупят» самые отчаянные.
Остальные с той или иной степенью легкости приучаются воспринимать, думать и отвечать по трафарету. Им не приходится рефлексировать над очевидными нестыковками взрослого мира, осуществлять каждый раз выбор не в пользу кратчайшего решения, а в пользу отсутствия явной пользы. Американская модель образования вконец делает ребенка приспособленцем, она преподносит ему трафарет на блюде в окружении пряников. В результате наши люди отстают от американцев в умении быстро проходить тесты на интеллект, но превосходят их в духовно-цельном и базово – теоретическом видении проблем. Скорость снижена за счет активации множества естественных связей, которыми обусловлено задание. Они вытекают далеко за пределы отдельно взятого задания.
Активация таких связей происходит на уровне подсознания, вначале – без мыслей и слов, что субъективно ощущается как пауза в мышлении, а перед экраном компьютера, где фиксируется время тестирования, ощущается – как интеллектуальный и моральный провал… Ходят исторические слухи, что результатом такого рода "тупежей" у юного Эйнштейна стала исподволь вызревшая теория относительности.
Но не все особо одаренные дети – а одарены они все – становятся счастливчиками, подобно Эйнштейну, Вайцзеккеру и др. На мой взгляд, некоторые случаи шизофрении – самого массового психического заболевания, в котором, по мнению психиатров, видны как в зеркале, в сгущенном виде многие аспекты душевного разлада современного homo sapiens, – можно рассматривать в свете нашей гипотезы утраченной целостности.
Для нас важна особенность шизофренического мышления, которая заключается в том, что больной осуществляет преждевременные обобщения там, где их не должно быть по законам здорового, не связанного с жизненным опытом смысла. Хотя формально – логически, вне связи с практической жизнью, такие обобщения возможны. Например, на вопрос: "Что объединяет между собой ножницы, катушку с нитками и наперсток?", больной отвечает, что во всех этих предметах содержатся круглые отверстия. Очевидное "предметы для шитья" странным образом ускользает из поля зрения либо оказывается на его периферии – в последнем случае опрашиваемый упоминает правильный ответ как один из вариантов. А ведь интеллектуальный уровень у незапущенных больных, в свете новейших научных подходов, как правило, не снижен.
Дело в том, что, оказавшись в раннем детстве между молотом и наковальней – между пугающе многослойной Вселенной с одной стороны и бегущей от нее плоскостью человеческой цивилизации – с другой, ребенок может подсознательно принять судьбоносное решение не входить в подсистему "Человечество", если в ней его что-нибудь радикально не устраивает, пугает. На практике осуществить подобное невозможно, он все равно войдет, но только наполовину, внешне, оставаясь бесчувственным к высшим смыслам чисто человеческого существования, пусть и системно ограниченным. Не зная глубинным чувством высшего человеческого смыслообразования, не пропитавшись его экзистенцией, он основательно запутывается с тем, что считается у людей частностями. И в конце концов, не увязав их ни с чем, смешивает частности в одну безразличную кучу, элементы которой он может группировать по любым, часто самым причудливым критериям, благо, что интеллект этому не препятствует.
По сравнению с замкнутой от Вселенной системой цивилизованного человечества – радикально протестуя против этой чисто человеческой замкнутости – он в силу своей недиалектичности сам становится… суперзамкнутой системой, равно от всех удаленной, бесконечно одинокой. Такие люди лишены социокультурного панциря и знают только два состояния: либо безусловную, мертвящую от всего отгороженность, либо столь же полную и непродуктивную распахнутость, когда Молот и Наковальня оказываются словно в центре их крохотного существа… У них словно нет себя, и поэтому в непознанном нет ничего, кроме страха.
Прирожденному Ребенку ведома иерархия, согласно которой человечество – лишь подсистема Вселенной, а Вселенная – подсистема некоего Центра, Источника, (Бога?), существом которого понизаны все уровни. Все это вместе он воспринимает из своей духовной пуповины цельно-поэтически. Человечество может быть адекватно-радостно принято им лишь как часть мировой гармонии. Для этого его должен встретить по выходе из родового канала такой же знающий, чуткий и восприимчивый взрослый, в симбиозе с которым ребенок учится дышать и жить в ритмах великого Дао.
Но, увы, общественное сознание еще далеко от того, чтобы переводить такие вещи в плоскость реальной повседневной практики. Родительская любовь, благодаря которой должно, по идее, осуществиться божественное единение Матери и Дитя на Оси Вселенной
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



